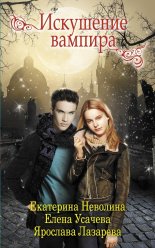Чужие сны и другие истории (сборник) Ирвинг Джон

Предостережение звучало таинственно и весьма литературно, но «ухажер» был упрям (добавлю, что он не блистал умственными способностями).
— И что же это за оружие, малышка? — ухмыляясь, спросил он. (Во всяком случае, так это звучало в версии Джона Кейси.)
— Сплетня, — ответила Гейл Голдвин.
Одновременно с нами в Писательской мастерской учились Андре Дубьюс (ударение в его фамилии падает на второй слог) и Джеймс Крамли. Помню, Вэнс Бурджейли устроил у себя на ферме пикник, и там произошло дружественное «сражение на пирогах». Не то в Дубьюса, не то в Крамли запустили куском бостонского сливочного пирога, который живописно застрял в волосатой груди «жертвы». Почему случилось это сражение и кто бросался пирогом — этого моя память не удержала. Могу только поклясться, что это был не я. Скорее всего, Дэвид Плимптон. В Эксетере мы встречались с ним на борцовских матах. Капитан нашей школьной команды, он был на год старше меня. По странной иронии судьбы, мы снова встретились с ним в Айове (до этого Плимптон успел побороться в Йельском университете).
Арену «Карвер-Хоки» — крупный зимний стадион — построили только в тысяча девятьсот восьмидесятом году. А тогда борцовский зал находился на самом верху прежнего университетского крытого стадиона. Тренером был Дейв Мак-Каски. Ко мне он относился дружелюбно, но неизменно критиковал мою физическую форму. С его подопечными я мог бороться на равных, но только в течение трех-четырех минут. Затем мне нужно было сесть на мат, прислониться спиной к стене и передохнуть. Мак-Каски такие «фокусы» не нравились. Если я не в той форме, чтобы полновесных девять минут состязаться с его парнями, незачем вообще выходить на мат. Мне было вполне достаточно поупражняться в захватах, потом я отдыхал и снова упражнялся. Этот мой отдых «спиной к стене» всегда сердил тренера Мак-Каски.
Дэвид Плимптон, находившийся не в лучшей форме, чем я, тоже любил состязаться с ребятами тренера Мак-Каски и тоже выслушивал его замечания. Мы с Плимптоном придерживались иного мнения: мы считали, что предоставляем свои стареющие тела в качестве бесплатного «тренировочного материала», позволяя зеленым мальчишкам отрабатывать на нас мастерство. Но хозяином в зале был все-таки тренер Мак-Каски. Порядки устанавливал он, и я уважал его за это. Никаких передышек, привалившись спиной к стене! Я не спорил, однако мои появления в борцовском зале стали эпизодическими. Я приходил туда, когда хотелось, чтобы меня помучили. Плимптон тоже ходил туда от случая к случаю.
Лучше всего нам с Плимптоном было бы тренироваться вдвоем, однако мы сильно разнились по весовым категориям. В Йельском университете Плимптон выступал в категории до ста девяноста одного фунта (я в Питсбурге — в категории до ста тридцати фунтов). С тех пор каждый из нас набрал по пятнадцать — двадцать фунтов, и все равно мы не могли бороться в парс: между нами по-прежнему оставалась разница в шестьдесят фунтов.
Через семь лет, когда я вернулся в Айова-Сити, чтобы преподавать в Писательской мастерской, борцовский зал оставался на прежнем месте, зато атмосфера изменилась. Главным тренером стал Гэри Курдельмейер, чемпион Айовы пятьдесят восьмого года. В семьдесят втором у него появился помощник — Дэн Гейбл, чемпион мюнхенской Олимпиады, получивший золотую медаль за победу в весовой категории до ста сорока девяти с половиной фунтов. Среди борцов было много студентов выпускного курса и выпускников. Годы моего преподавания (с семьдесят второго по семьдесят пятый) совпали с лидированием борцов из Айовского университета, что являлось заслугой Дэна Гейбла. (Гэри Курдельмейер оставался главным тренером в семьдесят пятом и семьдесят шестом годах, когда команда дважды завоевывала чемпионский титул. Затем главным стал Гейбл. Под его руководством ребята выиграли чемпионат в семьдесят восьмом. Помощником Гейбла тогда был Дж. Робинсон, ныне — главный тренер команды борцов Миннесотского университета.)
Брэд Смит, Чак Ягла, Дэн Холм, Крис Кэмпбелл — все впоследствии стали национальными чемпионами — тренировались тогда в зале «на верхотуре». Там всегда было людно, однако и Курдельмейер, и Гейбл с неизменным радушием встречали меня, даже если я мог продержаться всего две минуты, а потом приваливался к стене и отдыхал. В статусе преподавателя я выдерживал уже только две минуты.
На нескольких состязаниях мое место на зрительской скамье оказывалось рядом с местом бывшего тренера Дейва Мак-Каски. Наши мнения совпадали. Мы, как и все, восхищались Гейблом. Три победы в национальном масштабе (за всю карьеру тренера в Айовском университете команда Гейбла проиграла лишь один раз). Стараниями Гейбла ни зрительские трибуны, ни борцовский зал никогда не пустовали. Всем хотелось побороться лично с ним — пусть даже в течение двух минут. Как и остальные, я не мог отказать себе в удовольствии испытать волнующее мгновение, за которым неизменно следовало мое поражение. Борясь с Дэном Гейблом, я ни разу не получил ни одного очка. Утешало лишь то, что я оказался в хорошей компании. На Олимпиаде семьдесят второго года в Мюнхене, где Гейбл завоевал золотую медаль, никто из его противников тоже не смог получить ни одного очка.
Победа в олимпийских соревнованиях по вольной борьбе без потери очков равносильна выигрышу в мужском финале Уимблдонского турнира со счетом 6:0 во всех трех сетах, победе в чемпионате по бейсболу «Уорлд сириз» и так далее. Еще удивительнее, что Гейбл из успешного борца превратился в успешного тренера. В тысяча девятьсот девяносто пятом году Айова в четвертый раз за последние пять лет победила в соревнованиях НССА. В том же году они в пятнадцатый раз стали общенациональными чемпионами. Я считаю это абсолютным рекордом для команды любого университета в любых соревнованиях по любому виду спорта. В девяносто пятом году борцы Айовского университета в семи весовых категориях из десяти дошли до полуфинала НССА. Дэн Гейбл, всегда стремящийся к лучшему, был разочарован. Мало того, случился досадный проигрыш в категориях до ста пятидесяти и до ста девяноста фунтов.
Борцовские соревнования и турниры служат «годичными кольцами» моих воспоминаний. Мои студенческие воспоминания о Писательской мастерской часто смешиваются со временем моего преподавания там; я даже путаю своих однокурсников со студентами, которым преподавал. Но я всегда могу вспомнить годы (и не только в Айове) по борцам, с кем состязался. Я быстро вспоминаю, кто тогда был тренером и в каком месте проходили соревнования. Возможно также, моя «забывчивость» является свидетельством практической, деловой атмосферы, царившей в Писательской мастерской. Потому мои студенческие годы так похожи на годы преподавания. И тот и другой период были для меня счастливым временем.
С Доном Хендри-младшим мы вместе учились в Эксетере, но в разных классах и практически не общались. В дальнейшем судьба свела нас в Писательской мастерской (в мои студенческие годы). Впоследствии Хендри стал автором четырех романов и сборника рассказов. В течение нескольких лет он координировал программу по писательскому творчеству для студентов-дипломников в Алабамском университете. Сведя нас в Айове, судьба продемонстрировала еще большую иронию, чем в случае с Дэвидом Плимптоном. Когда мы с Хендри учились в Эксетере, то ухаживали за одной девушкой. Она вышла замуж за него, а Дон стал моим другом (особенно мы сблизились в Айова-Сити). Наши дети росли вместе. Когда я преподавал и работал тренером в небольшом вермонтском колледже, Хендри преподавал в таком же небольшом колледже, но в Нью-Гэмпшире. Нас разделяло около часа пути. Затем, когда он перебрался в Массачусетс и преподавал в колледже Маунт-Холиок, через какое-то время за ним последовал и я.
У Хендри была привычка наделять героев своих романов внешностью его друзей, где мы, естественно, появлялись под вымышленными именами. Меня это не обижало: мне нравился стиль повествования Хендри, где страстность имела дразнящий оттенок. В последний раз я появился в его романе «Исследование пляжей Атлантического побережья»[24] под именем сценариста Барри Кесслера. Он вывел меня «неистовым спортсменом средних лет, обожавшим бег на длинные дистанции и поднятие тяжестей».
Мы с ним постоянно спорили об Оскаре Уайльде: Хендри любил его творчество, а я — нет. Кстати, я не испытываю неприязни к посредственным писателям за их посредственность; так что вовсе не посредственность Уайльда отворачивала меня от его творчества. Его гомосексуальные увлечения тут тоже ни при чем (хотя в тогдашней Англии это считалось «верхом непристойности»; Уайльду дали два года тюрьмы, после которых он так и не оправился). Наоборот, нужно было бы восхищаться этим писателем за воспевание им такой «похабщины», как содомия (так мне казалось в мои молодые годы). Мне было ненавистно в Уайльде его стремление высмеивать тех, кто стоял неизмеримо выше его. Неужели он так завидовал Диккенсу и Флоберу, что не мог не исторгать колкости в их адрес?
Конечно же, Уайльда за его «похабщину» не стоило заключать в тюрьму даже на один день. В дальнейшем жизнь поставила его на то место, которое он действительно заслужил: чаще всего имя Уайльда встретишь в каком-нибудь сборнике цитат, где его высказывания имеют вполне пристойный, морализаторский вид. А вот у произведений Флобера и Диккенса по-прежнему есть читатели. (Уайльд банален тем, что в мире всегда хватало писателей, образ жизни которых привлекал более пристальное внимание, нежели их творчество.)
Я говорю все это потому, что время моей работы над данным фрагментом воспоминаний как раз пришлось на столетнюю годовщину вынесения несправедливого приговора Оскару Уайльду. Как и следовало ожидать, это событие не прошло без щедрого расточения похвал в его адрес. Я знал, что непременно столкнусь с «перлами» вроде: «Заключение Уайльда в тюрьму обернулось величайшей трагедией для литературы». Но я не знал, что всю эту восторженную и раздутую шумиху мне придется переносить одному. Дон Хендри умер, а кроме него, у меня не было никого, с кем бы мне хотелось спорить об Оскаре Уайльде.
Хендри часто ухитрялся продолжать личные споры, перенося их на страницы своих романов. Я принимал это как забавное чудачество. «В дверях возник Барри Кесслер. Он встал, уперев руки в бока. У него на ногах были беговые туфли и чистые белые гольфы до колен. Одежда Барри состояла из тонких зеленых шортов и безупречного вида футболки. На ее нагрудном кармане красовалась надпись мелкими буквами: “Оскар Уайльд — дерьмо”. Барри был невысок ростом, с узкой талией и широкой грудью. У него было огрубевшее, покрытое морщинами лицо бывшего актера детского театра (причем успешного актера), сумевшего сохранить уверенность и ценою весьма напряженных усилий даже прибавить ей убедительности».
Дон Хендри умер в марте девяносто пятого года, за два дня до тридцатилетия моего сына Колина. Он страдал болезнью Паркинсона. Инсульт, случившийся с ним четырьмя годами ранее, лишил его былого великолепного владения языком. Сам будучи писателем, я просто восхищался тем мужеством, с каким Хендри переносил потерю слов. Он ни разу не пожаловался. За месяц до его смерти мы беседовали у меня дома в Вермонте. Хендри, безуспешно пытаясь вспомнить нужное слово, встал из-за стола и пошел на кухню. Я отправился следом. Там он указал на холодильник.
— Вот эта штука, где пища делается холодной, — сказал он.
Через неделю он попал в автомобильную аварию. Это случилось в штате Мэн. Когда Хендри выписали из больницы, это был хрупкий человек, который уже с большим трудом ориентировался в пространстве. Помимо страданий, доставляемых ему болезнью Паркинсона, у него возникли проблемы с сердцем. Последнюю ночь он провел в доме своей бывшей тещи вместе со старшим сыном. Утром они позавтракали, и Хендри вышел прогуляться вокруг дома. Там с ним случился сердечный приступ. Он упал на Фронт-стрит — улице, где я рос в бабушкином доме. (Хендри не был уроженцем Эксетера. Он поступил в Академию, затем женился на местной девушке. За многие годы Эксетер сделался для него родным домом.)
Став отцом, я продал свой мотоцикл не кому-нибудь, а Хендри. Через два года он тоже женился. На свадебной церемонии в Эксетере я был его шафером. Торжество происходило в ресторане «Эксетер-Инн», расположенном все на той же Фронт-стрит, где почти через тридцать лет он умер. (Кстати, через два года после моего развода Хендри тоже развелся.)
Я тоскую по нему. Когда я думаю о нем, то вижу его студентом Писательской мастерской. Я тогда тоже был студентом, и мы вслух читали друг другу то, что написали, и говорили разную чепуху вроде «Оскар Уайльд — дерьмо». Правда, тогда это не казалось нам чепухой.
Можно сказать, что по жизненным событиям Хендри шел следом за мной. Когда я женился и стал отцом первенца, Хендри еще проходил период ухаживаний, только готовясь жениться и стать отцом. Мы тогда оба были начинающими писателями. Оба работали в университетской библиотеке, возвращая на место сданные книги. Оба подрабатывали во времена футбольных сезонов, продавая вымпелы, жетоны, пищалки, колокольчики и прочее. Оба обслуживали посетителей в одном тошнотворном ресторане на «полосе Коралвилл». Зачем я об этом пишу? Мы с Хендри виделись ежедневно, делали множество пустяшных дел, но каждый день испытывали воодушевление, поскольку нас ждало писательское будущее. Этим мне и запомнился Дон Хендри.
Я не помню студента Писательской мастерской Тома Макхейла, будущего автора романов «Пристанище Фаррагана»[25] и «Принчипато».[26] Должно быть, я встречал его в Айова-Сити, но мы не были близко знакомы. Не помню я и «потрясающей бельгийской подружки» Макхейла. Так ее описывал Джон Кейси, которого очень удивило, что я не помню этой девушки. (В тысяча девятьсот восемьдесят втором году Том Макхейл покончил с собой; некоторые утверждают, что он умер от сердечного приступа.)
Зато я хорошо помню Джонатана Пеннера. Он был рослым парнем. Меня особенно впечатлял его профиль. Помню, как он наматывал круги по дорожке крытого стадиона, где ежедневно бегал и я. Пеннер запомнился мне сильным, неутомимым бегуном; он бегал гораздо быстрее меня. Однако главным, на что я обращал внимание в Айове, было развитие моих писательских навыков. Нередко писатели запоминают реальных людей хуже, чем выдуманных героев своих произведений. Меня бы не удивило, если бы Пеннер, прочитав эти строки, однажды позвонил мне и сказал, что вообще не бегал. Ни разу. (Однако меня удивило бы, если бы Джонатан Пеннер оказался человеком невысокого роста.)
Конечно, я мог бы позвонить Андре Дубьюсу и спросить, чья грудь приняла на себя кусок бостонского пирога: его или Крамли? Можно было бы позвонить Дэвиду Плимптону и узнать, не он ли бросался пирогом и в чью грудь метил. Но я убежден: провалы в моей памяти и даже ошибки знаменуют собой правдивость иного рода: то, что мы, создатели художественных произведений, забываем или искажаем, показывает, насколько для нас значимы «воспоминания». (Я хорошо помню, какую зависть и негодование вызывал Плимптон, продавший свой рассказ в один из тех журналов, что мужчины обычно прячут от жен и детей. На гонорар он купил дробовик. Кто-то из студентов выразил надежду, что Плимптон испробует оружие на себе.)
А как сложилась судьба моих однокурсников по Айове, не ставших писателями? Один преподает английский в средней школе, другой стал профессором права, третий — клиническим психологом (этот третий — Дэвид Плимптон).
Многие мои бывшие студенты из Писательской мастерской — пишущие и печатающиеся авторы. Назову еще несколько имен. Писательницами стали мои лучшие слушатели с курсов в Бред-Лоуф: Пэтти Данн и Элизабет Хайд, а также Кэрол Марксон — моя лучшая студентка в Брандейсе.
Однако не у всех моих студентов (в Айове и в других местах) хватило сил взять литературный мир штурмом. Как сложилась их жизнь? Один стал весьма уважаемым редактором в респектабельном нью-йоркском издательстве. Другой неплохо зарабатывает, сочиняя не романы, а вестерны. Третий — директор престижной частной школы. Многие стали преподавателями английского языка в средних школах и колледжах. С особой гордостью называю имя Карен Андес, чемпионки по бодибилдингу. Она написала книгу о бодибилдинге для женщин, о том, как наращивать силу. Я мало чем смог помочь Карен с ее первым романом (он так и остался неопубликованным). Но я был первым, кто привел ее в спортивный зал и дал ей в руки гантели. Сейчас я учусь у Карен, поскольку в моем возрасте (мне пятьдесят три[27]) книга о женском бодибилдинге и наращивании силы весьма превосходит мои нынешние способности.
Но лучше всего из студенческой жизни в Айова-Сити я запомнил свои ощущения женатого человека, мужа и отца. Это отделяло меня от большинства других студентов. У них хватало времени поговорить о писательстве; мне казалось, что они только об этом и говорят. Моим единственным собеседником был Хендри; на разговоры с другими у меня не оставалось времени. Я посещал всего один курс, зато работал на трех работах с частичной занятостью. В остальное время я либо возился со своим сыном Колином, либо писал.
У нас не было телевизора. Если по телевидению показывали что-то, заслуживающее просмотра, я усаживал Колина в коляску и отправлялся в соседний квартал, где жил Воннегут. В доме Курта я смотрел репортажи о Шестидневной войне,[28] качая Колина на колене. В другой раз, когда я смотрел передачу, а Колин то сидел у меня на коленях, то ломал что-нибудь из имущества Воннегутов, у нас с Куртом возник разговор о том, что я намерен делать в дальнейшем.
Многие преподаватели и тренеры были добры ко мне, в том числе и Курт. Я сказал ему, что рассчитываю найти работу преподавателя и параллельно — место тренера по борьбе. Тогда у меня не было иллюзий насчет возможности зарабатывать на жизнь писательским трудом. Помню, я сказал Курту, что даже мысленно не представляю, как смогу жить на гонорары. А пытаться делать это в реальности означало бы обречь свою семью на нищенское существование.
— Возможно, вы удивитесь, но я думаю, капитализм отнесется к вам по-доброму, — сказал мне Воннегут.
Первым местом моей преподавательской работы стал Уиндемский колледж (ныне прекративший свое существование) в городе Патни, штат Вермонт. Уиндем был одним из колледжей, чей расцвет пришелся на время Вьетнамской войны. Изобилие студентов объяснялось нежеланием молодых парней отправляться во Вьетнам. Если бы не опасность призыва, эти ребята вообще не пошли бы учиться. Однако среди них попадались просто блестящие студенты с писательскими способностями. У некоторых проявлялись иные способности. Уиллард Сейперстон впоследствии стал моим коммерческим директором. После окончания войны Уиндемский колледж захирел и был закрыт, но к тому времени я уже в нем не работал.
Когда я приехал в Уиндем, борцовской команды там не было. Я убедил руководство колледжа купить борцовский мат. Комнатой для тренировок нам служила кладовка в местном спортзале. Там я начал свои «клубные», как их называли, тренировки. Среди моих студентов человек пять или шесть занимались борьбой в средней школе, причем двое успели побывать во Вьетнаме. Из них составилось ядро клуба. Даже самые худшие залы, в которых мне доводилось тренироваться, были значительно лучше приспособлены, но ни на что другое я рассчитывать не мог. Ребята хотели и были готовы тренироваться, поэтому я не имел права жаловаться.
Когда колледж обанкротился и с аукциона распродавалось все движимое имущество, я пошел на аукцион в надежде выкупить борцовский мат. Но мат был продан какому-то колледжу из южного штата вместе с другим спортивным и тренировочным оборудованием: вибрационными ваннами, гимнастическими снарядами, штангами, гирями и гантелями. Сомневаюсь, что тому колледжу был нужен мат (там вообще не занимались борьбой), однако правила аукциона не допускали изъятия из лота одного предмета.
Невзирая на закат Уиндемского колледжа, Патни стал хорошим домом для моих детей и моим домом, где в первом браке я прожил восемнадцать лет. Моя бывшая жена Шайла до сих пор там живет. Уиллард Сейперстон — мой нынешний коммерческий директор — оказался еще и умелым плотником, который преобразил мое «поместье» в Патни. Одну из мелких построек близ большого сарая — сарайчик, где хранились инструменты, — он переделал в кабинет. Правильнее сказать, кабинетик, но там были написаны лучшие страницы пяти моих романов. Нынче Шайла вернула ему прежние функции, вновь превратив в сарай для инвентаря. Уиллард Сейперстон, сделавший для меня первый кабинет, теперь «управляет» моими деньгами. (В этой истории я ощущаю некую симметрию, чем-то похожую на историю моего друга Дона Хендри. Он умер вблизи ресторана, где когда-то праздновал свою свадьбу, и невдалеке от дома, где родился я.)
Несмотря на сравнительно недолгую жизнь Уиндемского колледжа, я постоянно возвращался в Патни. Год я провел в Вене; там в тысяча девятьсот шестьдесят девятом году на свет появился мой второй сын Брендан. Три года я преподавал в Писательской мастерской, бывая в Патни лишь наездами. Потом — год преподавания в Маунт-Холиок и год в Брандейсе, а в промежутке я жил в Патни и работал над романами в бывшем сарайчике.
Свои первые четыре романа («Мир глазами Гарпа» был четвертым) я писал, зарабатывая на жизнь преподаванием. Исключений из этого правила было всего два. В первый раз я получил премию от Фонда Рокфеллера (теперь они больше не дают гранты отдельным писателям), а во второй — стипендию от Фонда Гугенхейма. Только два года в период с шестьдесят седьмого по семьдесят восьмой год я смог полностью посвятить себя писательству; тем не менее за одиннадцать лет я написал и опубликовал четыре романа.
Был еще один год, когда я не преподавал и не вел тренировок по борьбе. В тот год я целиком сосредоточился на киносценарии по своему первому роману «Освободите медведей». Тогда я ни разу не получил деньги в установленные сроки. Я слал отчаянные телеграммы из Вены в Лос-Анджелес, умоляя перевести мне очередную часть гонорара. Но что еще хуже — работа над сценарием отнимала все мое время и второй роман застопорился. Между тем пять черновых вариантов сценария так и не превратились в фильм. Вывод: упомянутый год оказался в писательском плане куда менее плодотворным, чем годы, когда я совмещал писательство с преподаванием и тренерской работой.
Примечание: стипендия, полученная от Национального фонда искусств и гуманитарных наук на завершение третьего романа, оказалась весьма скромной. Напрасно я рассчитывал, что на эти деньги моя семья из четырех человек сможет прожить все лето. Деньги я потратил на реконструкцию нашей единственной ванной комнаты, а сам устроился работать. Я не жалуюсь ни на ту летнюю работу, ни на Фонд искусств, который дал мне только то, что способен был дать.
От многих собратьев-писателей я слышал такое утверждение: писатель должен рассчитывать на себя и не зависеть от помощи университетов. По их мнению, писатель, зарабатывающий преподаванием, дабы освободить свое творчество от финансовых тягот, — это не настоящий писатель; он уклоняется от обязательств и оставляет пути для отступления. Что же касается моего собственного опыта, скажу: мне хотелось освободить свои произведения от диктата времени, от преждевременной публикации и от необходимости делать писательство средством заработка. Мне не приходилось оказываться в положении моих друзей, постоянно вынужденных прерывать работу над романом ради написания срочной статьи в журнал. Я не печатал сырых, недоработанных вещей из-за нужды в авансах и не страдал от гнета времени и денег.
Нынче ничто меня так не злит, как бесчувственные фразы преуспевающих писателей, которыми они, разъезжая по всей нашей стране, поучают слушателей писательских курсов и семинаров. В залах собираются хорошие авторы, вынужденные преподавать ради заработка. А их собратья по ремеслу, которым повезло стать авторами бестселлеров, с наслаждением бичуют университеты, являющиеся, по их мнению, «чрезмерно безопасными гаванями». Эти «мэтры» часто побуждают начинающих писателей жить на доходы от литературного труда и даже лицемерно предлагают «немного поголодать». Особенно противно слышать подобные лицемерные призывы, когда сам призывающий одет в дорогой, идеально сшитый костюм и когда у него заключены контракты с двадцатью пятью иностранными издательствами на переводы его романа.
Для писателей нашей страны курсы писательского мастерства — экономическая необходимость. Писателям-преподавателям они дают заработок, позволяющий им писать и дальше. А для тех немногих студентов, которые по-настоящему извлекают для себя пользу, обучаясь на таких курсах, они являются своеобразным двойным подарком. Студенты слышат слова одобрения и поддержки и имеют дополнительное время для собственного творчества. И то и другое нужно писателям, особенно молодым.
Тут есть еще одна особенность. Далеко не каждый писатель может и должен преподавать в местах вроде Писательской мастерской или на различных курсах писательского мастерства. Эта работа требует определенного уровня общительности, а многие знакомые мне писатели слишком чопорны или нелюдимы. Некоторым из них становится очень неуютно в присутствии «молодых людей». Еще больше тех, кому просто не вынести всевозможных мерзостей, укоренившихся в структуре отделений и факультетов английского языка и литературы.
В Уиндеме я был членом отделения английского языка и литературы. Так вот, один из профессоров заявил, что к голосованию по вопросам учебного процесса нельзя допускать тех, у кого нет ученой степени. Я был единственным, кто не имел этой степени. Мне пришлось выгораживать себя. Я даже польстил коллегам, назвав написание диссертации «внушительным достижением». Я посчитал необходимым сообщить им, что вскоре опубликую свой первый роман и это можно будет считать работой, равнозначной их диссертациям. А пока роман не опубликован, я не смею претендовать на участие в голосовании.
Мне казалось вполне уместным сообщить им, что затем я намерен написать второй роман, третий, а если получится — то и множество других. Это должно укрепить мое право голосовать и дать мне дополнительные права. Моя речь была выдержана в юмористических тонах, поскольку я уповал на чувство юмора собравшихся. Как это ни удивительно, но мои доводы были встречены без тени юмора. Мне вновь сухо напомнили, что в голосовании могут участвовать только те, у кого есть степень доктора философии. Сообщество узколобо защищало свои правила.
Многие знакомые мне писатели скорее согласятся без передышки писать статьи для журналов и газет, чем сталкиваться с помпезным идиотизмом академических кругов. У меня все обстояло по-иному. Я рано вставал, чтобы успеть поработать над романом (дети в доме очень этому способствуют). Потом я отправлялся на занятия со студентами. На преподавательских собраниях я думал о чем угодно, только бы не слушать длиннющие и скучнейшие речи. Потом — борцовский зал, где на два часа я забывал обо всем, кроме борьбы. К счастью для себя, я не торопился поскорее окончить роман. Я избегал контактов с профессорами и преподавателями, известными своей одиозностью и нетерпимостью к писательской братии. Вывод: обычно писатели вынуждены зарабатывать на жизнь иными способами, а не писательским трудом, чего бы им страстно хотелось. И эта ситуация с течением времени ничуть не стала лучше, если не считать нескольких счастливчиков вроде меня.
В тысяча девятьсот шестьдесят восьмом году мне авансом выплатили семь с половиной тысяч долларов за мой первый роман, который годом позже выпустило издательство «Рэндом хаус». Моим редактором был Джо Фокс. Он и по сей день остается моим «главным» редактором в этом издательстве. Мистер Фокс рассказывал мне, что сейчас начинающий литератор такого уровня и подающий такие надежды, какие подавал я со своим романом «Освободите медведей», получает первый гонорар в размере двенадцати с половиной тысяч. (Ричард Сивер, мой редактор в издательстве «Аркада», оспаривает это утверждение, считая, что и сейчас издательства платят начинающему автору в среднем все те же семь с половиной тысяч.)
В шестьдесят восьмом году моя семья (я, жена и малолетний ребенок) могла прожить на этот гонорар почти год. Но если бы я бросил преподавать и перестал вести тренировки, то был бы вынужден сразу же браться за второй роман, подгоняемый поставленными сроками. Такая спешка меня вовсе не устраивала. Я продолжал преподавать, вел тренировки и писал второй роман. Затем — третий и четвертый. Без всякой спешки.
Поверьте мне: в шестьдесят восьмом году для семьи из трех человек было куда вероятнее прожить год на семь с половиной тысяч долларов, чем сегодня — на двенадцать с половиной. Так что сумма «среднего гонорара», названная Джо Фоксом, правильная. А как же продавался мой первый роман «Освободите медведей»? Было продано около восьми тысяч экземпляров — хороший показатель для тех лет. Мы с мистером Фоксом не ожидали столь успешной продажи. Сегодня первый тираж аналогичного романа составляет от семи с половиной до десяти тысяч экземпляров. Однако стоит принять во внимание: нынче продажа восьми тысяч экземпляров не создаст у автора и редактора того ощущения успешности, какое мы с Джо Фоксом испытывали в шестьдесят девятом году.
(Я не ожидал, что десять лет спустя публикация романа «Мир глазами Гарпа» позволит мне жить на литературные гонорары. Я не скучаю по преподаванию: это была тяжелая работа, отнимавшая много времени. Но это была честная, достойная работа, полезная моим студентам… хотя бы некоторым из них.)
В частной беседе я спросил мистера Фокса: опубликовал бы он сегодня «Освободите медведей», если бы ему принесли этот роман? Мой друг Джо обычно не мешкает с ответами. А тут он задумался, потом сказал:
— В общем-то, да, но…
Думаю, он не хотел напрямую говорить «нет».
В течение одиннадцати лет я преподавал литературное творчество в разных местах, пока вышедший роман «Мир глазами Гарпа» не освободил меня от этой необходимости. Но я не прекратил вести тренировки и вел их аж до тысяча девятьсот восемьдесят девятого года, когда мне исполнилось сорок семь лет. Дело не в том, что тренерская работа нравилась мне больше преподавания. Причины были разные, но самой главной оставался успех двух моих старших сыновей в этом виде спорта. Они превзошли меня и по борцовским, и по спортивным качествам. Их тренировки значили для меня больше моих собственных скромных достижений на борцовском мате.
Колин (он учился в частной школе Нордфилд Маунт-Хермон) участвовал в ежегодном Лихайском турнире старшеклассников, где в восемьдесят третьем году завоевал титул всеамериканского чемпиона (весовая категория до ста пятидесяти двух фунтов). В том же году он выиграл чемпионат Новой Англии (класс А) в весовой категории до ста шестидесяти фунтов. По иронии судьбы, противник, которого он уложил на лопатки, был парнем из Эксетера. В результате голосования Колину присвоили звание «Выдающийся борец класса А». Он получил кубок мемориала Теда Сибрука. Я был бы счастливее, если бы живой Тед увидел достижения Колина. Тед видел его, но раньше, когда Колин лишь начинал заниматься борьбой.
— У него руки куда длиннее твоих, — сказал мне тогда тренер Сибрук. — Тебе нужно показать ему переворот с захватом рук сбоку.
К тому времени, когда Колин стал чемпионом обоих турниров восемьдесят третьего года, этим приемом он побеждал половину своих противников.
Рост Колина был шесть футов и полдюйма. Для борца средней весовой категории он считался высоковатым. Мне думается, его тренер руководствовался благими, но ошибочными намерениями. Он заставил моего старшего сына заниматься поднятием тяжестей, чтобы Колин перекочевал в категорию до ста семидесяти семи, а затем и до ста девяноста фунтов. У Колина для этого не было природных данных; он оставался рослым борцом средней весовой категории. Сегодня, когда ему тридцать, он вообще не заглядывает в зал отягощений и любит гонять на горном велосипеде. Он весит сто семьдесят пять фунтов и выглядит очень худощавым.
Его младший брат Брендан, как и я, находился в легкой весовой категории, но превзошел меня ростом. Рост Брендана — пять футов одиннадцать с половиной дюймов, но мой сын настолько тощ, что кажется, будто его рост все шесть футов. (Мой рост — пять футов восемь дюймов, «нормальный» для легкой весовой категории.) Не стану подчеркивать тот факт, что оба моих сына росли в борцовских залах и кувыркание на матах стало для них второй натурой. Помню, что Брендан и ходить учился на мате. Но если для Колина участие в соревнованиях началось только в старших классах, Брендан успел выиграть шесть чемпионатов Новой Англии в классе юниоров. (Свой первый турнир он выиграл, имея вес восемьдесят два с половиной фунта.) К тому времени, когда он начал выступать за вермонтскую Академию,[29] другие борцы и в особенности тренеры внимательно присматривались к нему. Всех интересовало, подтвердит ли он репутацию младшего брата Колина Ирвинга. Для Брендана это превратилось в тяжкую ношу: в отличие от старшего брата травмы так и охотились за ним.
Только поступив в Академию, Брендан завоевал третье место в классе А турнира Новой Англии, что явилось хорошим окончанием его неудачного сезона. Турнир проходил всего через месяц после перенесенной Бренданом операции (он повредил коленный хрящ). Брендан пропустил большую часть сезона восемьдесят седьмого года. В восемьдесят восьмом году ему прочили второе место в турнире класса А. Весь сезон Брендан провел без поражений (точнее, почти без поражений, но эти два проигрыша были вызваны его травмами). В полуфинальных состязаниях мой сын вновь травмировал то же колено и потерпел поражение от парня, которого ранее победил. Травма вынудила его покинуть класс А. Тем же летом на соревнованиях в лагере Военно-морской академии в Аннаполисе Брендан опять повредил все то же колено. Остаток лета и осень он провел на физиотерапевтических процедурах.
Помню, что Колин, перейдя в статус старшеклассника, проиграл финальные состязания класса А, причем этого противника он легко побеждал в других состязаниях. Победа в турнире досталась ему, только когда он учился в выпускном классе. Выпускной класс для Брендана начался скверно. Отслоение дельтовидной мышцы и разрыв сухожилия вращающей мышцы исключили его из состава участников Рождественского турнира. В восемьдесят девятом году Брендан был капитаном борцовской команды Академии, однако основную часть сезона провел на скамье зрителей. Когда плечо зажило, он успел провести три матча (и победить во всех трех), затем опять на три недели выбыл из строя (вспышка мононуклеоза). В довершение к этим бедам ему выбили передний зуб.
За неделю до чемпионата Новой Англии (класс А) Брендан состязался в частной школе Сент-Пол (Конкорд, штат Нью-Гэмпшир). Его противник, местный парень, явно проигрывавший состязание (Брендан провел серию переворотов с захватом рук сбоку), вдруг согнул моему сыну два пальца на правой руке и сломал их в области больших суставов. Это было явным нарушением правил (можно сгибать все четыре пальца или ни одного) и принесло Брендану победу. Но цена победы оказалась слишком высокой. Ко времени турнира пальцы, естественно, не успели срастись, и Брендану пришлось выступать с травмированной правой рукой.
На том состязании моему сыну не только нанесли травму, но и попытались его оклеветать. Мать проигравшего парня стала оспаривать судейское решение, хотя налицо было грубое нарушение правил. Если в результате запрещенного захвата борец получает травму, победа достается ему. Однако эта мамаша утверждала, что Брендан травмировал пальцы еще до состязания. Она видела лейкопластырь на одном из пальцев. (Перед тем как отправиться на взвешивание, Брендан стал счищать лед с ветрового стекла машины и содрал кожу на пальце.) Я едва удержался от желания послать крикливой мамочке видеокассету с записью поединка. Там было ясно видно, как борец из Сент-Пола ломает Брендану пальцы. Другой рукой Брендан указывал на сломанные пальцы, желая привлечь внимание судьи. Судья принял правильное решение, однако он должен был заметить, что противник Брендана применяет запрещенный прием. Тогда травмы можно было бы избежать.
Учитывая обилие травм и малое количество состязаний, проведенных Бренданом в сезоне восемьдесят девятого года, отборочная комиссия чемпионата Новой Англии по классу А не прочила ему призовых мест. В его весовой категории (до ста тридцати пяти фунтов) было несколько борцов с лучшими результатами. Я три года проработал в вермонтской Академии: первый год помощником тренера, а в течение двух последних сезонов Брендана был главным тренером. Видя положение, в каком оказался младший сын, я подумывал, не переместить ли его в категорию до ста сорока фунтов. В прежние годы Брендан побеждал борцов этой категории. К тому же в турнире восемьдесят девятого года эта весовая категория была представлена слабее. Однако Брендан, который и в раннем детстве отличался восхитительным упрямством, говорил, что его категория — до ста тридцати пяти фунтов, и он даже слышать не хотел о перемещении. (Никто из борцов не жаждет повысить свою весовую категорию.)
Турнир восемьдесят девятого года проходил в Эксетере, в новом спортивном зале, где я ни разу не боролся. (Даже не представляю, для чего теперь используется наша «яма».) При своем звучном названии — вермонтская Академия — сама школа была небольшой. В том году я собрал хорошую команду. По рейтингу мы заняли третье место, пропустив вперед значительно более крупные школы Дирфилда и Эксетера. До финала дошли трое наших борцов и двое из них победили. Одним из чемпионов был Брендан. В четвертьфинале он победил парня из школы Нордфилд Маунт-Хермон (четвертого по значимости в их команде), в полуфинале — борца из Гайда (первого по значимости). Финальная его схватка происходила с противником из Вустера (вторым по значимости). В полуфинальных схватках Брендан опять сломал пальцы и между раундами держал руку в ведерке со льдом.
На этот турнир пришел Том Уильямс (через три года он умер от рака). Приехал Колин. Приехала моя жена Дженет. В течение двух лет она не пропускала ни одного состязания с участием Брендана и делала множество фотографий. (Тогда их количество казалось мне излишним. Но чем больше времени проходит, тем больше я благодарен ей за каждый снимок.) Из Флориды приехала моя мать. Приехал посмотреть на борьбу Брендана и мой бывший сокурсник по Эксетеру Чарльз Крулак по кличке Зверь — ныне генерал Крулак. В прошлом году Чак видел Брендана на турнире «Лейк Риджин» (теперь он называется «Северный турнир Новой Англии»). Генерал Крулак пообещал приехать и на следующий год, но только если Брендан даст ему слово, что победит в турнире. Брендан дал слово и сдержал его. (Честно говоря, я и не сомневался в возможностях младшего сына. Но из-за всех его травм я начал сомневаться, сумеет ли он эти возможности реализовать.)
Трудно подсчитать время, проведенное мною на состязаниях. Еще больше времени я провел на тренировках в различных штатах и городах. После Эксетера, Питсбурга, Айовы и Уиндема я тренировал ребят в колледже Амхёрста, в букингсмской школе Брауна и Николса. Я работал в Гарварде, в нью-йоркском Атлетическом клубе, в школе Нордфилд Маунт-Хермон и, естественно, в вермонтской Академии. Это было превосходное завершение… Моя борцовская карьера и должна была закончиться в Эксетере, где она началась. Я знал, что иногда буду заглядывать в борцовские залы, что еще буду надевать борцовские туфли — хотя бы для разминки с Колином, Бренданом или с кем-нибудь из своих сверстников. Однако в новом спортивном зале Эксетера моя карьера борца и тренера закончилась.
Я проводил наших борцов до школьного автобуса и попросил моего помощника Майка Кеннеди и ребят простить меня за то, что в этот, последний раз не поеду вместе с ними. Мне хотелось вернуться в Вермонт на машине Колина, проведя часы пути вместе с моими сыновьями. Ехать предстояло долго. Мы еще находились в пределах Нью-Гэмпшира, когда Колина оштрафовали за превышение скорости. Незадолго до этого он вдохновенно рассказывал нам, какой замечательной антирадарной системой теперь оборудована его машина. Однако штрафной талон вызвал у нас только смех. Главное, Брендан, как прежде и его брат, выиграл турнир Новой Англии в классе А. Это была счастливейшая ночь в моей жизни.
Думаю, я мог бы и захандрить, сожалея о том, что моя карьера борца не имела даже половины успеха, с каким завершилась моя тренерская карьера. Но я не стану этого делать. Я считаю себя счастливчиком. Достижения детей всегда доставляли мне больше удовольствия, чем мои собственные. Я восхищаюсь своими детьми и пытаюсь ни к чему их не принуждать. Вместо этого я принуждаю самого себя.
В семьдесят шестом году мой роман «Мир глазами Гарпа» заметно буксовал. У меня были готовы три первые главы, однако я никак не мог решить, кто станет главным героем — Гарп или его мать. Я подал заявление в Фонд Гугенхейма с просьбой дать мне стипендию и еще не знал, что получу ее. В прошлый раз мне отказали. Я преподавал в женском колледже Маунт-Холиок (городок Саут-Хедли, штат Массачусетс) и тренировался в борцовском зале колледжа Амхерста.
Тренером в Амхерсте был тогда Генри Литлфилд, тяжеловес, любивший все величественное. Он отличался не только внушительной фигурой, но и внушительным красноречием. Генри обладал превосходным чувством юмора. Более того, он был настоящим весельчаком. Я бы назвал его человеком эпохи Возрождения. Таких людей встретишь нечасто, особенно среди тренеров по борьбе. Поэтому обстановка в борцовском зале, стараниями Генри, была одновременно напористой и веселой. Редкое и труднодостижимое сочетание.
Я жил в преподавательском доме, рядом со спортивным комплексом Маунт-Холиок. У Колина и Брендана для игр был громадный «двор», а также бассейн колледжа, где они плавали. Свои занятия я строил так, чтобы рано утром побегать или поупражняться с поднятием тяжестей. В середине дня я выкраивал пару часов для работы над романом. Вечером, когда дети укладывались спать, я возвращался к писательству. Во второй половине дня я обычно ездил в борцовский зал Амхерста и часто брал с собой Колина. В тот сезон ему было десять лет.
В начале сезона я весил сто шестьдесят два фунта и мечтал попасть на открытый турнир в Спрингфилдский колледж (штат Массачусетс). Турнир был намечен на межсезонный период. К тому времени я предполагал снизить вес до ста тридцати шести с половиной фунтов. Мне исполнилось тридцать четыре, и сгонять вес стало труднее, чем в юности. Через три месяца мой вес упрямо держался на отметке сто сорок два фунта, все остальное, как говорят борцы, было «просто водой». Действительно, все эти месяцы я не пил ничего, кроме воды. На завтрак я съедал грейпфрут с чайной ложкой меда, обычно добавляя к этому яблоко или банан. Мой ланч состоял из тарелки овсянки, чуть подслащенной кленовым сиропом, а обед — из рыбы на пару и овощей. Овощей я ел много.
За неделю до турнира мой вес опустился ниже ста сорока фунтов, но застопорился на ста тридцати восьми. Снизить его еще на полтора фунта и удалить «просто воду» я никак не мог. В довершение к этому я заболел бронхитом. Меня лечили антибиотиками, а они несовместимы с голодным желудком. Врач предложил одно из двух: либо нормально есть, либо отказаться от антибиотиков. Этого я сделать не мог, иначе боролся бы не с противником, а с бронхитом. Я пробовал обмануть желудок, добавив в рацион немного йогурта и обезжиренного молока. Самочувствие улучшилось, однако через пару дней я весил уже сто сорок пять фунтов. Вес в сто тридцать шесть с половиной фунтов оставался недосягаемой мечтой, хотя я знал, что это моя лучшая весовая категория. Следующей была категория до ста сорока девяти с половиной фунтов. Я приналег на овсянку, а к паровой рыбе с овощами добавил рис.
В Спрингфилде я весил (в одежде) сто сорок семь фунтов, причем перед взвешиванием я позавтракал. Остальные борцы этой категории взвешивались совершенно голыми и выдыхали из себя весь воздух, прежде чем встать на весы. Я старался не замечать, что потенциальные соперники находятся в лучшей форме, нежели я. Вдобавок я был облеплен лейкопластырем. Весь сезон я провел, выступая с вывихнутым пальцем: несколько раз подряд я умудрился вывихнуть большой сустав. Колин смотрел на меня и хмурился. Он только-только начал интересоваться борьбой и внимательно следил за процедурой взвешивания.
— О чем ты думаешь, Колин? — спросил я сына.
— Пап, у тебя вид, будто ты тянешь на сто тридцать шесть.
Мне и в голову не приходило, что турнир в Спрингфилде — мой последний турнир. Я не рассчитывал на чемпионский титул. Нет, я всего лишь надеялся выиграть один или два поединка и, возможно, занять какое-нибудь скромное место. Я даже не задумывался о том, насколько болезненно Колину видеть проигрывающего отца. Брендану той весной исполнилось шесть; он просто смотрел, как я состязаюсь, не думая о моих победах или поражениях. Но Колин был уже достаточно большим и понимал: проиграть незнакомому сопернику в борцовском поединке — совсем не то что проиграть другу пару сетов в теннис.
Своего первого соперника я бы назвал диким парнем. Мне сразу вспомнились слова Теда Сибрука: «Люди склонны переоценивать талант». Как борец парень был несомненно талантлив и очень опасен, однако он был глуп. В первом раунде я держался с предельной осторожностью. Я провел два надежных захвата, поскольку боялся, что противник применит бросок, ухватив меня за верхнюю часть туловища. Он явно намеревался это сделать, но мои захваты разрушили его замыслы. Опаснее всего этот неистовый дурень был в верхней позиции. Чувствовалось, он привык использовать ножные приемы, один из которых тут же применил ко мне. (К счастью, прием этот был не особо сильным: парень вообще намеревался согнуть мне ногу по-турецки.) Я вел со счетом 6:3, однако он сравнял счет, а я по-прежнему находился в нижней позиции. Противник вновь попытался подсунуть под меня свою ногу, но на этот раз я сумел прижать его голову к мату раньше, чем он — блокировать мою руку. Я применил самый обычный защитный прием. Тед Сибрук предупреждал меня: против борцов, умело действующих ногами, этот прием бесполезен. В данном случае мне повезло: противник хоть и уповал на силу своих ног, но действовал небрежно.
Поначалу я решил, что устроил парню сотрясение мозга, однако неистовому глупцу понадобилось всего сорок пять секунд, чтобы прийти в себя. Зато как он разозлился на меня! В спортивном поединке глупо злиться на противника, тем более что я действовал в рамках правил. Я использовал прием, которому научился у Теда Сибрука, а не у Клиффа Галлахера.
Судья остановил встречу, зафиксировав травму, однако не оштрафовал меня. Счет оставался ничейным: 6:6, а я по-прежнему находился внизу. После возобновления поединка «талантливый дурень» решил повторить свой маневр. Я повторил свой и вновь прижал его голову к мату. На этот раз он очухивался целую минуту, превысив допустимое время, в результате чего судья объявил победителем меня. Парень по-прежнему был зол. Он наверняка рассчитывал на победу, если бы не мои манипуляции с его головой. Я тоже думал, что у него были все шансы победить. Он отличался неутомимостью, но все дело портила его глупость. Я мысленно дал ему новое прозвище — «неутомимый дурень». Он заявил, что надеется поквитаться со мной в одном из утешительных состязаний. Такое вполне могло быть. Проигрыш на любом этапе (кроме финального) выталкивал меня на уровень утешительных поединков. Если «неутомимый дурень» будет одерживать там победу за победой, не исключено, что мы встретимся снова. Я искренне надеялся, что этого не случится.
(Анализируя промах своего противника, я вспомнил слова Теда Сибрука: «В этом приеме нет ничего опаснее половинчатости. Уж если ты подсунул под соперника ногу, тебе нужно за что-то ухватиться, иначе сам не заметишь, как он припечатает твою голову к мату».)
В раздевалке мой недавний соперник молотил руками по шкафчикам и лягал скамейки. После двух моих «припечатываний» у него сильно разболелась голова. Я старался держаться от него подальше, но он увязался за мной в соседнее помещение, куда я отправился сменить лейкопластырь на вывихнутом пальце.
— Не люблю, когда такие, как ты, трахают мне голову! — крикнул он мне.
В этот момент я почувствовал себя не борцом, а тренером, пытающимся успокоить рассерженного мальчишку. Я процитировал ему Теда Сибрука.
— А пошел ты! — услышал я в ответ.
Хорошо, что ему еще хватило ума не броситься на меня.
Я радовался, что ни Колин, ни Брендан не видели этой сцены. Они находились в зале вместе с Доном Хендри и его детьми. Заклеив палец, я вернулся в зал. В турнире участвовали и двое борцов из Амхёрста. В тот день я наблюдал за их поединками и даже помогал во время разминки.
Самым крепким противником в моей весовой категории был парень из Академии Береговой охраны. Он умело действовал ногами и обожал захваты на уровне бедра, против которых все мои привычные способы защиты оказывались бесполезными. Я знал: поединок с ним будет тяжелым. Здесь я допустил серьезный промах — забыл о другом противнике, с которым мне предстояло бороться в этом круге.
Тот был военным. Позже он рассказал мне, что служил в Германии и много занимался там греко-римской борьбой. Честно говоря, мне было все равно, где он служил: в Германии или в Нью-Джерси. Все мои мысли были о противнике из Академии Береговой охраны. Такая невнимательность лишний раз доказывала: моя карьера борца окончена и пора становиться тренером. В первом раунде я глупо попался на двух захватах, которых вполне мог избежать. Во втором я проигрывал ему всего три очка, но слишком рано запаниковал, неправильно провел захват, в результате чего оказался на спине. Мне удалось вывернуться, однако разрыв в очках достигал уже семи. Теперь я имел все основания для паники. Провести захват я не сумел — сигнал возвестил начало третьего раунда. Разрыв сократился до шести очков. Я снова вывернулся из захвата противника и провел свой. Ему назначили штрафное очко за затягивание времени. Вдобавок мне удалось получить еще одно очко за контроль над противником. Однако я прекрасно сознавал неравенство наших весовых категорий: противник был физически мощнее меня, и зачастую мне было просто его не сдвинуть. Я проиграл. Это был достойный поединок, но с первого же раунда я упустил инициативу. «Умственные ошибки», — любил говорить в таких случаях тренер Сибрук.
Я переместился на уровень утешительных состязаний и проиграл в первом же поединке. Поначалу счет был 2:1 в мою пользу, но затем противник применил ко мне захват, и я, даже не успев ахнуть, оказался на лопатках. На этом мое участие в турнире окончилось.
Пройдя в раздевалку, я обнаружил, что мой палец опять торчит в неестественном положении. Я даже не заметил, как снова вывихнул его. Местный тренер вправил вывих.
Я сидел на столе, держа левую руку в ведерке со льдом. В комнату вошел мой недавний противник — военный, служивший в Германии (я угадал: его часть находилась в Нью-Джерси). Он приложил лед к травмированной шее. Оказалось, в полуфинале он боролся с парнем из Академии Береговой охраны и проиграл. Теперь ему хотелось знать о моем последнем сопернике по утешительному поединку. Тот был из Спрингфилда. Я посоветовал армейцу остерегаться его хватов и внутренних подножек.
Я еще и тогда не думал, что это мой последний турнир. Чувствовал я себя нормально, хотя и злился на недавний проигрыш. Мы с военным пожали друг другу руки, и я пожелал ему успехов в дальнейших поединках. Дожидаться финальных состязаний в качестве зрителя мне не хотелось. Пора было сажать детей в машину и возвращаться домой. Меня тянуло выпить пива и съесть столько, сколько выдержит мой усохший желудок.
— Вы — достойный соперник, сэр, — сказал мне на прощание военный.
Слово «сэр» все во мне перевернуло. Оно подвело черту. Сам того не желая, парень нанес мне ощутимый удар. Думаю, он был лет на десять меня младше, но когда он назвал меня «сэром», я почувствовал себя старше, чем сейчас в свои пятьдесят три. Я ощутил себя просто стариком. Я, что называется, отсостязался. Тренируй других. Это все, что ты теперь можешь.
Через некоторое время я позвонил Теду Сибруку. (Это было за четыре года до его смерти. Он уже болел, но я даже не подозревал, насколько серьезно. Сомневаюсь, что и он сам об этом знал.) Я сообщил Теду результаты состязаний, сказал, что моя карьера борца окончена, и, конечно же, передал, как меня назвали «сэром».
— Ах, Джонни, Джонни, — засмеялся в трубку тренер Сибрук. — Разве ты забыл, что у военных принято на каждом шагу говорить «сэр»?
Тогда я почему-то об этом не подумал, но слова Сибрука ничего не изменили. Я по-прежнему ощущал, что военный из Нью-Джерси подвел черту под моей борцовской карьерой.
Вместе с турнирами для меня кончилось и обязательное взвешивание. За неделю до турнира я весил сто тридцать восемь фунтов. На турнире (в одежде) — сто сорок семь. Весной все того же семьдесят шестого года, после пасхального обеда, весы показали сто шестьдесят пять фунтов — мой «естественный» вес (сегодня я вешу сто шестьдесят семь фунтов).
Помню, как через двенадцать дней после победы Брендана в классе А мы отправились на остров Ангилья в Карибском море. В спортзале отеля я крутил педали велотренажера, а Брендан дурачился с искусственной беговой дорожкой. Включив максимальную скорость, он пытался запрыгнуть и удержаться на движущейся ленте. В раздевалке стояли весы. Прежде чем идти плавать в бассейн, Брендан разделся и взвесился. Всего двенадцать дней назад он весил сто тридцать четыре с половиной фунта. А здесь весы показывали сто пятьдесят два.
Этому событию уже шесть лет. Не далее как вчера я позвонил Брендану в Колорадо.
— Сколько ты весишь? — спросил я сына. (Борцы всегда задают этот вопрос.)
Брендан положил трубку рядом с аппаратом и отправился взвешиваться. У него был включен телевизор. Я слышал голос диктора — по Си-эн-эн шел выпуск новостей.
— Сто пятьдесят два, — сообщил мне вернувшийся Брендан.
(Сейчас, когда я это пишу, моему третьему сыну Эверетту, родившемуся в октябре девяносто первого, три с половиной года. Он весит тридцать один фунт. По моим наблюдениям, рост Эверетта выше, чем у детей его возраста, а вес — ниже, чем должен быть при таком росте. У мальчика очень крупные руки. Если мои предположения верны — у меня растет будущий борец в средней весовой категории.)
Многие совершенно не понимают моего увлечения борьбой. Даже друзья. С Джоном Чивером я сдружился, когда мы оба преподавали в Писательской мастерской. Мы с ним оказались поклонниками итальянской кухни и вечерами по понедельникам собирались у меня, чтобы посмотреть очередную трансляцию футбольного матча и съесть по хорошей порции пасты. Однажды Чивер написал Аллану Гурганусу: «Джон неизменно поражает меня, в который раз рассказывая, как он опечалился, осознав, что его капитанство в борцовской команде Эксетера — это краткий миг славы».
Чивер нередко бывал потрясающе точен в своих суждениях и оценках. Помню, он указал мне на слабое место нескольких моих романов, где слишком подробно описывалось, как люди едят и занимаются сексом. По мнению Чивера, тем и другим лучше наслаждаться самому, чем читать в романе. Однако он совсем не понял, чем именно я был «опечален», говоря о борьбе. Я никогда не стремился к спортивной славе. Тренировки, состязания, турниры доставляли мне непередаваемую радость, и вот она никогда не была для меня «кратким мигом». Я давно уже не состязаюсь, давно не тренирую других, а борцовская дисциплинированность осталась. (Моя борцовская жизнь на одну восьмую состояла из таланта и на семь восьмых — из дисциплины. То же самое я с полным основанием могу сказать и о моей писательской жизни.)
Я не склонен жаловаться на свои спортивные травмы, повлекшие операции на обоих коленях, правом локте и левом плече. Из четырех операций серьезной была только операция на плече. Отслоение сухожилия вращающей мышцы — не шутка. Но даже эти травмы вызывают у меня приятные и отнюдь не «мимолетные» воспоминания. Первую коленную травму (разрыв хряща) я получил в восемьдесят четвертом году, в перерывах между состязаниями турнира НССА. Турнир проходил в Нью-Джерси, в спортивном комплексе «Мидоулендс». Мы с Дж. Робинсоном решили тогда «подурачиться на мате». Второе колено я растянул через четыре года. Я боролся в вермонтской Академии с одним из товарищей Брендана по команде — хорошим парнем по имени Джо Блэк. (Кстати, Джо трижды становился чемпионом Новой Англии в классе А, в категориях до ста шестидесяти фунтов и до ста семидесяти одного фунта.) В «промежутке» между коленными травмами я травмировал локоть. Это произошло в нью-йоркском Атлетическом клубе, где я тренировался с Колином. А вот с плечом все обстояло сложнее. Отслоение сухожилия вращающей мышцы не было, строю говоря, спортивной травмой. Думаю, мое плечо получило достаточное количество микротравм и однажды не выдержало, заявив об этом отрывом сухожилия от плечевой кости. Мы с Эвереттом пришли покататься с ледяной горки (ему тогда было два года). Первое скатывание стало последним. Я поскользнулся и упал. Делая все, чтобы не придавить собой сына и защитить его от падения, я приземлился на левое плечо. Эверетт упал мне на грудь и отделался легким испугом. (Тренер Сибрук напомнил бы, что мне лучше удавались движения, где ведущим было не левое, а правое плечо.)
Уверен: борьба научила меня большему, чем Писательская мастерская. Хорошие произведения получаются в результате правки и шлифовки написанного. Хорошие борцовские результаты достигаются неустанным повторением движений, пока те не приобретут автоматизм и не сделаются второй натурой борца. Я никогда не считал себя «прирожденным» писателем и уж тем более не думал о себе как о «прирожденном» спортсмене. Я не назову себя даже хорошим спортсменом. Что касается моего писательства, то я — хороший переписчик. Мне еще ничего не удавалось с первого раза. Я просто умею переделывать написанное и переделываю.
Я продолжал вести тренировки и после того, как они перестали быть для меня средством заработка. Тренировки меня не утомляли и никогда не отнимали столько времени, сколько уходило на преподавание. В основном я работал в частных средних школах. Там борьба является сезонным видом спорта. Время, проведенное в залах и в дороге, когда мои команды ездили на очередные соревнования, никоим образом не отражалось на моей писательской работе. Наоборот, тренировки становились для меня «бегством» от писательства. На занятиях по литературному творчеству, когда я обязан был «учить» других писать, тратилось много сил, необходимых мне для своих собственных романов.
У тренеров в любом виде спорта появился надежный помощник — портативная видеокамера. Насколько я знаю, аналогичных помощников в деле обучения литературному творчеству нет. Приведу пример. У меня в команде был тяжеловес (сто восемьдесят девять фунтов). Он проигрывал поединок за поединком из-за своей невнимательности: сползал с мата или оказывался в таком положении, когда соперник легко утыкал его физиономией в мат. Я терпеливо объяснял ему ошибки, терпеливо рассказывал, как надо держаться, чтобы свести поединок хотя бы к ничьей.
— Да что вы, тренер, — уныло возражал мне парень. — Я совсем не растопыриваю локти. Они у меня прижаты к бокам. Честное слово, это мой противник сделал что-то такое.
Раньше мне оставалось бы терпеливо ждать, пока этот упрямец прислушается к моим словам. А тут — я просто собрал своих ребят и прокрутил им видеозапись. И тяжеловес, под смешки товарищей по команде, смотрел на все свои промахи и ляпы. Он видел расставленные локти, сползание с мата и многое другое. Я прокручивал запись несколько раз, пускал в замедленном темпе, делал стоп-кадры. После этого парню было уже бесполезно со мной спорить. Конечно, он мог упрямиться и дальше, но видеокамера сделала мою критику наглядной.
В Писательской мастерской или на других курсах нет устройства, которое сделало бы наглядной преподавательскую критику. Нередко работа, полная смысловых и стилистических ошибок, вызывала восхищение студенческой аудитории. Автор был больше склонен прислушиваться к мнению сокурсников, чем к словам преподавателя. Мои критические замечания не всегда воспринимались должным образом. Помню, я сказал одной студентке:
— Вы пишете, что отец, зажав в зубах яблоко, стоял и мочился на передний бампер машины своей тещи, как вдруг упал замертво… Простите, мне очень трудно вообразить такое.
Студентка со слезами на глазах стала уверять, что сцена списана с натуры, что именно так окончил дни ее собственный отец. Дальше последовало мое пространное и, по сути, бесполезное объяснение, что «реальная жизнь» в произведении должна выглядеть правдоподобной. Если где-то, когда-то такое однажды действительно случилось, этот факт еще не делает и не сделает историю правдоподобной. Вот здесь-то писателю и требуется воображение, чтобы строить сюжет пусть на выдуманных, но правдоподобных деталях, а не вставлять в текст экзотические реальные события, в которые читатели не поверят.
Все это трудно втолковывать студентам, укорененным в социальном реализме, и молодым писателям, чье воображение не способно вырваться из автобиографических рамок. Очень и очень многие начинающие авторы считают свой первый роман не чем иным, как слабо замаскированным пересказом событий их собственной жизни вплоть до сегодняшнего дня.
В равной степени попытки молодых писателей избежать автобиографичности в своих произведениях далеко не всегда бывают успешными. У меня в Айове был замечательный студент. Потом он получил степень в какой-то редкой области науки (я не могу ни написать, ни правильно произнести ее название). Он написал вполне законченный, четко выстроенный рассказ о званом обеде, увиденном глазами… хозяйкиной вилки.
Если вы находите это очаровательным, мне остается только умолкнуть. Студенты были без ума и от рассказа, и от молодого гения, написавшего его. Мое слишком уж заметное безразличие к «вилочной» истории они расценили как оскорбление в адрес не только автора, но и их всех. Почти всех, поскольку меня спас тот, от кого я меньше всего ожидал помощи. Обычно этот студент не принимал участия в обсуждениях. Он был индийцем из штата Керала, набожным христианином. Из-за его акцента и того, как он строил фразы, к нему относились снисходительно: человек пытается освоить чужой язык и еще писать на нем. Но это было не так. Английский был его родным языком; он хорошо говорил и писал по-английски. Просто у него была иная манера произносить слова и строить фразы, что и вызывало снисходительное отношение других студентов.
Среди моря похвал в адрес «вилочной» истории, где безнадежно тонули мои «но», среди ликующего гула молодых литераторов (для них это был праздник) индийский христианин из штата Керала сказал:
— Пожалуйста, извините меня. Возможно, если бы я был вилкой, этот рассказ меня бы потряс. К сожалению, я всего лишь человек.
С того дня и, наверное, навсегда бразды преподавания должны были бы перейти к нему. Во всяком случае, все мое внимание отныне должно было бы сосредоточиться исключительно на нем. Однако этот индиец стал не писателем, а врачом. Пишет он лишь на рождественских открытках, которые исправно присылает мне каждый год вместе с фотографиями его увеличивающейся семьи. Под строчками поздравлений четким, разборчивым почерком он обязательно пишет: «По-прежнему всего лишь человек».
Я тоже посылаю ему рождественские открытки с припиской: «Пока еще не вилка».
(Где бы я ни преподавал, я всегда говорил студентам: «В белом листе бумаги, ожидающем вашей первой фразы, есть нечто удивительное и пугающее. Этому белому бумажному прямоугольнику совершенно нет дела до вашей репутации или ее отсутствия. Чистый лист не читал ваших предыдущих произведений; он не восхищается вашими прежними удачами и не высмеивает ваши провалы. В этом и заключается волнующее чудо и страх перед началом. Я имею в виду каждое начало. Это состояние, когда самый опытный преподаватель вновь и вновь становится студентом».)
Ну а как сложилась судьба автора рассказа о вилке? Где он теперь? Думаю, что в Бостоне. Важнее, что он не оставил литературу. Он стал публикуемым автором, и хорошим. Мне очень понравился его первый роман. Я был особенно рад убедиться, что героями романа он сделал людей, а не вилки, ложки и ножи.
Увы, все эти по большей части приятные воспоминания не должны скрывать печального факта. Многим студентам я наверняка казался кем-то вроде Нельсона Олгрена. Уверен, я задевал чувства молодых писателей, оказавшихся серьезнее и талантливее, чем мне тогда думалось. Но как Нельсону Олгрену не удалось навредить мне своей грубой и не всегда справедливой критикой, так и я, думаю, не причинил вреда настоящим писателям. Как-никак, настоящие писатели лучше приспособлены к тому, что окружающие их не понимают.
Когда такое происходит со мной, я просто напоминаю себе слова Теда Сибрука: «То, что ты не слишком талантлив, — еще не конец жизни».
«Воображаемая подружка» (1995)
От автора
Несколько страниц этих воспоминаний я взял из своего письма к Джону Бейкеру, выпускающему редактору из «Паблишерс уикли». Часть моего письма Джон включил в свою статью от пятого июня девяносто пятого года. Фрагменты моих воспоминаний о Доне Хендри взяты из посвященного ему некролога, написанного мною осенью девяносто пятого года для «Эксетер бюлитин». Отрывок из «Воображаемой подружки» появился опять-таки осенью того же года в журнале «Ньюйоркер».
Я благодарен Деборе Гаррисон из упомянутого журнала и своей жене Дженет за их редакторскую работу над ранним вариантом моих биографических заметок. Тогда название было другим — «Наставники» («Mentors»). Вы не поверите, но «борцовская» часть занимала там менее десяти страниц! Дебора и Дженет, что называется, взяли меня в оборот. «Ты что, издеваешься? Где тут борьба?»
Причина появления нынешнего варианта воспоминаний такова. Незадолго до Рождества тысяча девятьсот девяносто четвертого года я перенес операцию на плече. Я был совершенно не готов к тому, чтобы по несколько часов в день и в течение нескольких месяцев восстанавливать плечо. Я знал, что хирург немного поработает пилой в области акромиально-ключичного сустава. Знал я и о разрыве сухожилия вращающей мышцы. Однако я не знал, что сухожилие отслоилось от плечевой кости. Не знал об этом и хирург, пока не приступил к операции.
Физиотерапевтические процедуры длились по четыре часа в день. И так — четыре месяца. Я собирался после Рождества начать новый роман, однако состояние, в котором я поневоле оказался, этому не способствовало. У меня скопилось около двухсот страниц заметок к роману; я сочинил «неплохое» первое предложение, но восстановление плеча все равно оттягивало на себя и внимание, и мысли.
В один из январских дней девяносто пятого года я сидел в кабинете жены и докучал ей своим присутствием. Я транжирил чужое время, отвлекая Дженет и ее помощницу от работы, совал нос в груды рукописей, ждущих прочтения (обычное зрелище в кабинете любого литературного агента). Мне совсем недавно сняли швы, и я только-только начал посещать физиотерапевтические процедуры. До снятия повязки с левой руки было еще далеко. Словом, я откровенно скучал.
Дженет не любит, когда я торчу в ее кабинете.
— Почему бы тебе не потопать отсюда? — спросила она. — Иди и займись романом.
— Я не могу писать роман одной рукой, да еще после четырех часов процедур, — ответил я самым несчастным тоном, какой мне удалось придать своему голосу.
— Тогда напиши воспоминания или что-нибудь в этом роде, — предложила Дженет. — Только исчезни из моего кабинета.
Я поставил себе цель: за четыре месяца написать биографические заметки объемом сто страниц. Работа заняла пять месяцев, а число страниц в законченной рукописи равнялось сто одной, не считая фотографий.
Таким образом, зима девяносто пятого года ушла у меня на восстановление (я не оговорился, апрель в Вермонте — зимний месяц). Утром я отправлялся к физиотерапевту. Эта женщина производила разные манипуляции с моим плечом. Она прописала мне упражнения на растяжки и занятия с отягощениями, которые я выполнял днем. В послеполуденные часы я писал воспоминания, затем, ближе к вечеру или ранним вечером, шел в свой борцовский зал выполнять предписания физиотерапевта.
Расскажу немного о «своем» борцовском зале. Он находится в двадцати пяти футах от моего кабинета в вермонтском доме. (Между кабинетом и залом нечто вроде раздевалки: туалет, три раковины, две душевые кабины и сауна.) Борцовский мат у меня практически настоящий и соответствует установленным правилами стандартам. В одном конце зала висит с десяток разнокалиберных канатов для лазанья, в другом — уголок для работы с отягощениями. Там располагаются две стойки для поднятия штанги и третья, со всевозможными гантелями. У меня есть велотренажер, беговая дорожка; на полках полно разных наколенников, налокотников и защитных шлемов. Рулончиков лейкопластыря столько, что я мог бы ими торговать. Ну и конечно, борцовские туфли: дюжина пар почти одного размера (у Брендана нога чуть больше моей, а у Колина — чуть больше, чем у Брендана).
По стенам развешано свыше трех сотен фотографий. Моих там не очень много, а снимков Эверетта — и того меньше. Куда вешать его будущие фото — пока вопрос. На большинстве снимков — Колин и Брендан, снятые со схемами состязаний на турнирах, где они победили. В нашем «уголке славы» собрано двенадцать медалей, пять кубков и именная табличка. Из всего этого мне принадлежит только она. Я не получал ни медалей, ни кубков, потому что ни на одном турнире, ни на одном чемпионате никогда не занимал призовых мест.
Честно говоря, я не «выигрывал» этой таблички. В девяносто втором году мою кандидатуру выбрали в числе первых десяти членов для «Зала выдающихся американцев». Отбор проводил комитет Национального зала борцовской славы в Стиллуотере, штат Оклахома. Отнюдь не все «выдающиеся американцы» были выдающимися борцами (лишь некоторые из них). Нас избрали за достижения в других областях и за то, что все мы занимались борьбой.
Я имею честь быть членом Национального зала борцовской славы. Правда, меня немного смущает, что попал я туда через «заднюю дверь» — то есть не за свои борцовские или тренерские достижения. Однако мне оказали большую честь, позволив занять место рядом с такими выдающимися борцами и тренерами, как Джордж Мартин, Дейв Маккаски, Рекс Пири и Дэн Гейбл.
Возможно, вас удивит, что в число «выдающихся американцев», избранных Национальным залом борцовской славы, вошли Керк Дуглас и генерал Герберт Норманн Шварцкопф. Странно, что в этот список не включили моего собрата-писателя Кена Кизи, чьи борцовские достижения были гораздо выше моих. Он и сейчас входит в десятку лучших борцов Орегонского университета, который окончил в тысяча девятьсот пятьдесят седьмом году (почти все из этой десятки сделали блестящую карьеру). В тысяча девятьсот восемьдесят втором году, в возрасте сорока семи лет, Кизи победил в чемпионате Любительского спортивного союза в весовой категории до ста девяноста восьми фунтов.
Я подозреваю, что когда сенат утвердит Чарльза Крулака по кличке Зверь в звании полного генерала, то нового командующего корпусом морской пехоты (сейчас Крулак входит в состав Объединенного комитета начальников штабов) обязательно сделают членом «Зала выдающихся американцев» в Стиллуотере. Газета «Нью-Йорк таймс» как-то назвала Крулака «маленькой динамо-машиной». В Эксетере он выступал в категории до ста двадцати одного фунта, в Военной академии — до ста двадцати трех фунтов. Во время двух своих командировок во Вьетнам Чак был командиром батальона и командиром полка. В дальнейшем он служил на Окинаве в должности начальника школы, где готовили солдат для противодействия партизанской войне, потом — на базе в Квонтико, штат Виргиния. Незадолго до своего назначения на пост командующего корпусом морской пехоты США Крулак командовал на Тихом океане контингентом в восемьдесят две тысячи морских пехотинцев и шестью сотнями боевых самолетов. (В случае войны в Корее или Персидском заливе генерал Крулак взял бы на себя командование всеми нашими военно-морскими силами в тех регионах.) Однако в Национальном зале борцовской славы Чак Крулак, скорее всего, будет испытывать те же чувства, что и я, а именно — ощущать, что ему оказали незаслуженную честь.
Моя именная табличка из Национального зала борцовской славы занимает весьма скромное место на одной из полок и, как мне кажется, робеет, поглядывая на заслуженно завоеванные спортивные награды моих сыновей. Я привожу здесь столь подробное описание моего борцовского зала и называю расстояние, отделяющее его от моего кабинета, чтобы вы поняли: расстояние между писательством и занятиями борьбой никогда не было велико. Зимой девяносто пятого года, когда я писал «Воображаемую подружку», оно равнялось всего двадцати пяти футам.
В течение четырех месяцев я в основном не выходил за пределы этого двадцатипятифутового пути. Но я не был абсолютным затворником. В середине марта мы с детьми ездили в Аспен, штат Колорадо. Там мы провели почти неделю. Кататься на лыжах я не мог. Я ходил в местный спортзал и выполнял все упражнения, предписанные физиотерапевтом. Я плескался в теплом бассейне и в ванне — вместе с Эвереттом. У нас были замечательные обеды с четой Солтеров — Кей и Джимом. Вернувшись домой, я был вынужден готовиться к новому путешествию. В апреле во Франции намечалась презентация французского перевода моего романа «Сын цирка».
После нескольких интервью в парижском отеле «Лютеция» какой-то фотограф утащил меня с бульвара Распэль на зеленый пятачок и начал искать ракурс для съемки моей персоны у памятника французскому писателю Франсуа Мориаку. Я отказался фотографироваться рядом с этим памятником, главным образом из-за его пятнадцатифутовой высоты (вероятно, вы помните, что мой рост — пять футов восемь дюймов). Скульптор почему-то изобразил Мориака жертвой недоедания и придал его лицу мрачное, подавленное выражение. Это явилось второй причиной моего отказа сниматься. Мне казалось, Мориака нарочно уморили, чтобы поставить жуткий памятник и фотографировать на его фоне каждого иностранного писателя, которого угораздило остановиться в «Лютеции».
Меня тоже одолевали не слишком веселые мысли. Я прохлаждался в Париже, не успев закончить в срок рукопись «Воображаемой подружки». Французская критика постоянно и открыто сравнивала меня с Мориаком. Один из его критиков как-то заявил, что Бог явно недоволен творчеством писателя. На это Мориак дал великолепный ответ: «Бога совершенно не заботит, что мы пишем, но, когда мы пишем правильно, Он пользуется нашими произведениями». (Я снова и снова твердил фотографам, что Бог едва ли найдет применение фотографии Джона Ирвинга с Франсуа Мориаком, однако фотографы не понимали подтекста моей шутки. Один из них связал отказ сниматься на фоне памятника Мориаку с моим… религиозным фанатизмом!)
А в Вермонте неспешно тянулись апрельские дни, и вместе с ними, в том же темпе — моя работа над «Воображаемой подружкой». В мае мы на несколько дней съездили в Калифорнию. К тому времени восстановительные упражнения сократились до двух часов вдень. Я обнаружил, что снова могу носить Эверетта на своих плечах. Мы показали ему Диснейленд. Правда, Эверетт чаще катался на плечах Колина и Брендана (им это было намного легче). Работа над «Воображаемой подружкой» продолжалась даже в самолете: на обратном пути я правил листы рукописи. К июню рукопись была готова.
Когда пишешь что-то, связанное с твоей биографией, проявляется странное, неистребимое чувство: ты начинаешь скучать по людям, о которых пишешь. Я никогда не скучаю и не скучал по героям своих романов, хотя кто-то из моих читателей говорил мне, что скучает по ним. Мне отчаянно захотелось позвонить людям, которых я не видел и не слышал более тридцати лет. В большинстве случаев потребность была вызвана не только ностальгическими чувствами. Моя память не могла удержать всех деталей, таких как весовая категория на том-то и том-то турнире или место, занятое (либо не занятое) кем-то из моих бывших соучеников и сокурсников.
Раза два я звонил Кей Галлахер, вдове Клиффа Галлахера. Я не мог упомнить всех эпизодов, связанных с Клиффом; их было слишком много. Мне было приятно разговаривать с Кей, но одновременно в душе поднималась острая тоска по Клиффу.
В марте девяносто пятого года умер Дон Хендри. По странному совпадению, это случилось как раз в тот момент, когда Дон Хендри должен был впервые появиться на страницах моих воспоминаний. В начале февраля умер мой канадский друг Филлип Борсос — кинорежиссер, поставивший «Серую лису». С ним я почти десять лет пытался сделать фильм по моему роману «Правила виноделов». Он умер от рака, не дожив до сорока двух лет. Это событие, печальное само по себе, вызвало другие печальные воспоминания, связанные со смертью Тони Ричардсона. (Тони ставил фильм по моему роману «Отель “Нью-Гэмпшир”». Он умер от СПИДа в девяносто первом году. Еще один режиссер — мой друг Джордж Рой Хилл, экранизировавший «Мир глазами Гарпа», — ныне угасает под натиском болезни Паркинсона.) Тони Ричардсон частенько звонил мне по ночам и спрашивал, не попалась ли мне какая-нибудь стоящая книжка. Он был страстным читателем. Мысли о Тони часто заставляли меня снимать трубку и звонить разным людям. Чем ближе я подвигался к концу «Воображаемой подружки», тем чаще становились мои звонки.
Тридцатого мая, в День поминовения, я позвонил в Крестед-Батт своему давнему другу Эрику Россу. Пока я был во Франции и отбивался от попыток снять меня на фоне памятника Мориаку, Эрик ездил в Ирландию, наслаждался игрой в гольф. Там его неожиданно скрутила подагра. Я никогда не играл в гольф и не страдал подагрой. Случившееся с Эриком имело оттенок какой-то жестокой комедии.
Вдохновленный разговором с Эриком, я решил позвонить Винсенту Буономано. По своей дурости я решил, что он, окончив школу Маунт-Плезант, по-прежнему живет в Провиденсе. Я запросил справочную службу штата Род-Айленд. Мне сообщили, что в районе Провиденса есть лишь один Винсент Буономано, который живет в Уорвике. Я сразу же позвонил туда.
Судя по голосу, мне ответила девочка-подросток. Я попросил позвать Винсента Буономано.
— А кто его спрашивает? — поинтересовалась она.
— Наверное, он меня не помнит. Мы не виделись со времен учебы в средней школе.
— Пап! — крикнула девочка.
Возможно, она крикнула: «Папа!» Мне показалось, что у Винсента большой дом и большая семья.
Мистер Буономано говорил со мной очень дружелюбно, но… это был совсем не тот Винсент Буономано, когда-то разложивший меня на лопатки в третьем раунде нашего поединка. Он сообщил мне, что ему иногда звонят и спрашивают другого Буономано, борца. А иногда по ошибке приходят счета, адресованные тому Буономано. По словам того, с кем я говорил, нужный мне Буономано, скорее всего, стал врачом. Один из счетов касался возврата займа, взятого на обучение в колледже, и был адресован доктору Винсенту Буономано. (Наверное, подумалось мне, старина Винсент специализируется на заболеваниях шеи.) Однако все мои попытки найти настоящего Винсента Буономано окончились ничем. Он как сквозь землю провалился. Уверен, он давным-давно забыл обо мне.
От этих поисков мне стало так тоскливо, что я решил позвонить Энтони Пьеранунци. Возможно, он скорее меня вспомнит. Оператор сообщил, что в Ист-Провиденсе нет ни одного Энтони Пьеранунци и только один в Провиденсе. Должно быть, это он. Нет, это наверняка он. Я, не мешкая, позвонил. Мне ответил на редкость приятный, мелодичный женский голос. Я сразу вспомнил тогдашнюю подружку Пьеранунци (возможно, она была его сестрой, очень красивой девчонкой). Я представил, что это все-таки его бывшая подружка, ставшая верной женой, и они живут вместе уже более тридцати лет.
— Скажите, это дом борца Энтони Пьеранунци? — задал я идиотский вопрос.
— Нет, что вы, — засмеялась женщина.
Она слышала об интересующем меня борце, поскольку ей несколько раз звонили и спрашивали того Пьеранунци. И его счета по ошибке приходили на их адрес. (Эти счета стали общей темой — их вечно присылают не на те адреса.) Женщина вспомнила, как однажды кто-то позвонил ее мужу и начал вспоминать эпизоды соревнований. Значит, кто-то тоже разыскивал «настоящего» Энтони Пьеранунци. Но настоящий Энтони Пьеранунци, как и Винсент Буономано, был для меня недосягаем. И никто из них двоих не знал, насколько они для меня важны.
Мне очень хотелось поговорить хоть с кем-то.
Сонни Гринхалг оказался на месте, однако наш разговор превратился в спор. Мы спорили о том, в какой весовой категории победил Джон Карр: до ста сорока семи или до ста пятидесяти семи фунтов. Этот разговор, как и большинство наших телефонных бесед, как всегда перекинулся на Шермана Мойера. Сонни до сих пор переживал, что в одном сезоне он дважды проиграл Мойеру. А ведь это было тридцать три года назад! (Сонни стал всеамериканским чемпионом, а Мойер нет. Думаю, потому-то он и не мог простить Мойеру те два поражения.) Скажу честно: я больше симпатизирую Мойеру, нежели Сонни. Мойер был моим товарищем по команде и восхищал меня своими борцовскими качествами. О Сонни я знал лишь, что это парень из Сиракьюс, успешный борец в категории до ста тридцати фунтов. Я боролся с Мойером каждый день, весь борцовский сезон. Даже не представляю, сколько поражений я принял от него. А тут — всего два. Тем не менее мы всегда говорим об этом, хотя нам есть о чем поговорить. (Я тренировал сына Сонни Джона, когда тот учился вместе с Бренданом в вермонтской Академии. В восемьдесят девятом году Джон Гринхалг завоевал титул чемпиона Новой Англии в своей весовой категории.)
Однако на этот раз наш с Сонни разговор вертелся вокруг Джона Карра. Точнее, вокруг весовой категории, в которой он давным-давно выступал. Потом Сонни сказал, что слышал о смерти отца Карра. Мистер Карр всегда вызывал у меня теплые воспоминания. Я не забыл, с каким энтузиазмом он помогал мне на состязаниях в Уэст-Пойнте… После разговора с Сонни мне захотелось позвонить Джону Карру. Я помнил, что за год до нашего поступления в Питсбургский университет он выиграл чемпионат Новой Англии. Я только не помнил, из какой он был школы. Он выступал в голубой форме, но такой цвет формы имели несколько школ.
В тот год титул «выдающийся борец» присудили Энтони Пьеранунци, ныне неуловимому. Он помешал мне тогда стать призером. Джон Карр не менее, чем Энтони, заслуживал этого титула. У Пьеранунци были хорошие данные, но по разговорам в раздевалке я понял, что у Карра они лучше. Судить не могу, поскольку никогда не боролся с Карром. Потому-то я и считал, что он выступал в категории до ста пятидесяти семи фунтов. В категории до ста сорока семи фунтов я бы обязательно с ним встретился, хотя бы несколько раз, на тренировках. (Находясь в категории до ста тридцати фунтов, я на тренировках состязался с борцами категории до ста сорока семи фунтов, но с борцами категории до ста пятидесяти семи фунтов — никогда.)
Я позвонил в справочную службу Пенсильвании. Оказалось, в Уилкс-Барре целых семь Джонов Карров. Однако мои поиски не были слишком долгими. Я поговорил с женой первого «не того» Джона Карра, затем еще с четырьмя или пятью «не теми» Каррами. Все они говорили: «А, вам нужен борец». Или: «Вам нужен тренер».
Когда я добрался до нужного Джона Карра, в тех местах уже знали, что я его разыскиваю. Он ждал моего звонка. Джон Карр помнил мое имя, но совсем забыл, как я выгляжу. Я не удивился. Удивительно, что он вообще меня помнил. Я сказал, что мы с ним ни разу не состязались, а мои достижения были более чем скромными. В Питсбурге хватало парней с лучшими данными.
Я оказался прав: Карр выступал в категории до ста пятидесяти семи фунтов. Когда Карр выиграл чемпионат Новой Англии, он был выпускником Чешира, а не Эндовера. Я передал ему соболезнования по поводу смерти отца. Карр оставил тренерскую работу. По его мнению, вольная борьба (международный стандарт) вытесняла прежние традиции борьбы старшеклассников и студентов (национальный стандарт). По мнению Карра, борьба утратила агрессивность и стала менее привлекательной. Я был согласен с ним. Мне никогда не нравилась вольная борьба по европейским стандартам. Помню слова Дэна Гейбла, касавшиеся студенческой борьбы: «Если вы не сумеете выбраться из-под противника, вам не победить». (В вольной борьбе вам не нужно прикладывать усилия: судья дает свисток и вызволяет вас из плена. По европейским правилам борец может почти весь поединок провести в нейтральной позиции, на ногах. Мне был понятен ход мыслей Джона Карра. По европейским правилам я бы победил Шермана Мойера: мне бы в этом помог судья.)
От Карра я узнал, что Майк Джонсон по-прежнему тренер в Ду-Бойсе, а один из сыновей Уорника учится в Уэст-Пойнте и считается там отличным борцом. Я вспомнил, что действительно видел в списке борцов Уэст-Пойнта фамилию Уорника и еще тогда подумал, не сын ли он моего «мучителя» из Питсбурга. Мы с Карром попрощались, пожелали друг другу спокойной ночи и повесили трубки. И только тогда я вспомнил, что не спросил его о том, передал ли Уорник-старший своему сыну знаменитый «руколомный» прием. Я едва не позвонил вторично, однако спохватился. Время было позднее. Если я продолжу звонки, меня, чего доброго, потянет звонить вообще всем, кого я когда-либо знал.
Разумеется, мне очень хотелось бы позвонить Клиффу Галлахеру. Я бы дорого дал, чтобы только услышать его знаменитое: «Даже зебра, Джонни». Иногда у меня возникает мысль позвонить Теду Сибруку. Потом я вспоминаю, что Теда тоже больше нет. В отличие от Клиффа он не был большим любителем болтать по телефону. Зато он внимательно слушал. Тед перебивал меня, возражал и всегда по существу. Бывало, я начинал ему что-нибудь говорить и в ответ слышал: «По мне, так это глупость». Или: «А зачем тебе это нужно?» Или: «Делай, что умеешь делать». Или: «А что у тебя раньше получалось?» Клифф всегда говорил, что Тед умеет «прочистить атмосферу».
Я до сих пор не могу смириться со смертью их обоих, хотя Клифф, учитывая среднюю продолжительность жизни, так и так сейчас уже умер бы. Он родился в тысяча восемьсот девяносто седьмом году. Сейчас ему было бы девяносто восемь. Думаю, Клиффа подкосило, что Тед умер раньше его. Молодым. Он одурачил нас. Мы думали, он справился со своим диабетом. Но после нескольких относительно здоровых лет на него накинулся рак. Тед Сибрук умер осенью восьмидесятого года. Ему было пятьдесят девять лет.
На поминальную службу в церкви Филипса собралось больше борцов, чем я видел в борцовском зале Эксетера. Бобби Томпсон, один из бывших тяжеловесов нашей школы и, несомненно, самый крупный из чемпионов Новой Англии во вневесовой категории, пел гимн «О благодать» (нынче Бобби — священник в Эксетере).
Для всех воспитанников Теда казалось непостижимым, что их любимого тренера больше нет в живых. Мы считали Теда необычайно живучим. В него дважды попадала молния, и оба раза — когда он играл в гольф. Оба раза он лишь сказал: «Бывает и хуже».
После поминальной службы Клифф Галлахер схватил меня за руку своим жутким «русским захватом» и прошептал мне на ухо: «Это я должен был лежать на его месте, Джонни. Слышишь? Я». Моя рука потом болела несколько дней, а Клиффу тогда было восемьдесят три.
Я отнюдь не импульсивен. Далеко не каждый вечер, не каждую неделю и даже не каждый месяц у меня возникает потребность «прочистить атмосферу». По вечерам я обычно не обращаю внимания на телефон. Но иногда смотрю на него, и тогда мне кажется, что молчащий аппарат вызывает из прошлого образы тех, кому уже не позвонишь. Мне вспоминаются строки стихотворения Рильке о мертвеце: «Und einer ohne Namen / lag bar und reinlich da und gab Gesetze» («И некто безымянный / лежит там, чистый и нагой, и отдает приказы»). Таким иногда бывает молчащий телефон: символом недосягаемого прошлого, откуда мертвые силятся дать нам совет. В такие вечера я очень жалею, что не могу поговорить с Тедом.
Мой обед в Белом доме
Вот что произошло, когда Дэн Куэйл[30] пригласил нас на обед. Жена обвинила меня в тайном пособничестве правому крылу. Дженет вслух размышляла о том, не вышла ли она, часом, замуж за скрытого республиканца или тайного игрока в гольф. Я клялся ей, что не знаком с Дэном лично и никогда с ним не встречался. Затем мы с Дженет оба успокоились и дочитали письмо мистера Куэйла до конца. Вежливое, грамотно составленное письмо нас обоих и удивило, и разочаровало, поскольку это было всего-навсего формальное приглашение, а не «личное» послание, как нам показалось вначале. Произошла какая-то нелепейшая ошибка. Я — приверженец Демократической партии, чего никогда не скрывал. Дженет — канадская гражданка. А в письме нас приглашали стать, ни много ни мало, членами «внутреннего круга» Республиканской партии. Понятное дело: мы попали в список рассылки по ошибке (такие ошибки случаются сплошь и рядом); тем не менее у нас возникло сильное искушение отправиться на этот обед. Со времени нашего переезда в Вермонт в девяностом году ни демократы, ни канадцы не приглашали нас на подобного рода встречи.
Но, увы, Дженет усомнилась в мотивах, по которым я готов был принять приглашение вице-президента. Должен сознаться, что к письму Дэна Куэйла я отнесся как к малопонятному пустяку. Мы не знали, каких целей устроители обеда мыслили достичь, приглашая нас. Притока денег? Я не финансист. Усиления своего влияния? Я не владею ни газетным концерном, ни сетью телевизионных станций. Однако нам предоставлялась возможность отобедать в Белом доме совершенно бесплатно. Более того, в письме упоминалось о том, что, возможно, нас ожидает беседа в узком кругу, при участии вице-президента и президента.
После того как с нынешним президентом в Японии приключился конфуз и его вытошнило за столом, мы поняли: сидеть в непосредственной близости от господина президента, когда он ест, — дело опасное. Перспективы, лежавшие на обеих чашах весов, не отличались привлекательностью. Ехать десять часов из Вермонта в Вашингтон, чтобы оказаться за столом рядом с президентом и каждую секунду замирать в ожидании, не вылетит ли у него из горла ком непереваренной пищи. Либо, если нас усадят рядом с вице-президентом, — весь обед скучать. Интересно, станет ли уровень беседы в «узком кругу» мистера Куэйла достойным вознаграждением за обеденную пытку? Мой запас историй, связанных с гольфом, весьма невелик, а провести весь вечер, сравнивая гольф-клубы по размеру членских взносов и уровню услуг, — отнюдь не увлекательное времяпрепровождение. С другой стороны, мы с Дженет не возражали бы провести вечер в обществе миссис Куэйл, но порядок рассаживания гостей устанавливали не мы, и шансы оказаться рядом с Мэрилин… мы даже не пытались их подсчитывать.
В свете случившегося — я имею в виду хотя бы временное хозяйничанье демократов в Белом доме — можете себе представить, с каким сожалением мы отклонили приглашение Дэна Куэйла отобедать в «узком кругу» республиканцев. Какую возможность мы упустили! Но однажды я уже весело провел вечер в Белом доме и сомневался, что у меня хватит сил это повторить.
Президент Рейган несколько раз приглашал меня на обед. Поначалу я отказывался… точнее, по-детски отбрыкивался, демонстрируя дурные манеры и глупые аргументы. («Нет, спасибо. Я в этот вечер обедаю с бездомными». Вот такое «детство».) После третьего приглашения мне пришло в голову, что республиканцы отличаются упрямством в отношении своих друзей или тех, кого они считают друзьями. Еще я подумал: если демократы когда-либо окажутся в Белом доме, они займутся оживлением экономики и им будет не до того, чтобы приглашать меня на обед. И я решил принять приглашение мистера Рейгана. Откуда мне было знать, последует ли еще одно?
И я поехал. Это был обычный официальный обед, на который собралось около двухсот человек. Обед давался в честь президента Алжира и его супруги. К моему удивлению, меня усадили за стол президента, где оказались еще пятеро ошеломленных гостей. Помню нервозную даму из Огайо. Рейган обожал получать письма от своих поклонников, и каждую неделю выбиралось лучшее письмо. Вот так эта дама попала в Белый дом, хотя ни она сама, ни Рейган не сообщили нам о содержании письма. Помню другую женщину, из штата Род-Айленд. Ее звали монахиня Аттила (одета она была очень элегантно, во все серое). Напротив меня сидел бывший квотербек футбольной команды «Нью-Йорк джетс» Джо Немет. Мистер Немет оживил беседу, восторженно заявив, что «только в Соединенных Штатах» он мог стать участником такого события. Иными словами, только в нашей стране он удостоился чести обедать с президентом Соединенных Штатов. Я пропустил его сентенцию мимо ушей.
Но за время обеда Джо Немет повторял свое заявление снова и снова, пока я не выдержал и не сказал ему:
— Знаете, маловероятно, чтобы вы могли обедать с президентом Соединенных Штатов в какой-либо иной стране, кроме самих Соединенных Штатов.
Все посмотрели на меня как на редкостного болвана. Только мистер Рейган понял шутку и весьма любезно объяснил мне, почему мои юмористические усилия не нашли отклика у других.
— Вы не рассчитали время подачи, — в нарочито футбольном ключе сказал президент.
Затем автор лучшего письма недели попросила мистера Рейгана рассказать нам «самый забавный случай», когда-либо произошедший с ним. Президенту даже не понадобилось вспоминать. Его «время подачи» было рассчитано точно.
— Сидели мы в «Коричневом котелке», — начал Рейган.
И вдруг он вспомнил, что за нашим столом супруга президента Алжира и ее переводчик. (На самом деле переводчик сидел у нее за спиной, на куда более жестком стуле, и, естественно, ничего не ел. Мне показалось крайне невежливым, что его не усадили за общий стол.) Рейган подумал, что супруга алжирского президента может и не знать калифорнийских увеселительных заведений. Он решил дать краткое пояснение:
— «Коричневый котелок» — это знаменитый ресторан, где собираются люди из мира кино.
Переводчик перевел его слова супруге алжирского президента. Та что-то коротко ему ответила.