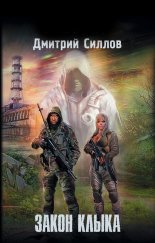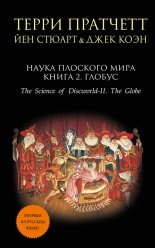Поиск Предназначения (сборник) Горчев Дмитрий
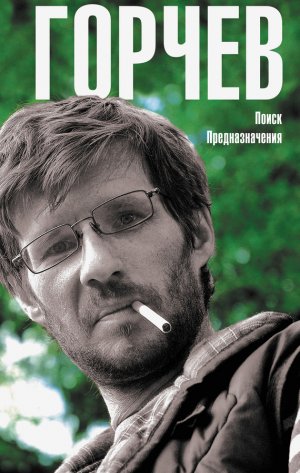
И там же я и проснулся от уже описанного стука.
Состав, однако, уже тронулся, а к нам больше никто не пришёл.
Решив, что всё обошлось, я заглянул в проводницкое купе: там на полу храпел мой напарник. Я попытался его пробудить, но, понятное дело, тщетно, и полез в рундук, дабы оценить оставшиеся запасы спекулятивного товара. Запасы были удручающими: из двух ящиков осталась примерно половина одного. «Не могли же мы столько выпить вдвоём или даже вчетвером?» – изумился я, но решил отложить разрешение этой загадки на утро, потому что голова решительно ничего не соображала.
Я глотнул из недопитой бутылки на столике прямо из горла и собрался лечь спать, чтобы освежить голову хотя бы к утру, но, увы! Состав снова остановился и через несколько минут раздались грозные шаги многочисленных ног.
В вагон одновременно ввалились пятьсот или, может быть, тысяча человек, и все в погонах. И все орут! Единственный человек в погонах, которого я опознал, потому что он орал громче всех, был бригадир поезда.
Нас быстренько взяли под микитки и куда-то поволокли. Я-то, уже кое-что сообразив, поволокся добровольно, а вот разбуженный сапогами напарник решил, видимо, что на него среди ночи напали Бесы, и взялся отбиваться. Однако его быстро успокоили теми же сапогами по почкам, и теперь он только пучил глаза.
О, этот пустынный полуночный перрон! На нём даже трезвый и свободный пассажир чувствует себя как первый и последний человек на Луне, а что там говорить про дрожащих с похмелья арестованных проводников?
Впрочем, на перроне мы пробыли недолго, потому что нас за шиворот отволокли в странное какое-то помещение, которым заведовал горбун в белом халате со ржавыми пятнами. Горбун был безобразен и ласков. «Присаживайтесь, молодые люди», – сказал он, гремя какими-то инструментами в железном корытце. «Пытать будет», – подумал я и застучал зубами.
Однако же вместо блестящих клещей и щипцов горбун выудил из корытца две пробирки с бесцветной жидкостью, вставил в них трубочки и попросил в эти трубочки подуть. Ну, мы подули, попускали пузырики. Стало даже весело.
«А теперь, – сказал горбун, подливая в пробирки какую-то другую, тоже бесцветную жидкость, – если пробирки окрасятся в розовый или красный цвет, значит, вы принимали алкоголь!» Вид у него был при этом в точности такой же, как у моего школьного учителя химии Петра Пантелеевича перед тем, как он производил какой-нибудь занимательный опыт.
Только жидкость в пробирках не стала розовой. И красной она не стала – она сделалась густо-кровяного цвета, из пробирок повалил дым, и одна из них, кажется, даже треснула.
«Пошли, – кратко сказал сержант, наблюдавший в дверях за этим занимательным опытом. – Вещи в вагоне возьмёте».
Да какие там вещи – тапки да мятая пачка сигарет, одна на двоих. Ещё не протрезвившийся напарник засунул ещё себе за ремень предпоследнюю бутылку водки: «Утром похмелимся», – сказал он с видом бывалого человека.
Ну вот и всё. И уехал, сверкнув всё теми же красными огнями, наш поезд в далёкий и прекрасный город Москва, где на Казанском вокзале продают волшебный напиток фанта по двадцати копеек за стакан.
В отделении милиции было почти что уютно: вдоль стен стояли огромные рюкзаки и пахло сеновалом.
Сержант Садвакасов (в Казахстане у всех сержантов милиции фамилия Садвакасов) быстро составил протокол, одобрительно вынул из штанов напарника бутылку водки, тщательно запер её в сейф и отобрал, как положено по уставу, шнурки и ремни.
Я всё ждал каких-нибудь пыток и казней, но ничего – сержант просто посадил нас в клетку, даже по почкам ни разу не стукнул.
Всё ж таки провинция всегда почти добрее города. В Алма-Ате, если попадёшь на казахский патруль (а там в милиции уже тогда были все практически казахи) – то пиздец тебе. Если отделаешься десятком пинков по рёбрам – то благодари милосердного нашего Господа, ибо произошло Чудо.
В клетке кто-то жил. «Пацаны, курить есть?» – стандартный в таких случаях самый первый вопрос. Я порылся в карманах, протянул пачку. «Тут курить всё равно нельзя – пизды дадут», – сообщил Некто.
Я уже немного различал в темноте: на полу спали ещё двое.
Некто оторвал от пачки кусок фольги, достал что-то из ботинка и стал аккуратно в эту фольгу заворачивать. Потом скатал всё это в шарик и проглотил.
«Потом посру, расковыряю палочкой и раскурюсь», – объяснил он мне, хотя я ничего не спрашивал. Я устроился, как мог, на полу и, кажется, даже заснул тем самым сном, который бывает в милицейских клетках. Ну, кто ночевал, тот и сам всё знает, а кто не ночевал, тому и знать незачем – может, и минует его чаша сия. Хотя, впрочем, ничего такого уж страшного – тоскливо только очень и холодно.
Но утро всё равно когда-нибудь непременно наступает.
В шесть часов загремел ключами сержант, зашёл в клетку: «Подъём, блядь, наркоманы и алкоголики!» Наркоманы и алкоголики, то есть мы, закряхтели и закашляли. «Кто тут алкоголики?» – продолжил сержант. «Мы! Мы!» – торопливо закричали мы с напарником, перепугавшись, что по какой-нибудь ошибке нас тоже причислят к наркоманам. Потому что одно дело вылететь из института (да и хуй с ним) и совсем другое – получить вполне не абстрактный срок за наркоторговлю.
«Пошли», – снова кратко сказал сержант и повёл нас куда-то в посёлок. «Во, бля, – подумал я. – Будем теперь до ишачьей пасхи тут за баранами говно убирать».
Но всё опять оказалось не так страшно. Сержант привёл нас к какому-то дому, возле которого стоял необычайно грязный милицейский уазик. «Вымыть, – сказал сержант. – Это капитана нашего. Потом придёте в отделение. Сбежите – пиздец вам. В тюрьму пойдёте». Ишь ты – разговорился.
Вымыли, вернулись. Сержант выдал нам шнурки, ремни и проводницкие удостоверения.
«А водка?» – неожиданно нагло спросил напарник. Глаза у сержанта стали очень нехорошие. «Какая водка?» – спросил он ласково. Я пихнул напарника в бок. «Не было водки, начальник! – сообразил он. – Это мне спьяну примерещилось. Не было». «Не было», – подтвердил я.
Тут бы сержанту в виде мягкого приговора присудить нам эцих без гвоздей, но, увы, кинофильм кин-дза-дза в тот момент даже ещё не был снят.
«Теперь идите нахуй, – сказал сержант. – Ещё вас увижу – поедете с этими». И показал на наркоманов, которые снова уже спали на полу.
И вот, стоим мы, значит, во всём своём неприглядном виде на платформе станции и имеем ровно один рубль двенадцать копеек денег на двоих. Сумма эта, несмотря на очень высокую покупательную способность рубля в описываемые времена, была тем не менее совершенно недостаточной для того, чтобы эту самую станцию покинуть как можно скорее. А ближайшие два места, где нам могли бы дать взаймы хотя бы каких-нибудь денег, находятся от нас ровно в пятистах километрах: одно место на севере, другое на юге.
Мы присели в условной тени казахского дерева карагач, закурили одну на двоих последнюю сигарету, в двух местах поломанную, и стали думать о дальнейшей нашей судьбе. Но ровно ничего хорошего никак не придумывалось.
Сейчас положение наше назвали бы тяжёлой жестью, но в те времена так называли только листы (обычно ржавые) из прокатной стали, и поэтому напарник мой обозначил наше положение проще: «кажется, нам пиздец». Я не стал с ним спорить.
И тут в голову мне пришла одна из редких действительно умных мыслей: «Слушай, Волоха, – сказал я напарнику, докурив сигарету до самого фильтра. – Вот мы сейчас стоим с тобой и думаем, как можно за рубль двенадцать добраться вдвоём до Алма-Аты. Но про это очень глупо думать, потому что сделать это всё равно невозможно. Но мы всё равно про это думаем и думаем. Поэтому давай-ка мы эти деньги пропьём, и тогда они не будут нам мешать думать по-настоящему».
Напарник мой посмотрел на меня с большим уважением, и мы пошли в пристанционный магазин, где купили бутылку яблочного вина за девяносто копеек, банку кильки с глазами и полбуханки чёрного хлеба. Кильку вскрыли одолженным в магазине хлебным ножом и съели в тени того самого карагача при помощи наломанных с него же веток. Ну и всё остальное тоже, конечно, съели и выпили.
И стало нам легко и просто: мы подошли к первому попавшемуся машинисту тепловоза, показали ему удостоверения и наврали, что отстали от поезда. Он, без большой, впрочем, охоты, впустил нас в заднюю кабину и довёз до соседней станции, где передал нас следующему машинисту. Тот довёз до следующей, и так дальше, дальше, а точнее, всё ближе и ближе. Так что не прошло и шестнадцати часов, а мы, с ног до головы перемазанные жирной тепловозной копотью, уже оказались совсем дома.
А если бы мы не пропили тогда этот рубль двенадцать, то так бы навеки и остались в той стране дремучих трав, где нет ни времени, ни пространства, и не родили бы детей, и не заметили бы наступления нового тысячелетия.
Доживём до понедельника
О роли товарища Сталина
Когда-то очень давно в Алма-Атинском педагогическом институте иностранных языков я изучал чистейший и благороднейший бибиси инглиш.
Каким-нибудь людям из стерлитамака, которые по капризу судьбы оказались внутри третьего транспортного кольца города Москва, небось мерещится, что преподаватели мои скакали на работу на ишаках и жевали во время лекций курдючное сало, но я вынужден их разочаровать: в результате некоторых печальных происшествий прошлого века почти все они были коренными ленинградцами.
Кстати сказать, роль товарища Сталина в деле подъёма культуры в районах тогда ещё неподнятой целины до сих пор совершенно не раскрыта.
Отцу моему и сестре его, например, преподавал арифметику в сельской школе в деревне Вишнёвка математик с мировым именем, не помню как фамилия. В убогом нашем городе Целиноград ходили по улицам люди в таких страшных очках, которых уже не носит даже вдова покойного академика Сахарова.
А сейчас, когда этот город стал столицей огромного, могучего и демократического государства Казахстан, я хорошо знаю, кто там ходит, то есть ездит по улицам: Большие Начальники с портфелями.
Трудности перевода
Лев Борисович Горелик мало того что имел ярко выраженное косоглазие, блестящую лысину и вообще вид немолодого олигофрена, случайно забредшего в институт иностранных языков, он ещё и не умел ходить ни одним из присущих нормальному человечеству способом. Когда Лев Борисович был бодр и весел, он просто скакал по коридору при помощи какой-то неразборчивой песенки, а когда он был грустен, он едва шёл, вяло шаркая ногами.
Лев Борисович вёл в нашей группе практику английского языка, и вёл, надо сказать, очень хорошо, у него на занятиях всегда было очень смешно, хотя лично меня он почему-то недолюбливал. Именно с ним мы проходили произведение писателя Сэлинджера зе кетчер ин зе рай, и мы нашли там много удивительных штук, и даже взялись тогда с Шурой Роговиным переводить это произведение на русский язык, не зная, что это давно уже сделала Райт-Ковалёва, и перевели страниц, кажется, двадцать.
У преподавателей института иностранных языков считалось хорошим тоном разговаривать друг с другом по-английски в присутствии студентов. Однажды на большой перемене декан нашего английского факультета Роза Альденовна – женщина с железными зубами и с офицерской выправкой, сделала Льву Борисовичу замечание. «Лев Борисович, – сказала Роза Альденовна раздражённо, – why are you always so stooping?» Лев Борисович, который действительно в этот день весьма сутулился, немедленно подпрыгнул метра на полтора, весь засиял и, подняв вверх указательный палец, сообщил: «Роза Альденовна! When I see you, I immediately erect!
C тех пор прошло непредставимое количество лет. Да и Лев Борисович умер давно, ещё в прошлом тысячелетии от инфаркта.
Но до сих пор я так и не придумал, как можно было бы перевести ну хотя бы приблизительно ту его шутку на русский язык.
Похмельное сентиментальное
Меня всегда когда спрашивают, бывает ли дружба между мальчиком и девочкой, я отвечаю, что бывает.
У меня один раз была подруга, когда я в общежитии жил, с которой я ни разу не ебался. При этом я вообще ни одного человека тогда не знал, чтобы он с ней не ебался. Я даже ей однажды выговаривал, мол, Нэлка, всё понятно, но вот с Этим зачем? Он теперь ходит по всему общежитию и сразу с порога рассказывает, задолбал уже всех.
А что, говорит, с ним было делать – он пришёл плова пожрать, потом пиздел-пиздел, я спать легла, чтобы он не пиздел, а он залез ко мне под одеяло и стал опять пиздеть, что ЭТО для женского организма очень полезно, ну я сказала: Вова, на, только помолчи.
Однажды Нэлке понравилось большое зеркало в нашей комнате. Коммунист Касым, старший по комнате, сказал, что если она напишет расписку, что отдастся за это зеркало, то можно взять. Глупая Нэлка честно написала: я, такая-то, номер паспорта, обязуюсь отдаться Касыму такому-то ЗА ЗЕРКАЛО, дата-подпись.
Касым бумажку взял, аккуратно сложил и сказал, типа в шутку: а знаешь, что с тобой будет, если я эту расписку в Деканат отнесу?
Потом он вернулся через час, собрал все кружки в комнате и пошёл их мыть с содой. Я его спросил, почему он с ума сошёл, эти кружки вообще никто никогда не мыл. Он рассказал: а ты знаешь, что она в РОТ БЕРЁТ, а потом приходит к нам чай пить из наших кружек.
Расстроился я, пошёл к той же Нэлке чаю попить. Жалуюсь: ну как, спрашиваю горько, ну как люди могут быть такие мудаки? А ты, говорит, все кружки после него вымой, может, тоже легче станет. Шуточки ей, всё ей похуй.
Однажды летом все разъехались по домам, а во всём общежитии остались только мы с Нэлкой. Я устроился грузчиком в хлебный магазин, денег пока зарплату не дали, вообще ни одной копейки не было, жрать нечего, булочки только напизженные, зато много. А Нэлка ходила ебаться к какому-то капитану милиции и приносила оттуда сосиски в целлофане из его холодильника, в общем ничего, прожили.
Я был у неё на свадьбе свидетелем со стороны невесты. Приезжал её папа из Караганды. Папу звали Мордко. Она так и была записана в паспорте: Нэлла Мордковна. Папа-Мордко был похож на выкопавшегося из могилы папу рэдрика шухарта: весь парализованный. Он сказал Тост: К-к-к-к-ебени матери!!! И опрокинул в себя водку.
Потом институт кончился. Я женился, уехал работать учителем, Нэлка уехала куда-то в Австралию, тогда это считалось всё равно что умерла.
В общем, всё так как-то, давно это было.
А больше с тех пор просто так дружбы не было, врать не буду.
Цыгане
Когда я лет двадцать тому назад работал проводником, в одном рейсе произошла очень неприятная история с проводником из соседнего вагона: на узловой станции Чу к нему набился целый табор цыган. Без билетов, конечно, – цыганам покупать билеты запрещают их обычаи.
При этом ещё до прибытия на станцию Чу по составу было разослано строгое приказание бригадира, чтобы зайцев не брать: какая-то шла проверка, что ли, министерская, и в этот редкий день ревизоры денег не брали и даже водки в штабном вагоне не пили.
А тут цыгане! Сосед их, конечно, пытался не пустить, да какое там – пока он выпихивал ногой с подножки беременную цыганку с восемью детьми, остальные цыганы зашли через другую дверь, расселись на всех полках и уже обобрали половину законных пассажиров. А тут и поезд тронулся – не выбрасывать же этих цыганов на ходу.
Ну и тут же, конечно, пришла ревизия. Я сам тогда в первый раз увидел трезвых ревизоров, да чтобы ещё что-то проверяли. А тут в соседнем вагоне сорок восемь зайцев! Ну, в общем, скандал, протокол, соседу пиздец.
После рейса, значит, разбор у начальника резерва проводников. Мы с напарником тоже туда были приглашены, но по другому поводу: нас тогда немного позже на станции Луговой сняла с поезда милиция, но это другая, впрочем, история.
И вот читает начальник резерва протокол про зайцев и с недоумением спрашивает нашего соседа: «Да ты, парень, охуел, что ли? Сорок восемь зайцев! Я сам проводником двадцать лет ездил, но такое первый раз слышу!» Тот объясняет, что вот, мол, цыгане налезли, а тут ревизоры. «Цыгане? – говорит начальник уже добрее. – Ну, цыгане – это другое дело. А почему в протоколе не записано, что это были цыгане?» Сосед растерялся: «А что – разве в протоколе такое пишут?»
Тут зачем-то и я влез, хотя уж мне-то следовало бы помалкивать: «А что, Акылбек Серикбаевич (или не помню, как там его звали), разве в протоколе нужно обязательно указывать национальность всех зайцев? Мол, обнаружено три безбилетных пассажира – один кореец и два узбека?» «Узбека не надо, – поморщился начальник. – А цыгане надо!»
Ну, в общем, присудили нам всем месяц исправительных работ по благоустройству территории с поражением в зарплате, но это уже не важно.
Но с Акылбеком Серикбаевичем я тогда так и не согласился. Что поделаешь: был я типичным продуктом несостоявшегося коммунизма, взрощеным в атмосфере безбожия, интернационализма и веры в светлое будущее. Что, впрочем, не мешало мне выдавать пассажирам бельё по второму разу, но это к делу не относится.
И только через много-много лет, да что там – только сейчас, я признал наконец правоту старого мудрого начальника резерва: национальность действующих лиц таки имеет значение для протокола! Да в сущности только она одна и имеет значение.
Национальный вопрос
Да, и сформулирую-ка я свою позицию по национальному вопросу, чтобы больше к этому не возвращаться.
Я сам лично родился и вырос в «кузнице интернационализма», то есть в Казахстане, куда ссылали вообще всех. Я оттуда и уехал потому, что это очень хорошее место для ссылки, но никуда не годное место для жизни.
На лестничной нашей площадке слева от нас жили греки, наискосок – казахи, напротив – хохлы. Под нами жили ингуши, под греками – евреи, под казахами – русские, под хохлами – казахи. И так до самого первого этажа. Я до сих пор наизусть помню наш классный журнал: когда учительница математики вела пальцем сверху вниз – кого бы вызвать на казнь, я читал вместе с ней: Абфелько, Базыкин, Бахытжанов, Веллер, Васильев, Гасевская, Гаух, ага! вот – Горчев. Блядь! Все облегчённо вздохнули.
Никогда, ни разу в жизни мне тогда вопрос национальности не доставил ни малейшего неудобства, даже наоборот: известно было, что если зайти с утра в гости к Фариду, то там найдётся рыбный пирог и вчерашний чак-чак, а снимавшая у моей матушки комнату немка Екатерина Яковлевна Штер изготавливала чрезвычайно вкусное блюдо под названием «штрудель».
Казахи были отдельно от всех – это да. Хотя помню, как сразу после обретения Казахстаном независимости забрёл на рынок в поисках самой дешёвой китайской водки и встретил там одноклассника Акылбека Нурмагамбетова – он осуществлял контроль над всем этим рынком. Он, к тому времени уже бывший боксёр с переломанным и так небольшим носом, долго тряс мне руку с восхищением вечного двоечника перед вечным отличником и вручил мне самую лучшую бутылку водки, которая продавалась на всём этом рынке.
Ну и в район частных домов, где компактно проживали чечено-ингуши, заходить не следовало. Ну не следовало, и всё тут. Отпиздят – это ладно. Но они как-то удивительно талантливо умели унизить.
C тех пор прошло много лет, и вдруг оказалось, что всё то, на что я когда-то не обращал внимания, оно имеет огромное значение. А я-то! У меня в любимых женщинах ходили татарки и узбечки. Я как не умел различать людей, так и не умею. То есть различать-то умею, но по другим признакам. При том, что я в отличие от многих патриотов знаю, какая огромная разница существует между туркменами и таджиками.
Да что там, страшно сказать – я очень люблю евреев, если они, конечно, не утверждают, что при советском союзе евреям запрещали играть в шахматы и заниматься физикой (был такой случай, я тогда наговорил очень много всякого антисемитического, но это было уже в Петербурге).
Да, а вывод. Вывод кошмарно банальный: если человек не верит в Господа нашего Иисуса Христа – это ещё не повод бить его в рыло. Если оскорбляет – тогда повод.
И ещё – я очень не люблю слова «рашка» и «эта страна». Я очень неадекватный патриот.
Доживём до понедельника
Хороший кинофильм доживём до понедельника. Не потому хороший, что счастье это когда тебя понимают, это дохуя умная мысль, а потому что очень правдивый.
Я разбираюсь – я в этих школах сначала учился, а потом ещё четыре года работал учителем. Какое же омерзительное это учреждение. И учеником быть хуёво, а уж учителем – это вообще пиздец.
Педсоветы, на которых завуч в босоножках поверх шерстяных носков докладывает: «Товарищи учителя! Вы разве не замечаете, что наша Школа превращается, извините меня за это слово, в БОРДЕЛЬ! Наши ученицы КРАСЯТСЯ! Они носят СЕРЬГИ! Дмитрий Анатольевич, я не вижу в этом ничего смешного! Когда половина вашего класса, извините за такое выражение, ЗАБЕРЕМЕНЕЕТ, я посмотрю, как вы поулыбаетесь! Это же подсудное дело!»
Я иногда просыпался утром и понимал, что не могу больше это видеть, и тогда вместо школы шёл в поликлинику и мазал там нос канцелярским клеем, чтобы мне дали бюллетень по ОРЗ, и был тогда счастливый. Я вообще был очень хуёвым учителем.
Когда я уволился, забрал трудовую книжку и уходил в последний раз из школы № 18, это был какой-то фантастически солнечный день, и кругом пели птицы. Я обернулся и в последний в жизни раз посмотрел на страшное серое здание, и всё, и всё, и больше никогда.
Есть наверное где-то чудные школы, и в них возвращаются полысевшие ученики, и радостно сидят за любимыми партами, даже наверняка есть. Но мне не попадались ни разу почему-то.
Трусы
…Посмотрел я как-то в интернете репортаж со съёмок фильма по роману мастер и маргарита. Не то чтобы это у меня считается какой-то особо святой роман, а так просто – интересно, чего у них в этот раз получится.
И что меня поразило на фотографиях со съёмочной площадки: тётки там на балу у Воланда все в трусах! Ну, эдаких с переливчиком и в пёрышках. «Вот же блядь! – подумал я. – Этим блядь людям поручи снимать кинофильм про грехопадение праотцов наших, так они и Адама с Евой тоже нарядят в трусы!»
И Маргарита, понятное дело, тоже в трусах – актриса, она же приличная женщина, мать, ей неудобно жопой при людях сверкать, тем более что показывать кинофильм планируется ранним вечером, и могут увидеть дети.
О да! Дети! Это и есть самое страшное, что может произойти: они УВИДЯТ! Что станет после этого с этими детьми? Самые неспелые из них начнут морщить небольшие свои лбы, мучительно припоминая: «Где? Где же блядь мы только что вот совсем недавно это всё видели? Что-то такое страшно знакомое! А что? Что это вообще с нами было?» Сделается от этого у детей задумчивость, покроются они сыпью, всё расчешут, а там дальше онанизм, плохая успеваемость в школе, ранние эякуляции, белый билет, ограниченная трудоспособность, шизофрения, дурдом. Ну или другая дорожка: раннее созревание, групповое изнасилование, тюрьма, туберкулёз, сифилис, смерть от ножа пьяной сожительницы. Путей-то много, а конец один.
Помню, классная наша руководительница Любовь Семёновна очень хорошо всё это формулировала: «Вот ты, Горчев, – говорила она, – сегодня сменную обувь не принёс, завтра у товарища деньги украдёшь, а послезавтра мать свою зарежешь!»
Меня тогда навсегда потрясла эта необратимость и неизбежность спуска по лестнице грехопадения, так что да, действительно пусть они будут все в трусах.
Ностальгия № 3
Высокогорный каток медео – это в городе Алма-Ата было что-то вроде петергофа в городе петербург – туда ездили только приезжие.
А нормальные все люди – они либо выходили не доезжая до медео в бутаковке, либо проходили мимо и шли дальше наверх.
В бутаковке можно было залезть на небольшую горку и лежать на ней на спине и смотреть на летящие со страшной скоростью по небу облака или наоборот смотреть вниз на город, накрытый бурой тучей, и думать про то, что ну и нахуя же я живу в этом говне, а не здесь на горке.
Выше медео я поднимался два раза. Во второй раз мы с соседями по комнате в общежитии нашли где-то большой кусок очень толстого целлофана и задумали Великий Спуск, то есть сверху и до самого города.
Мы забрались на самый верх, сначала по лестнице а потом ещё очень долго между деревьев, потом сели на целлофан, держась друг за друга, как в бобслее. Всего нас было человек шесть. Передний был Загребающий, а самый задний был Вперёдсмотрящий. Остальные наклонялись по командам Вперёдсмотрящего влево или вправо. По дороге к нам упали внутрь много сбитых блондинок и брюнеток, но их всех прогнали, потому что это было чисто мущинское мероприятие. В общем доехали до катка, а там начались автомобили и дальше ехать стало невозможно, так что пошли пить пиво.
А в первый раз я забрался на самый верх за два дня до того, как меня забрали в армию. То есть я уже знал, что меня заберут, и мне было вообще всё похуй. Мы там выпили в условиях разреженного воздуха бутылок шесть или восемь водки всемером, не помню впрочем за давностию лет, а потом я споткнулся и поехал сверху вниз на жопе весь возвышенный и прекрасный. Ну и приехал, конечно, прямо под колёса. «Во! – сказала милиция восхищённая. – Наш клиент. Сам приехал».
Вот так я и побывал в самом первом в своей жизни вытрезвителе.
Фашист
Однажды я познакомился с Фашистом. Нынешние Фашисты, они все фальшивые, а тот был как раз самый настоящий.
Фашисту было лет семьдесят – молодым юношей его призвали в вермахт, и он успел повоевать два дня, потом попал в русский плен и поехал в Казахстан.
В Казахстане он долго строил дома, и ему на стройку приносила горячий суп девушка Эльза Карловна из семьи переселенцев из Автономной Советской Социалистической Республики Немцев Поволжья (столица город Энгельс, упразднена в сорок восьмом году). Между ними возникло чувство.
Каким образом фашисту Ивану Фёдоровичу (Иогану Фридриховичу) удалось остаться в Казахстане – это моему уму недоступно, но он тем не менее остался.
Растил свиней и коров, работал в совхозе механизатором. Я всё про него знаю, потому что заполнял для него анкету на выезд. Страшно смутившись, Иван Фёдорович достал однажды из-за пазухи свидетельство о призыве его в армию: со свастиками и чуть ли не подписью Гитлера – где-то он это свидетельство все эти долгие годы прятал.
Потом прошло полгода, и перед православным Рождеством мне позвонили в дверь. За дверью стоял Фашист Иван Фёдорович. В руке он держал за лапы огромнейшего гуся. «На, – кратко сказал Иван Фёдорович. – Уезжаю». И ушёл вниз по лестнице.
Я иногда вспоминаю того гуся. На мёртвом его лице была счастливая улыбка. Он затопил жиром всю мою кухню. Второго такого гуся я никогда больше в своей жизни не видел, и, скорее всего, уже никогда не увижу.
Устная речь
Удивительно мало людей отличают устную речь от письменной. Отчего-то считается, что написать «Хуй» на бумажке и закричать «Хуй» на улице – это одно и то же.
Тем не менее, между письменной и устной речью есть огромная разница. В то время, как для письменной речи используются специальные знаки, наносимые на поверхность чего-нибудь, например бумаги или монитора, устная речь распространяется при помощи колебаний воздуха. И если письменную речь можно читать, а можно и не читать, если не нравится, то избежать устной речи можно только если заткнуть уши ватными тампонами или же дать источнику устной речи в рыло, да и то ещё неизвестно, что из этого получится.
Вот, например, помню, как в самом-самом начале реставрации капитализма в СССР, году чуть ли не в девяностом, мой сосед по подъезду и даже некоторое время товарищ по детским играм по имени Замбек, будучи лицом кавказской национальности, как-то очень внезапно разбогател и приобрёл себе самый шикарный из возможных в то время автомобилей, то есть девятку цвета мокрый асфальт. Автомобиль этот был украшен разнообразными обтекателями, молдингами, кажется так они называются, а в самой середине его крыши торчала сияющая антенна. Замбека часто можно было видеть возле этой машины с бархоткой, которой он наводил на ней ещё более невозможный блеск.
А в один из жарких июньских вечеров машина эта вдруг загорелась. Никто не видел, как это произошло, все услышали только хлопок, выскочили на балкон и увидели, что машина Замбека горит абсолютно вся – от носа до хвоста.
Практически всем людям вид горящей машины очень приятен, в особенности если это дорогая машина. Помимо того, что каждому почти человеку присуща некоторая генетическая пиромания, вид горящей машины греет также чувство социальной справедливости, потому что понятно же, что на честно заработанные деньги такой машины не купишь. Вообще нашему правительству следовало бы тайно закупить сотню-другую бракованных мерседесов и жечь их время от времени на улицах и площадях – это очень поднимало бы настроение в обществе.
Да. А машина Замбека горела недолго – минут от силы пять. Потом у неё взорвался бак, и гореть стало нечему. Жители обсудили друг с другом происшествие и ушли внутрь ужинать и потом спать.
Так вот об устной речи. Устная речь заключалась в том, что до шести часов утра Замбек, напившись пьяным, бродил по двору, обещая выебать всех жителей вместе и каждого по отдельности, вызывал кого-нибудь на поединок, но никто, конечно, не вышел, дураков нету. И все до единого жители двух пятиэтажных домов так и не заснули в ту ночь. Они ворочались в своих койках, выходили на кухню покурить и попить тёплой воды из крана и снова ложились в койку, думая разные печальные мысли. Потому что вот ведь так оно всё устроено – горбатишься, горбатишься и думаешь наконец, что вот уже чего-то достиг и почитаешь себя хозяином своей судьбы, а тут хлоп – и через пять минут стоишь ты посреди чиста поля и обрывает ветер с тебя последние листья.
А Замбек ближе к утру обессилел, а потом и вовсе куда-то пропал. Надломилось видимо что-то в его судьбе. Пал ли он при переделе мясных рядов на колхозном рынке или же уехал на историческую родину и попал там в засаду федералов – это неизвестно. А может быть живёт незаметно всё в том же подъезде и работает где-нибудь тихим менеджером – кто его знает.
И спросить некого. Мало кто пережил ту страшную голодную зиму девяносто первого года. Да и те, кто пережил, не любят про это вспоминать. Не помним, говорят, совсем ничего не помним.
Квартира
А между прочим, я в компании (даже скорее в плеяде) с Абрамовичем и прочими олигархами, получил от развала СССР ощутимую материальную выгоду.
Когда я в восемьдесят девятом году закончил педагогический институт, я честно поехал по распределению работать учителем в ту школу, в которой работала моя матушка. То есть в захолустный город Целиноград. За каковой подвиг, учитывая то, что я был в придачу обременён женой и однолетней дочкой, меня по просьбе районо включили в жилищно-строительный кооператив. Квартира в этом кооперативе стоила безумных совершенно денег, не помню уж – не то десять, не то двенадцать тысяч рублей. Что, учитывая мою зарплату в сто двадцать рублей, было не очень сильно лучше нынешней ипотеки.
Вступительный взнос, который собирали все мои родственники, кто сколько может, я, помнится, принёс в сберегательную кассу в полиэтиленовом пакете: там была пачка по одному рублю, пачка трёшек, солидная пачка пятёрок, остальное россыпью.
Потом дом стали строить. Я безотказно посещал заседания кооператива, в точности похожие на кинофильм гараж. Дом тем временем потихоньку вылезал из котлована.
И тут грянул гайдарочубайс. На очередном заседании была озвучена остаточная стоимость квартиры: шестьсот пятьдесят тысяч. Я даже не вздрогнул, и правильно: через год Казахстан завёл себе личную валюту, про которую тогдашнему министру финансов Григорию Марченко мечталось, что она равна одному доллару (я его потом про это спрашивал – он только руками развёл), то есть пятьсот рублей меняли на один тенге. Таким образом мой долг составил тысячу триста тенге.
Через два месяца оказалось, что на самом деле тенге равен двум центам. Каковую сумму (что-то около двадцати пяти долларов) я с удовольствием и заплатил в ту же самую сберкассу.
И дом при этом построили, вот что самое удивительное.
Национальная валюта
Очень давно, в самый разгар благотворнейших реформ во имя уничтожения Империи Зла, со мной приключилась полная жопа.
В декабре предыдущего года в государстве Казахстан была введена собственная валюта – тенге. Много-много позже я, выпивая с отцом этой валюты Григорием Марченко коньяк, спросил у него укоризненно: а зачем это было нужно? «А что было ещё делать?» – развёл руками Григорий Марченко и отвёл в сторону глаза.
Вся моя тогдашняя клиентура, то есть деревенские немцы, которым я переводил документы для спешного бегства с тонущего корабля Империи на давно забытую их родину, тут же исчезла: до их сёл и деревень новая красивая валюта, отпечатанная не где-нибудь, а в самом Лондоне, просто-напросто ещё не добралась.
Прошёл январь, потом половина февраля. Я отвёз дочку к своей матери: мать всё же, пусть ещё ребёнком, пережила войну и умела делать хоть какие-то пищевые запасы.
В день рождения своей дочери я поехал к ней на троллейбусе. Денег у меня было ровно на один чупачупс.
Я доехал до центрального гастронома и пересел на маршрутку (маршрутка стоила тогда как-то очень дёшево, а то бы я пошёл пешком).
Мне было мучительно стыдно: я, вполне здоровый и не безрукий мужик, подарю сейчас дочери вот этот, блядь, чупачупс. Праздник-праздник. «Господи! – попросил я от всей своей небольшой души. – Господи! Не себе прошу, мне ничего не надо, вообще ничего. Сделай, пожалуйста, что-нибудь. Я даже не знаю что. Пожалуйста!»
После этого я затосковал и посмотрел в окно. Потом посмотрел на пол: между сиденьями лежали денежные бумажки. Я их подобрал: восемьдесят тенге. Сейчас это ничтожнейшая сумма – что-то около половины доллара, но тогда это были огромные и невообразимые деньги – долларов наверное двадцать.
Я очень хорошо понял, для кого выданы эти деньги, и немедленно истратил их все до копейки: купил какого-то шерстяного медведя, сникерсов, ядовитого зелёного напитка в пластмассовой бутылке и ещё чего-то из того, что продавалось тогда в коммерческих киосках.
В общем, праздник удался. Только вот зачем была нужна эта реформа, я так до сих пор и не понял.
Вялотекущее
Решил диск вдумчиво послушать, а вот хрен: куда-то исчез шнурок, присоединяющий сидюк к звуковой карте.
Полез рыться в шкаф, вместо шнурка нашёл блокнот за 95-й год и уселся его читать с целью выяснить, кого из этих людей я ещё помню. Никого не помню: Елиз. Мих., Агропром, Лена Пробст – кто такие? Никчёмные вероятно существа.
Одна только запись меня поразила: «Джавдад, Хамза 2-81». На нынешнем моём подъезде тоже написано большими буквами «Хамза». Наверное это неспроста. А может быть и нет.
Вот Хамзу с Джавдадом я вспомнил. Это были два чеченца, которые построили где-то под Джамбулом фабрику по производству мраморных унитазов по американской технологии. Я тогда сидел на фрилансе, точнее на матрасе посреди чужой пустой квартиры, ну и подписался к ним переводить для лысого-пузатого дедка Денниса из Калифорнии. Дедок обучал местные каз. кадры хитрому искусству отливки унитазов на продвинутом оборудовании. Он сильно скучал по двум харлеям, оставленным в Калифорнии, и по работе особо не надрывался. Вечор нажирался китайским пивом, спал до 11-ти, потом вдумчиво завтракал, а там и обед.
Хорошая была работа. Платили 15 баксов в день, зато гостя, ну и меня заодно, развлекали по полной: охота в заповеднике, где дедок радостно подстрелил перепуганного антилопьего детёныша, тосты, шашлыки, баньки. С девочками дедка чеченцы правда кинули, видимо решив, что это ему уже ни к чему. Он страшно обиделся. После заключительного банкета специальный шофёр доставил в чёрном БМВ моё тело с двумястами баксами в нагрудном кармане и двумя литрами популярной в то время водки кеглевич по с большим трудом указанному мной адресу.
Хорошие в общем люди чеченцы. Если конечно за базаром при общении с ними следить, это у меня всегда неважно получалось, хоть с чеченцами, хоть с кем.
Да, а вот шнурок так и не нашёл.
* * *
Да, и ещё один раз.
Я в СССР жил дохуя – почти тридцать лет. Из хорошего там были детство, отрочество, юность. Я там в первый раз в жизни поебался.
Хорошая была страна.
Я не очень о ней жалею. Но, впрочем, впрочем. Это была таки попытка, дурацкая и идиотская, сделать Общество Непотребления. Но как только людей перестали пиздить, они тут же выстроились в очередь за автомобилем жигули и югославской стенкой.
И вот тут-то всё и кончилось.
Из жизни почти приличного человека
Зарплата
Когда-то давно я был почти приличным человеком. Я носил пиджак и галстух и ежедневно, кроме субботы и воскресенья, приходил к девяти часам утра на службу. Ежемесячный мой оклад тогда составлял полторы тысячи долларов в необлагаемом налогами конверте. Те, кто помнят, знают: это было не охуеть, как много, но неплохо, тем более что дело было в Казахстане.
Помимо основной работы, на которой я ровно ничего не делал, я, пользуясь знанием английского языка, переводил на этот самый язык бесконечные уставные документы жульнических акционерных обществ, зарегистрированных на каких-то подозрительных архипелагах, и покупал на вырученные деньги автомобили бээмвэ для временно не желающих со мной ебаться барышень.
Иногда, отчаявшись этих барышень в конце концов выебать, я заказывал себе по телефону дюжину блядей для того, чтобы поговорить с ними о невозможности любви. По утрам я с тоской смотрел на стопку денег в верхнем ящике полированной стенки и понимал, что столько я не выпью.
Был ли я счастлив? Не знаю, может быть, и был, но я уже ничего про ту жизнь не помню.
Зато хорошо помню, как получил я тогда свою первую зарплату. Ой, блядь, нет, не будет никогда у меня больше такой зарплаты, сколько мне ни заплати, хоть миллион.
Я тогда вышел на улицу и купил себе телевизор. Пересчитал деньги – а их ещё пятьсот! Я этот телевизор пытался купить все четыре года, которые проработал учителем в школе. И всегда он, сука, стоил ровно в два раза больше, чем я мог скопить, независимо ни от какой инфляции и экономических реформ. Если я зарабатывал триста рублей, он стоил шестьсот, если десять тысяч – он стоил двадцать, ну и так далее. Я всё время от него отставал. А тут вдруг я вырвался вперёд и купил его таки, пидараса.
Он честно мне показывал чего-то лет пять, я даже завёл себе тарелку и по вечерам вяло зевал под канал дискавери. А потом я его бросил в съёмной квартире вместе с обгорелым креслом и тарелкой, когда уезжал однажды навсегда ранним утром в город Петербург. Ну не продавать же его, прости Господи.
Купив телевизор и отнеся его в дом, я снова вышел наружу и прошёлся по периметру коммерческих киосков. Остановившись возле каждого из них, я с удовлетворением думал, что могу купить всё, что в нём находится вместе с продавщицей. Но так ничего и не купил, кроме пары банок пива туборг с потным человеком на картинке. Возможность купить что-либо без ущерба для кого-либо совершенно лишает покупку постыдной радости. Ну вот когда я, опять же работая учителем, купил себе однажды тайком сникерс, и вместо того, чтобы отнести его в семью, с наслаждением сожрал вместе с обложкой за киоском – это было стыдно, конечно, но вкусно. А так – хоть сто их покупай, хоть двести. Нет, не хочется.
Не то чтобы я вдруг додумался до такой умной мысли, что не в деньгах счастье – оно безусловно не в деньгах. Но хоть радость-то должна быть? Когда телевизор покупал – она ещё была. А тут вдруг устал как-то, и она кончилась.
Пришёл домой, выпил пива да и спать лёг.
Ценные бумаги
В девяносто третьем году я пришёл на собеседование к главному менеджеру алма-атинского отделения компании KPMG (это я для солидности написал английскими буквами, потому что очень тогда волновался). Контора эта тогда входила в биг сикс аудиторских компаний нашей вселенной, потом их стало биг файв, а сейчас не знаю, чего там от них осталось.
Так вот этот самый главный менеджер Хью Оразко (я тогда ещё не знал, что внутри конторы русскоязычные работники зовут его не иначе как «Пидоразко») задал мне пронзительный вопрос: «What do you know about seсurities?»
А я чего знал про секьюритиз в девяносто третьем году? Да ничего я не знал и сейчас ничего знать не хочу.
Однако же, жрать-то хотелось. Я незадолго до того нехуёво наварился на строительстве унитазной фабрики в Джамбульской области на деньги чеченских магнатов – долларов, кажется, на двести, но они куда-то стремительно исчезли, так что к моменту собеседования я ничего не жрал уже дня два.
И тогда в приступе вдохновения рассказал я ему про давилонскую баржу из третьего тома Николая Носова. Ну и был мгновенно принят на работу. Занял под это дело у кого-то тысячу тенге и купил десяток яиц и бутылку водки.
Узнал потом множество ненужных английских слов: брокадилаз, андерайтинг, деривативз, фьючерз.
А потом однажды солнечным осенним днём, уволившись навсегда из другой уже конторы, прайс, кажется, вотерхаус она называлась, выкинул в мусорный бак ошейник и с облегчением забыл про всё то, что эти слова могли бы означать.
Принц персии
Когда-то очень давно, году в девяносто первом что ли, когда ещё половина вас не умела толком разговаривать и правильно пользоваться туалетной бумагой, дали мне несусветную какую-то сумму денег: тысячу долларов или около того. Можно было конечно употребить эту сумму на что-нибудь тоскливое, например заплатить за электричество за последние пять лет или купить себе зимние ботинки (тем более что была как раз зима). Но скажите: какая радость может быть человеку от зимних ботинок, кроме того, что они на натуральном меху? Никакой.
В общем, я решил сделать что-нибудь смелое и сильное и зашёл в единственный в нашем городе компьютерный магазин. Год, я ещё раз напоминаю, был девяносто первый, и никакого компьютера я до той поры в глаза не видел и вообще смутно представлял себе, что он мог бы делать.
У продажной стойки стоял молодой человек неопределённой наружности (это сейчас достаточно сказать «менеджер торгового зала», и все уже понимают, о ком идёт речь).
«Есть ли у вас компьютеры?» – спросил я его решительно. «Да! – обрадовался молодой человек. В глазах его загорелся нездоровый огонь. – А вам какой бы хотелось: эй-ти или экс-ти? Тут вот только что подвезли икс-восемьдесят шестые белой сборки». «А вот это, – сказал я тупо, – чего вы сейчас сказали: эй-ти, экс-ти – они вообще чем друг от друга отличаются?»
Огонь в глазах молодого человека медленно угас: «Да ничем особенно не отличаются – серенькие, беленькие. Да посмотрите там сами в торговом зале – может быть что-нибудь приглянётся». Тут молодой человек с сомнением посмотрел на мои старые зимние ботинки.
В общем, не купил я тогда себе компьютера, и в принца персии сыграл только год спустя.
Алмазный британец
Как-то однажды путешествовал я с одним английским, а точнее было бы сказать, британским банкиром по разным захолустным городам внутреннего Казахстана.
Нынешнему цивилизованному человеку даже и не нужно ничего про эти города знать: все они одинаковы и невыносимо тоскливы. Степь, пыль, серые пятиэтажки, центральная площадь с бывшим горкомом партии. Гостиница с телевизором «Рубин» и влажными простынями.
Банкир был джентльменом выпуска начала прошлого века, то есть абсолютно безупречным. Доктор Ватсон в исполнении артиста Соломина рядом с ним смотрелся бы весьма неубедительно. Кажется, у банкира даже были серебряные часы в жилетном кармане. Представлял он Всемирный Банк Развития по линии льготных кредитов, а я был при нём переводчиком.
Встречали нас, понятное дело, везде на самую широкую ногу, но банкир кушал обычно скромный салатик и выпивал минеральной воды без газа, после чего вежливо откланивался.
Где-нибудь ближе к вечеру, впрочем, мы с ним заказывали за свой счёт в гостиничной столовой по триста виски и беседовали о том, о сём. Как-то мы с ним подружились, да оно и понятно – с кем ему ещё было поговорить в городе Джезказгане?
Он был действительно могучий старик. Рассказу его о том, как он однажды в сорок шестом году вёз двести тысяч долларов зарплаты для британских легионеров в набитом изнутри и облепленном снаружи индийском поезде или снимал дворец раджи где-то во внутренней Индии за один фунт стерлингов в сутки, мог бы позавидовать сам Редьярд Киплинг.
Однажды за ужином британец рассказал мне секрет.
«С центральной площади Лхасы, – сообщил он, аккуратно расчленяя ножом то, что в гостиничном ресторане называлось бифштексом, – каждую пятницу ровно в шесть часов утра отходит жёлтый автобус. Запомни хорошо: жёлтый. Он берёт пассажиров, их всегда очень мало, и уезжает. И никогда не возвращается».
«Ну? – спросил я тупо. – А куда идёт-то?»
«В Шамбалу», – невозмутимо ответил британец, умудрившись наконец отпилить от бифштекса кусок.
«А почему не возвращается?» – ещё тупее спросил я.
«Потому что из Шамбалы никто не возвращается, – терпеливо объяснил британец. – Потому что незачем».
«То есть автобус каждый раз новый?»
«Мммм, – он отрицательно потряс головой, наконец прожевал, проглотил. – Один и тот же. Он вообще один всего автобус. Ездит только туда. И никогда не возвращается. Потом снова едет туда и опять не возвращается. Понимаешь?»