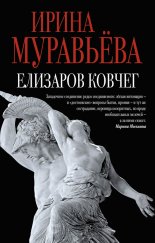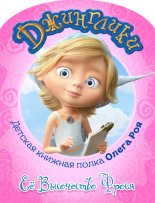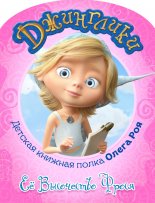Друд, или Человек в черном Симмонс Дэн
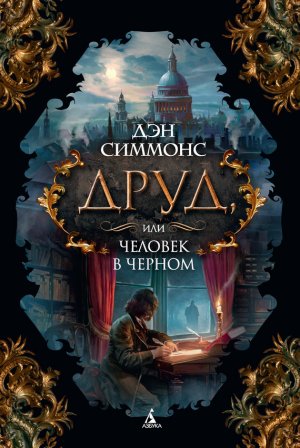
— Да.
— Тогда будьте добры, пособите мне поставить этот камень на место. Когда вы управитесь со своим делом здесь, дадите знать старому Дредлсу, и я замажу щели раствором так ловко, что никому и в голову не придет, будто эту стену трогали хоть раз со дня Всемирного потопа.
Снаружи, на холодном мартовском ветру, я вручил старому каменщику триста фунтов разными купюрами. Пока я отсчитывал деньги, длинный, сухой, розово-серый язык Дредлса чуть не ежесекундно выстреливал изо рта, точно у галапагосской ящерицы, и стремительно облизывал губы, дотягиваясь даже до пыльных щетинистых щек.
— И я буду платить вам по сто фунтов каждый год, — прошептал я. — До конца ваших дней.
Он с подозрительным прищуром взглянул на меня. Голос его, когда он заговорил, прозвучал слишком, слишком громко.
— Надеюсь, мистер Билли Уилки Коллинз не думает, что молчание старого Дредлса надобно покупать? Дредлс умеет молчать не хуже господина хорошего, что стоит рядом с ним. Или плохого, коли на то пошло. Ежели человек, сотворивший такое дело, какое вы замышляете, думает платить за молчание, он может додуматься пойти на еще одно непотребство, чтобы окончательно гарантировать молчание. Это будет ошибкой, мистер Билли Уилки. Точно вам говорю. Я все рассказал своему подмастерью про ваши тутошние дела и взял с него клятву хранить молчание под страхом смерти от руки разгневанного Дредлса, но он знает, сэр, он знает. И он всем расскажет, ежели с его господином и повелителем, старым здоровяком Дредлсом, случится какая беда.
Я подумал о подмастерье — глухонемой идиот, насколько я помнил. Но сказал:
— Чепуха. Считайте это ежегодным пособием. Ежегодной платой за ваши услуги и вклад в наше общее…
— Дредлс знает, что такое ежегодное пособие так же хорошо, как знает, что старый Йорик, оставленный нами внизу, был человек бесконечного остроумия, неистощимый на выдумки Горацио. В общем, дайте Дредлсу знать, когда вам понадобится на веки вечные посадить на раствор тот замечательный старый камень.
С этими словами он развернулся на стоптанных каблуках и двинулся восвояси, на ходу дотронувшись пальцами до воображаемых полей воображаемой шляпы.
Ежемесячные продажи «Мужа и жены» были не столь впечатляющими, как продажи «Лунного камня». На сей раз длинные очереди не выстраивались каждый месяц за новыми выпусками романа. Критики встретили книгу прохладно, даже враждебно. Английских читателей, как я и ожидал, привело в негодование точное и подробное описание бесчинств и самоистязаний мускулистого христианина-спортсмена. Согласно сообщению Харперов из Нью-Йорка, американских читателей мало заинтересовала и еще меньше возмутила несправедливость английских матримониальных законов, которые разрешали — и даже поощряли — уловление в сети нежелательного брака. Меня все это нисколько не волновало.
Если вы в своем будущем не читали «Мужа и жену», дорогой читатель (хотя я искренне надеюсь, что мой роман все еще издается век с лишним спустя), позвольте мне дать вам представление о нем. В нижеприведенной сцене из главы пятьдесят четыре (страница двести двадцать шесть в первом издании) у моей несчастной, попавшей в матримониальную западню героини Эстер Детридж происходит жуткая (по крайней мере — в моем разумении) встреча.
Существо крадучись двинулось мне навстречу, темное и расплывчатое в ярком солнечном свете. Поначалу я видела лишь смутную женскую фигуру. Через несколько мгновений она начала обретать отчетливость очертаний, светлеть изнутри кнаружи. Она становилась все светлее, светлее, светлее, и наконец я увидела перед собой САМУ СЕБЯ, словно в зеркале, — точную свою копию, смотревшую на меня моими глазами… она сказала мне собственным моим голосом: «Убей его».
«Касселлз мэгэзин» выплатил мне пятьсот фунтов авансом и потом еще семьсот пятьдесят. Я договорился с издательским домом Ф. С. Эллиса об издании «Мужа и жены» в трех томах, первый из которых выйдет в свет двадцать седьмого января. Несмотря на скромные продажи в Америке, Харперам настолько понравились начальные выпуски романа, что они прислали мне совершенно неожиданный чек на пятьсот фунтов. Вдобавок я писал «Мужа и жену» с твердым расчетом на последующую переработку для театра (этот и следующие мои романы по форме приближены к пьесе) и рассчитывал получить дополнительный доход от очень скорого его переноса на лондонскую и американскую сцены.
Сравните мою производительность с литературным бездействием Чарльза Диккенса, ничего не написавшего в течение последнего года с лишним.
Тем сильнейшую досаду испытал я однажды в мае, когда заглянул в контору «Круглого года» на Веллингтон-стрит, чтобы обсудить (в требовательном тоне) возвращение моих авторских прав с Уиллсом или Чарли Диккенсом, и, по старой привычке прохаживаясь там из кабинета в кабинет, случайно наткнулся на распечатанное письмо с финансовым докладом от Форстера и Долби.
В нем подытоживались доходы Диккенса от публичных чтений, и при виде указанных там цифр скарабей лихорадочно завозился за моим правым глазом, от чего мучительная боль кольцом сдавила голову. Сквозь туман нестерпимой боли я прочитал нижеприведенный отчет, написанный убористым почерком Долби:
Девяносто три тысячи фунтов. Весь прошлый и нынешний год я едва сводил концы с концами — из-за вложения личных средств в постановку «Черно-белого», из-за чрезмерных денежных ссуд Фехтеру, из-за постоянных расходов на содержание громадного дома на Глостер-плейс (и сопутствующих выплат жалованья двум слугам и поварихе), из-за щедрых вспомоществований Марте Р*** и особенно из-за постоянной необходимости покупать огромные количества опиума и морфия для лекарственных нужд. Годом раньше в письме к Фредерику Леману (когда этот верный друг предложил мне денег взаймы) я написал: «Я отплачу Искусству. Будь оно проклято!»
Погода тогда стояла плохая, а потому я поехал домой с Веллингтон-стрит в кебе и на Стрэнде увидел бредущую под дождем дочь Диккенса Мери (в семье и в кругу близких друзей семьи все звали ее Мейми). Я тотчас велел вознице остановиться, подбежал к ней и узнал, что она идет по улице одна, без зонтика, поскольку не сумела поймать кеб. Я помог ей сесть в мой экипаж, постучал в потолок тростью и крикнул вознице: «Гайд-Парк-плейс, дом пять, прямо напротив Мраморной Арки».
Вода текла с нее ручьями, и я дал ей два чистых носовых платка, чтобы она вытерла хотя бы лицо и руки, а потом увидел ее покрасневшие глаза и понял, что она плакала. Пока кеб медленно полз в северном направлении по запруженным улицам, а Мейми вытиралась платком, у нас завязался разговор. В тот день дождь стучал по крыше кеба особо настойчиво.
— Вы очень добры, — начала расстроенная молодая женщина (хотя в своем преклонном возрасте тридцати двух лет она едва ли могла сойти за молодую женщину). — Вы всегда были очень добры к нашей семье, Уилки.
— И всегда буду, — промямлил я. — Ибо за многие годы знакомства я видел много добра от вашей семьи.
Кучер над нами, мокнущий под ливнем, орал и щелкал кнутом, замахиваясь не на свою бедную лошадь, а на возницу какого-то фургона, переехавшего нам дорогу.
Казалось, Мейми не слышала меня. Вернув мне влажные теперь платки, она вздохнула и сказала:
— Знаете, я на днях была на королевском балу и развлеклась на славу. Там было так весело! Отец собирался сопровождать меня, но в последний момент не смог пойти…
— Надеюсь, не по причине здоровья? — промолвил я.
— Увы, именно так. Он говорит, что левая нога у него — я передаю дословно, так что уж извините — болит до чертиков. Он с трудом доковыливает до рабочего стола каждый день.
— Мне прискорбно это слышать, Мейми.
— Да, да, мы все опечалены. За день до королевского бала к отцу приходила посетительница — совсем юная девица с литературными устремлениями, которой лорд Литтон порекомендовал поговорить с отцом, — и, когда отец рассказывал ей, какое удовольствие он получает от работы над «Друдом», у этой выскочки хватило наглости спросить: «А вдруг вы умрете, не успев дописать книгу?»
— Возмутительно, — пробормотал я.
— Да, да. А отец… вы же знаете, как иногда во время разговора он улыбается, но взгляд его при этом внезапно устремляется куда-то вдаль… так вот, он сказал: «Ну да, такое со мной бывает». Девица сконфузилась…
— И правильно сделала, — вставил я.
— Да, да… Но когда отец увидел, что смутил ее, он очень мягко, самым добрым своим голосом промолвил: «Остается только работать — работать, пока есть время и силы».
— Совершенно верно, — сказал я. — Все мы, писатели, держимся такого же мнения на сей счет.
Мейми принялась возиться со своей шляпкой, заправлять мокрые развившиеся локоны за уши, и мне выпала минутка поразмыслить о довольно печальном будущем обеих дочерей Диккенса. Младшая, Кейти, состояла в браке с тяжелобольным молодым человеком и в настоящее время была изгоем светского общества как из-за разрыва отца с матерью, так и из-за собственного своего поведения и бесконечных флиртов. У нее всегда был слишком острый язык для слуха светского общества и большинства мужчин, представляющих собой приемлемую партию. Мейми была не так умна, как Кейти, но ее отчаянные попытки занять положение в свете всегда происходили на периферии высшего общества и обычно сопровождались вихрем злобных сплетен, вызванных политическими взглядами отца, поведением сестры и ее собственным стародевичеством. Последним серьезным кандидатом в мужья Мейми являлся Перси Фицджеральд, но, как заметила Кейти в канун Нового года, Перси остановил выбор на «жеманной прелестнице» и отказался от последнего шанса породниться с семейством Диккенса.
— Мы будем страшно рады вернуться в Гэдсхилл-плейс, — внезапно сказала Мейми, закончив оправлять обвисшие мокрые юбки и приводить в подобие порядка кружева на корсаже.
— О, вы так скоро покидаете дом Милнера Гибсона? Мне казалось, Чарльз арендовал его на более долгий срок.
— Только до первого июня. Отцу не терпится вернуться в Гэдсхилл на лето. Он хочет, чтобы дом гостеприимно распахнул двери и мы все съехались и устроились там уже ко второму или третьему июня. До конца лета у него будет мало поводов наведываться в Лондон. Отец очень тяжело переносит железнодорожные поездки, Уилки. К тому же Эллен проще навещать его там, чем в городе.
Я растерянно моргнул, потом снял очки и протер стекла одним из влажных носовых платков, чтобы скрыть свою реакцию.
— Так мисс Тернан по-прежнему бывает в Гэдсхилле? — небрежно спросил я.
— О да. Последние несколько лет Эллен нередко у нас гостила — ваш брат или Кейти наверняка говорили вам, Уилки! Если подумать, странно, что вы ни разу не приезжали в Гэдсхилл, когда Эллен находилась там. Но с другой стороны — вы же страшно занятой человек!
— Да, конечно, — промолвил я.
Значит, Эллен Тернан по-прежнему частый гость в Гэдсхилле. Неожиданная новость. Я был уверен, что Диккенс взял с дочерей клятву молчать на сей счет (дабы не давать обществу еще одного повода избегать всех их), но рассеянная Мейми забыла об этом. Или полагала, что я все еще остаюсь близким другом отца, посвященным во все его дела.
В тот момент я осознал, что никто из нас — никто из родственников, друзей и даже будущих биографов Диккенса из какой-нибудь грядущей эпохи вроде вашей, дорогой читатель, — никогда не узнает подлинной истории его странных отношений с актрисой Эллен Тернан. Действительно ли они похоронили своего ребенка во Франции, как я предположил на основании подслушанного разговора, состоявшегося между ними у Пекхэмской станции? Действительно ли они жили теперь как брат и сестра, навсегда оставив страсть в прошлом (коли таковая вообще имела место)? Или эта страсть приобрела новую форму, предполагающую публичность и гласность, — возможно, скандальный развод и второй брак стареющего писателя. Найдет ли когда-нибудь Чарльз Диккенс счастье с женщиной, которая, похоже, всегда держала на расстоянии своего пылкого, наивного, романтически настроенного поклонника?
Писатель во мне с интересом задавался подобными вопросами. Остальная часть меня плевать на них хотела. Старый друг во мне смутно желал, чтобы Диккенс обрел счастье при жизни. Остальная часть меня понимала, что жизни Диккенса пора положить предел, что он должен исчезнуть — бесследно сгинуть, испариться, пропасть, не оставив после себя трупа, — чтобы раболепная толпа не могла похоронить его на кладбище Вестминстерского аббатства. Это было крайне важно.
Мейми продолжала болтать какой-то вздор — что-то о господине, с которым она танцевала и флиртовала на королевском балу, — но внезапно экипаж остановился, я выглянул в исчерченное дождем окошко и увидел Мраморную Арку.
— Я провожу вас до двери, — сказал я, выходя из кеба и подавая руку глупой старой деве.
— О Уилки! — воскликнула она, опираясь на мою руку. — Вы воистину добрейший человек на свете!
Через несколько дней после вышеописанной случайной встречи, когда я один шел домой из театра «Адельфи», кто-то окликнул меня свистящим шепотом из темного переулка.
Я остановился, повернулся и поднял трость с медным набалдашником, как сделал бы любой джентльмен при столкновении с подозрительным типом поздним вечером.
— Мис-с-стер Коллинз, — прошипела черная фигура в узком проеме между домами.
«Друд», — подумал я. Сердце у меня бешено заколотилось, кровь зашумела в ушах. Я застыл на месте, не в силах пуститься в бегство. Стиснул трость обеими руками.
Неясная фигура подступила на два шага ближе к выходу из переулка, но на свет не вышла.
— Мис-с-стер Коллинз… это я, Реджинальд Баррис-с-с. — Он поманил меня рукой.
Я не собирался заходить в эту вонючую черную расселину, но разглядел лицо фигуры в рассеянном, слабом свете фонаря, стоявшего поодаль. Все та же нечистая кожа, все та же всклокоченная борода, все те же глаза под набрякшими веками и затравленно бегающий по сторонам взгляд. Я лишь мельком увидел тускло блеснувшие в полумраке зубы, но мне показалось, они сгнили и разрушились. Некогда привлекательный, самоуверенный, крепко сбитый сыщик Реджинальд Баррис превратился в призрачную жутковатую фигуру, шипящую мне из темного переулка.
— Я думал, вас уже нет в живых, — прошептал я.
— Мне недолго осталос-сь жить, — тихо проговорил Баррис. — Они охотятся за мной повс-сюду. Не дают мне времени ни пос-спать, ни поес-сть. Мне приходится пос-стоянно менять местонахождение.
— Какие у вас новости? — осведомился я, по-прежнему держа наготове тяжелую трость.
— Друд и его прис-спешники назначили дату, когда заберут вашего друга Диккенс-са, — прошипел он.
Я сообразил, что он присвистывает по-друдовски из-за отсутствующих зубов.
— Когда?
— Девятого июня. Через три недели без малого.
«Пятая годовщина», — подумал я. Это было логично.
— Что значит «заберут»? — спросил я. — Они убьют его? Похитят? Заберут в Подземный город?
Грязный оборванец пожал плечами. Он натянул потрепанную шляпу пониже, и на его лицо снова легла тень.
— Что мне делать?
— Вы можете предупредить его, — прохрипел Баррис. — Но он не найдет мес-ста, где спрятаться, — не с-скроется от них ни в одной с-стране.
Сердце у меня по-прежнему билось часто.
— Я могу чем-нибудь помочь вам?
— Нет, — сказал Баррис. — С-со мной все кончено.
Прежде чем я успел задать следующий вопрос, он попятился и, казалось, провалился под грязное булыжное покрытие. Верно, там была подвальная лестница, которой я не видел, но у меня создалось впечатление, будто неясная фигура просто вертикально ушла под землю в темном переулке.
Девятое июня. Но как мне успеть самому расправиться с Диккенсом до этой даты? Скоро он вернется в Гэдсхилл-плейс, и мы оба усердно трудимся каждый над своим романом. Удастся ли мне оторвать его от работы и заманить в Рочестер, чтобы осуществить задуманное? Причем до девятого июня, до дня годовщины Стейплхерстской катастрофы, когда Диккенс неизменно встречался с Друдом?
Я написал официальное и довольно холодное письмо Уиллсу с требованием вернуть мне авторские права на все мои повести и романы, когда-либо публиковавшиеся в «Круглом годе», и Диккенс самолично ответил мне на него в последнюю неделю мая 1870 года.
Даже деловая часть этого послания была на удивление дружелюбной — Неподражаемый заверял меня, что необходимые бумаги уже составляются и что, хотя подобное возвращение авторских прав в нашем контракте не оговаривалось, все права будут возвращены мне незамедлительно.
Но в нескольких коротких заключительных фразах сквозила печаль, даже тоска:
Дорогой Уилки, я не наведываюсь к вам, поскольку не хочу вас беспокоить. Может статься, вы не против повидаться со мной не сегодня-завтра. Как знать?
Это было то, что надо.
Я тотчас же написал Диккенсу сердечное письмо, где спрашивал, можем ли мы встретиться «в ближайшее удобное для вас время, но желательно до памятной даты, которую вы ежегодно отмечаете в начале лета».
Если Неподражаемый не сжег письмо, по обыкновению, данная фраза наверняка покажется загадочной любому, кому оно попадется в руки впоследствии.
Когда первого июня от Диккенса пришел теплый утвердительный ответ, я завершил последние приготовления и перешел к Акту Третьему, заключительному.
Глава 47
Где я?
Гэдсхилл, но не Гэдсхилл-плейс, а просто Гэдсхилл, то самое место, где Фальстаф пытался ограбить карету, но подвергся нападению «тридцати разбойников» (на самом деле — принца Генри с другом) и сам едва не стал жертвой ограбления, прежде чем удрал в панике.
Моя черная карета стоит сбоку от «Фальстаф-Инн». Наемный экипаж похож на катафалк, что представляется весьма уместным. Он почти невидим в тени высоких деревьев сейчас, когда начинают сгущаться сумерки. Кучер на козлах — не кучер вовсе, а матрос, нанятый мной на одну ночь за плату, равную полугодовому заработку настоящего кучера. Кучер из него никудышный, но зато он иностранец. Он не говорит по-английски (я объясняюсь с ним на скудном немецком, который изучал еще в школе, и на языке жестов) и ничего не знает об Англии и знаменитых англичанах.
Через десять дней он снова уйдет в плавание и, возможно, никогда больше не вернется на английские берега. Он не испытывает ни малейшего любопытства к происходящему. Кучер он препаршивый — лошади чувствуют отсутствие сноровки и не выказывают никакого уважения к нему, — но он идеальный кучер на сегодня.
Когда происходит дело?
Теплым вечером восьмого июня, спустя двадцать минут после захода солнца. Ласточки и летучие мыши чертят стремительные зигзаги в воздухе, то исчезая в тени, то вновь появляясь; крылья летучих мышей и раздвоенные хвосты ласточек похожи на распластанную букву V на фоне акварельно-бледного сумеречного неба.
Я вижу Диккенса, он скорым шагом переходит дорогу — вернее, пытается идти скорым шагом, но слегка прихрамывает. Он в темном костюме, надетом, полагаю, специально для нашей вылазки, и мягкой шляпе с широкими опущенными полями. Я открываю дверцу, и он запрыгивает в карету и усаживается рядом со мной.
— Я никому не сказал, куда ушел, — отдуваясь, говорит он. — Как вы и просили, друг мой.
— Благодарю вас. Такая секретность необходима лишь на сей раз.
— Все это очень таинственно, — говорит он, когда я стучу в потолок экипажа тяжелой тростью.
— Так надо, — отвечаю я. — Сегодня, дорогой Чарльз, мы оба найдем разгадку каждый своей великой тайны, но ваша тайна более велика, чем моя.
Он никак не откликается на мои слова и лишь раз высказывается по поводу возницы, когда карета, раскачиваясь, трясясь и подпрыгивая, с грохотом катится по большаку на восток. Кучер-матрос гонит лошадей слишком быстро, и экипаж, подскакивающий на выбоинах и вихляющий из стороны в сторону при объездах незначительных препятствий, грозит опрокинуться в придорожную канаву с водой.
— Похоже, ваш кучер страшно спешит, — произносит Диккенс.
— Он иностранец, — поясняю я.
Немного погодя Диккенс перегибается через меня, выглядывает в левое окошко и видит башню Рочестерского собора, черный шпиль на фоне меркнущего неба.
— Ага, — произносит он, но скорее утвердительно, нежели удивленно.
Карета со скрипом и скрежетом останавливается у кладбищенских ворот, мы выходим из нее — я держу в руке маленький незажженный фонарь, и оба мы двигаемся несколько скованно после нещадной тряски в дороге, — а кучер взмахивает кнутом, и черная карета с грохотом укатывает в сгущающиеся сумерки.
— Вы не хотите, чтобы возница подождал нас? — спрашивает Диккенс.
— Он вернется за мной в условленное время, — говорю я.
Если Диккенс и замечает, что я сказал «за мной», а не «за нами», он не выражает никакого недоумения по сему поводу. Мы заходим на кладбище. Собор, кладбище и эта старая часть города пустынны и безмолвны. Сейчас пора отлива, и мы слышим зловоние гниющей на отмелях тины, но откуда-то с моря доносятся свежий соленый запах и тихий рокот ленивых волн.
— Что дальше, Уилки? — спрашивает Диккенс.
Я достаю из кармана сюртука револьвер — после нескольких секунд неловкой возни, ибо он зацепился курком и мушкой за подкладку, — и направляю на него.
— Ага, — снова произносит он и снова без малейшего удивления. Сквозь шум крови в ушах я слышу в голосе Диккенса просто печаль, даже облегчение.
Несколько мгновений мы стоим так, странная и нелепая сцена. Ветер с моря шелестит в ветвях сосны, что растет у кладбищенской стены, скрывающей нас от взоров с улицы. Полы длинного летнего сюртука Диккенса развеваются на ветру, точно черный стяг. Он поднимает руку, чтобы придержать мягкую шляпу.
— Значит, известковая яма? — спрашивает он.
— Да.
Мне удается выговорить слово лишь после двух неудачных попыток. Во рту у меня пересохло. Мне безумно хочется приложиться к фляжке с лауданумом, но я боюсь даже на миг отвести взгляд от Диккенса.
Я коротко взмахиваю пистолетом, и Диккенс направляется к окутанной сумерками границе кладбища, где находится известковая яма. Я следую за ним на расстоянии нескольких футов, стараясь сохранять безопасную дистанцию на случай, если вдруг Неподражаемый набросится на меня с намерением отнять оружие.
Внезапно он останавливается, я тоже останавливаюсь и отступаю на пару шагов, вскидывая и наставляя на него револьвер.
— Дорогой Уилки, могу я обратиться к вам с одной просьбой? — Он говорит так тихо, что я с трудом разбираю слова сквозь шум ветра в немногочисленных деревьях и густой болотной траве.
— Сейчас не время для просьб, Чарльз.
— Возможно.
В слабом лунном свете я вижу, что он улыбается. Мне не нравится, что он повернулся ко мне и смотрит на меня. Я надеялся, что он останется ко мне спиной, покуда мы не достигнем ямы и не покончим с делом.
— Но у меня все же есть просьба, — тихо продолжает он. К своему крайнему раздражению, я не слышу страха в его голосе, звучащем гораздо тверже, чем мой. — Одна-единственная.
— Какая именно?
— Возможно, вам покажется странным, Уилки, но последние несколько лет я остро предчувствовал, что умру в годовщину Стейплхерстской катастрофы. Вы позволите мне достать хронометр из жилетного кармана и посмотреть, который час?
«Зачем?» — тупо думаю я. Перед отъездом из дома я выпил почти две обычные свои дозы лауданума и сделал два укола морфия, и теперь действие препаратов сказывается, не столько укрепляя мою решимость, сколько вызывая головокружение и замутняя сознание.
— Хорошо, посмотрите, только быстро, — с усилием произношу я.
Диккенс спокойно достает хронометр, вглядывается в него в лунном свете и раздражающе медленно заводит, прежде чем положить обратно в карман.
— Начало одиннадцатого, — говорит он. — В июне темнеет как раз в это время, и мы выехали поздно. До полуночи ждать недолго. Я не могу объяснить, почему… ведь ваша цель — чтобы никто не узнал, как и где я умер и погребен… но для меня важно, чтобы мое предчувствие сбылось и я покинул этот мир не восьмого, а девятого июня.
— Вы надеетесь, что кто-нибудь здесь появится или вам вдруг представится возможность сбежать, — говорю я своим новым, дрожащим голосом.
Диккенс пожимает плечами.
— Если кто-нибудь зайдет на кладбище, вы сможете застрелить меня и через заросли травы добраться до вашей кареты, ждущей неподалеку.
— Тогда ваше тело найдут, — невыразительным голосом говорю я. — И похоронят вас в Вестминстерском аббатстве.
Тут Диккенс смеется. Громким, заливистым, беззаботным смехом, столь хорошо мне знакомым.
— Неужели все дело в этом, Уилки? В Вестминстерском аббатстве? Рассею ли я ваши опасения, если скажу, что уже изъявил в завещании волю, чтобы меня похоронили скромно, без шумихи? Никаких церемоний в Вестминстерском аббатстве или любом другом месте. Я выразил свое желание в самых недвусмысленных выражениях: не больше трех карет в похоронной процессии и не больше провожающих, чем поместится в этих трех каретах.
Кажется, мое тяжело стучащее сердце — а теперь еще и пульсирующая головная боль — пытается попасть в такт далекому рокоту прибоя на песчаной отмели где-то к востоку, но неравномерные порывы ветра отказываются подчиняться ритму.
— Никакой похоронной процессии не будет, — говорю я.
— Ясное дело, — соглашается Диккенс и приводит меня в ярость едва заметной усмешкой. — Тем больше оснований оказать мне последнюю маленькую любезность, прежде чем мы расстанемся навеки.
— Чего ради? — спрашиваю после долгой паузы.
— Вы сказали, что каждый из нас сегодня разгадает тайну. Видимо, мне предстоит раскрыть тайну, что же ждет человека после смерти, если там вообще есть что-нибудь. А что насчет вас, Уилки? Какую тайну желаете разгадать этим погожим вечером вы?
Я молчу.
— Позвольте мне высказать предположение, — говорит Диккенс. — Вы хотели бы узнать, чем должна была закончиться «Тайна Эдвина Друда». И возможно даже, узнать, каким образом мой Друд связан с вашим Друдом.
— Да.
Он снова смотрит на часы.
— До полуночи осталось всего полтора часа. Я прихватил с собой фляжку бренди — по вашему совету, хотя Фрэнк Берд пришел бы в ужас, когда бы узнал об этом, — а вы наверняка взяли что-нибудь бодрящее для себя. Почему бы нам не найти где-нибудь здесь удобное местечко и не побеседовать в последний раз, прежде чем колокола соборной башни возвестят о моем смертном часе?
— Вы надеетесь, что я передумаю, — говорю я со злобной улыбкой.
— На самом деле, дорогой Уилки, я ни секунды не сомневаюсь, что такого не случится. И я не уверен, что мне хочется, чтобы вы передумали. Я очень… устал. Но я не прочь напоследок поговорить с вами и выпить бренди.
С этими словами Диккенс круто поворачивается и начинает высматривать среди надгробных камней место, куда присесть. Мне остается либо уступить его желанию, либо пристрелить его прямо здесь и отволочь труп к известковой яме, на расстояние многих ярдов. Я надеялся избежать подобного непотребства, оскорбительного для нас обоих. И, честно говоря, я ничего не имел бы против того, чтобы спокойно посидеть несколько минут, покуда у меня не пройдет головокружение.
Он выбирает в качестве стульев два плоских надгробных камня, расположенных по сторонам от могильной плиты подлиннее, способной сойти за низкий стол, — напоминание о происходившей на этом самом кладбище трапезе, когда Диккенс изображал официанта перед Эллен Тернан, ее матерью и мной.
Получив разрешение, Диккенс достает из кармана сюртука фляжку с бренди и ставит ее на плиту-стол перед собой, а я делаю то же самое со своей серебряной фляжкой. Я запоздало соображаю, что мне следовало похлопать Неподражаемого по карманам, когда я в первый раз направил на него пистолет. Я знаю, что в Гэдсхилл-плейс он держит свой собственный пистолет, а также дробовик, из которого убил Султана. Тот факт, что Диккенс нисколько не удивился, узнав о цели нашей «таинственной вылазки», наводит меня на мысль, что он мог прихватить из дома оружие… тогда получает объяснение его иначе необъяснимая беспечность.
Но сейчас уже слишком поздно. Я просто буду начеку все оставшееся до полуночи время.
Несколько минут мы сидим в молчании. Потом колокола соборной башни начинают отбивать одиннадцать — нервы у меня так напряжены, что я дергаюсь и едва не спускаю курок оружия, по-прежнему нацеленного Диккенсу в грудь.
Он замечает мою реакцию, однако ничего не говорит, когда я кладу револьвер на колено, продолжая направлять дуло на него, но убрав палец из штуковины, которую Хэчери называл, кажется, «спусковой скобой».
Я снова вздрагиваю всем телом, когда после долгого молчания Диккенс подает голос:
— Это то самое оружие, что однажды показывал мне Хэчери?
— Да.
Несколько мгновений слышен лишь шелест ветра в траве. Словно страшась этой тишины, словно она ослабляет мою решимость, я заставляю себя сказать:
— Вы знаете, что Хэчери умер?
— О, да.
— А вам известно, как он умер?
— Да, — кивает Диккенс. — Известно. Мне сообщили знакомые из Столичной полиции.
Больше нам нечего сказать на эту тему. Но от нее я перехожу к интересующему меня предмету, единственно благодаря которому Чарльз Диккенс до сих пор остается жив.
— Меня удивило, что вы ввели в «Эдвина Друда» персонажа по имени Дэчери, явно переодетого сыщика в пышном парике, — говорю я. — Такая карикатура на бедного Хэчери — особенно если учесть… э… прискорбные обстоятельства его смерти, — кажется довольно обидной.
Диккенс смотрит на меня. Сейчас, когда мои глаза привыкли к темноте, на кладбище, расположенном далеко от освещенных фонарями улиц и жилых домов с горящими окнами, создается впечатление, будто надгробные камни вокруг — особенно белая мраморная плита между нами, похожая на ломберный стол, за которым мы разыгрываем нашу последнюю партию в покер, — отбрасывают на лицо Диккенса блики лунного света, словно жалкие подобия газовых ламп в осветительной установке, сооруженной для его публичных чтений.
— Не карикатура, — возражает он. — Теплое воспоминание.
Я отпиваю маленький глоток из фляжки и небрежно отмахиваюсь.
— Это неважно.
— Вы не написали еще и половины «Друда» — из печати вышло только четыре первых выпуска, — но уже убили молодого Эдвина Друда. Позвольте спросить вас как профессионал профессионала — как человек, бесспорно более опытный и предположительно более искусный в деле сочинения «романов с тайной», — как вы надеетесь удерживать интерес читателя, Чарльз, если вы совершили убийство в первой трети истории и имеете лишь одного кандидата в убийцы — вашего умнейшего негодяя Джона Джаспера.
— Ну что ж, — говорит Диккенс, — как профессионал профессионалу отвечу вам: не следует забывать что… Стойте!
Я резко вскидываю револьвер и, промаргиваясь, целюсь ему в грудь. Кто-то зашел на кладбище? Он пытается отвлечь мое внимание?
Нет. Похоже, Неподражаемому просто пришла в голову какая-то мысль.
— Но откуда, дорогой Уилки, — продолжает Диккенс, — вы знаете о внешности Дэчери и даже об убийстве бедного Эдвина, если эти сцены, эти главы еще не появились в печати и… а, ясно… Уиллс! Вы каким-то образом раздобыли копию законченной рукописи у Уиллса. Уильям Генри славный малый, верный друг, но после несчастного случая стал совсем другим, со всеми своими дверями, скрипящими и хлопающими в голове.
Я молчу.
— Ну ладно, — говорит Диккенс. — Вы знаете об убийстве молодого Друда в сочельник. Вы знаете, что Криспаркл находит в реке часы и галстучную булавку, хотя тела нигде не находят. Вы знаете, что подозрение падает на вспыльчивого молодого иностранца с Цейлона, Невила Ландлеса, брата прекрасной Елены, а на трости Ландлеса обнаруживают запекшуюся кровь. Вы знаете, что Эдвин и Роза разорвали помолвку, и знаете, что дядя Эдвина, опиоман Джон Джаспер, падает в обморок после убийства, когда узнает, что помолвка была расторгнута и он ревновал понапрасну. К настоящему времени я написал шесть выпусков из двенадцати, предусмотренных контрактом. Но о чем вы хотите спросить?
Я чувствую тепло от лауданума в теле, и мое нетерпение возрастает. Скарабей в моем мозгу испытывает еще сильнейшее нетерпение — он суетливо бегает взад-вперед у меня за переносицей и выглядывает то из одного, то из другого глаза, словно выбирая, откуда лучше видно.
— Джон Джаспер совершил убийство в сочельник, — говорю я, слегка взмахивая пистолетом. — Я даже могу назвать орудие убийства — длинный черный шарф, который вы потрудились упомянуть без особой причины по меньшей мере трижды. Ваши намеки не назовешь тонкими, Чарльз.
— Сперва у меня был длинный галстук, — говорит он с очередной убийственной улыбкой. — Но потом я заменил его на шарф.
— Знаю, — раздраженно выпаливаю я. — Чарли говорил мне, что вы подчеркивали необходимость изобразить галстук на иллюстрации, а позже велели Филдсу нарисовать вместо него шарф. Галстук, шарф — не имеет значения. Мой вопрос остается прежним: как вы надеетесь держать читателя в напряжении всю вторую половину книги, если всем известно, что убийца — Джон Джаспер?
Диккенс несколько секунд молчит, словно пораженный неожиданной мыслью. Потом аккуратно ставит фляжку с бренди на выщербленный дождями и ветром камень. Он зачем-то надел очки — словно предполагая, что при обсуждении романа, который теперь навсегда останется незаконченным, понадобится прочитать мне вслух несколько мест, — и сейчас дважды отраженный лунный свет превращает стекла очков в матовые бело-серебристые диски.
— Вы хотите дописать мою книгу, — шепчет он.
— Что?!
— Вы меня слышали, Уилки. Вы хотите явиться к Чапмену и сказать, что можете закончить роман за меня, — Уильям Уилки Коллинз, знаменитый автор «Лунного камня», изъявляет готовность продолжить работу своего погибшего друга, своего бывшего соавтора, ныне покойного. Уильям Уилки Коллинз, скажете вы скорбящим Чапмену и Холлу, единственный человек в Англии — единственный человек в англоязычном мире — единственный человек во всем мире! — который знал образ мыслей Чарльза Диккенса настолько хорошо, что он, Уильям Уилки Коллинз, может закончить историю с тайной, к прискорбию, оборванную на полуслове в связи с внезапным исчезновением упомянутого мистера Диккенса, наверняка наложившего на себя руки. Вы хотите дописать «Тайну Эдвина Друда», Уилки, и таким образом в буквальном смысле слова занять мое место не только в читательских сердцах, но и в ряду великих писателей нашего времени.
— Вздор несусветный! — кричу я так громко, что тотчас съеживаюсь и опасливо озираюсь по сторонам. Мой голос отражается эхом от стен собора и башни. — Глупости, — яростно шепчу я. — У меня нет подобных мыслей и устремлений. И никогда не было. Я сам пишу бессмертные произведения — «Лунный камень» продавался лучше вашего «Холодного дома» или нынешней вашей книги! И «Лунный камень», как я уже указывал вам нынче вечером, продуман и выстроен не в пример тщательнее, чем ваша невнятная, сумбурная история про убийство Эдвина Друда.
— Да, конечно, — тихо произносит Диккенс.
Но он улыбается, этот несносный Диккенс опять улыбается. Если бы я получал по шиллингу за каждый раз, когда видел эту улыбку, мне бы не пришлось работать.
— Кроме того, — продолжаю я, — я знаю ваш секрет. Я знаю «большой сюрприз», на котором держится ваш хитроумный сюжет, вся ваша весьма очевидная, по моим профессиональным меркам, история.
— Вот как? — довольно любезно говорит Диккенс. — Сделайте милость, просветите меня, дорогой Уилки. Будучи новичком в этом жанре, я, возможно, проглядел свой собственный «большой сюрприз».
Проигнорировав сарказм, я небрежно направляю револьвер в Голову Неподражаемому и говорю:
— Эдвин Друд не умер.
— Да?
— Да. Джаспер пытался убить его, это ясно. Возможно даже, Джаспер считает, что преуспел в своей попытке. Но Друд уцелел, он жив и вскоре объединит силы с вашими столь откровенно положительными персонажами — Розовым Бутончиком, Невилом и его сестрой Еленой, младшим каноником Криспарклом из породы мускулистых христиан и даже с новым персонажем, приплетенным к истории весьма запоздало, этим моряком… — Я роюсь в памяти в поисках имени.
— Лейтенант Тартар, — услужливо подсказывает Диккенс.
— Да, да. Героический веревколазающий лейтенант Тартар, с первого взгляда и очень кстати влюбившийся в Елену Ландлес, и все прочие ваши… благодетельные ангелы… вступят в сговор с Эдвином Друдом, чтобы изобличить убийцу — Джона Джаспера!
Диккенс снимает очки, с улыбкой разглядывает их несколько мгновений, потом аккуратно кладет в футляр, а футляр убирает в карман сюртука. Мне хочется крикнуть: «Да выброси ты свои стекляшки! Они тебе больше не понадобятся! Если ты сейчас оставишь очки при себе, мне просто придется выуживать их из ямы с известью впоследствии!»
Он тихо спрашивает:
— И Дик Дэчери станет одним из этих… благодетельных ангелов… помогающих воскресшему Эдвину разоблачить несостоявшегося убийцу?
— Нет, — говорю я, не в силах скрыть ликование. — Ибо так называемый Дик Дэчери и есть сам Эдвин Друд — переодетый и загримированный!
— Вы… ваше предположение… весьма остроумно, Уилки, — после долгой паузы говорит он.
Мне нет необходимости отвечать. Должно быть, уже почти полночь. Я нервничаю и горю желанием поскорее добраться до известковой ямы и покончить с делом, а потом вернуться домой и принять очень горячую ванну.
— Только один вопрос, с вашего позволения, — тихо произносит Диккенс, постукивая по своей фляжке наманикюренным пальцем.
— Пожалуйста.
— Если Эдвин Друд уцелел после покушения своего дяди, зачем ему идти на такие ухищрения — скрываться, заручаться содействием союзников, маскироваться под почти комического Дика Дэчери? Почему бы просто не объявиться и не сообщить властям, что дядя пытался убить его в сочельник? Возможно даже, бросил предположительно мертвое, но на самом деле просто бесчувственное тело Эдвина в яму с негашеной известью — откуда он выбрался, очнувшись, когда ядовитое вещество начало разъедать одежду и кожу, — восхитительная сцена, скажу вам как профессионал профессионалу, хотя у меня, признаюсь, не имелось причин ее писать… Но в таком случае, получается, у нас нет никакого убийцы — только сумасшедший дядя, покушавшийся на убийство, и у Эдвина Друда нет никаких причин скрываться. То есть нет убийства Эдвина Друда и нет никакой тайны.
— У Эдвина Друда есть причины скрываться до поры до времени, — уверенно заявляю я, хотя и близко не представляю, в чем они могут заключаться.
Я отхлебываю изрядный глоток из фляжки, но ни на секунду не прикрываю глаза.
— Что ж, желаю вам удачи, дорогой Уилки, — говорит Диккенс с непринужденным смехом. — Но прежде чем пытаться закончить книгу в соответствии с планом, так мной и не написанным, вам следует знать следующее: молодой Эдвин Друд мертв. Джон Джаспер, находясь под воздействием такого же опиата, какой вы сейчас пьете, убил Эдвина в сочельник, как и предполагает читатель здесь же, в середине романа.
— Это нелепо, — говорю я. — Джон Джаспер так сильно ревнует Розу к своему племяннику, что убивает его? Но тогда… у нас впереди еще половина романа, которую нечем заполнить, кроме как… чем? Признанием Джона Джаспера?
— Да, — кивает Диккенс с гадкой усмешкой. — Именно так. Оставшаяся часть «Тайны Эдвина Друда» — во всяком случае, в своей основной линии — посвящена признаниям Джона Джаспера и его второго «я», Джаспера Друда.
Я трясу головой, но головокружение лишь усиливается.