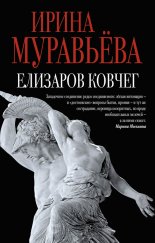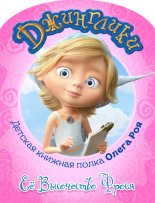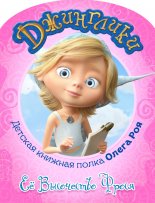Друд, или Человек в черном Симмонс Дэн
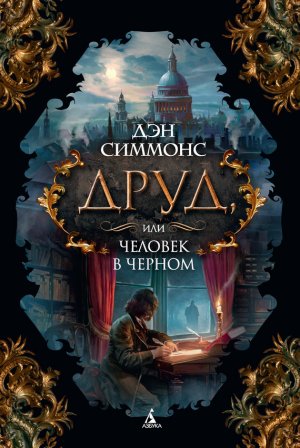
— И Джаспер вовсе не дядя Друда, как нам позволяют считать вначале, — продолжает Диккенс. — Он брат Друда.
Я хочу рассмеяться, но у меня получается лишь громко фыркнуть.
— Брат!
— О да. Молодой Эдвин, как вы наверняка помните, собирается уехать в Египет в составе группы инженеров. Он планирует изменить Египет, возможно, навсегда поселиться там. Но Эдвин не знает, что его единокровный брат — не дядя, — Джаспер Друд, а не Джон Джаспер родился там… в Египте. И овладел там тайным искусством.
— Тайным искусством? — Я давно забыл целиться в Диккенса, но сейчас снова направляю на него револьвер.
— Месмеризм, — шепчет Неподражаемый. — Управление умами и поведением людей. Причем месмеризм не знакомого нам салонно-развлекательного толка, Уилки, а настоящее управление умами, граничащее с чтением мыслей, то есть с телепатией. Именно такого рода мысленная связь существует между молодым Невилом и его прекрасной сестрой Еленой Ландлес. Они развили свои телепатические способности на Цейлоне. Джаспер Друд овладел своим искусством в Египте. Когда Елена Ландлес и Джаспер Друд сойдутся наконец в месмерическом поединке — а он непременно состоится, — это будет сцена, о которой еще много веков читатели будут говорить с благоговейным трепетом.
«Елена Ландлес, — думаю я. — Эллен Лоулесс Тернан. Даже в последней незаконченной части несостоявшейся книги Диккенс непременно должен связать самую красивую и загадочную женщину в романе со своим собственным плодом фантазии и наваждением. Эллен Тернан».
— Вы меня слушаете, Уилки? — спрашивает Диккенс. — У вас такой вид, будто вы засыпаете.
— Вам кажется, — говорю я. — Но даже если Джон Джаспер на самом деле является Джаспером Друдом, намного старшим братом жертвы, какой в этом интерес для читателя, вынужденного скучать на протяжении еще нескольких сотен страниц, посвященных обычным признаниям?
— Необычным признаниям, — хихикает Диккенс. — В этом романе мысли и сознание убийцы будут вскрыты и исследованы так, как не делалось никогда прежде в истории литературы. Ибо Джон Джаспер, он же Джаспер Друд, это два разных человека, две самостоятельные трагические личности, заключенные в одурманенном опиумом мозгу регента Клойстергэмского… — он на миг умолкает и театральным жестом указывает на громадное здание позади, — Рочестерского собора. Именно в этих самых склепах…
Он снова указывает на собор, и я машинально перевожу туда помутненный взгляд, — в этих самых склепах Джон Джаспер/ Джаспер Друд спрячет полусожженные известью кости и череп своего любимого племянника и брата Эдвина.
— Чушь собачья, — тупо бормочу я.
Диккенс коротко хохочет.
— Возможно, — говорит он, продолжая тихо посмеиваться. — Но с учетом всех последующих сюжетных поворотов и ходов читатель будет… был бы… в восторге от многочисленных открытий и сюрпризов, которые его ждут… ждали бы… впереди. К примеру, наш Джон Джаспер-Друд совершил убийство под влиянием гипноза и опиума одновременно. Последний — опиум, принимаемый во все больших и больших дозах, — подготовил почву для воздействия первого — гипнотического приказа убить брата.
— Это лишено всякого смысла, — говорю я. — Мы с вами неоднократно обсуждали тот факт, что месмерист не может приказать человеку совершить убийство… совершить любое преступление… несовместное с нравственно-этическими взглядами, которых этот человек держится в сознательном состоянии.
— Да, — соглашается Диккенс.
Он допивает последний глоток бренди и кладет фляжку в верхний левый внутренний карман сюртука (я запоминаю на будущее, где она находится). Как всегда при обсуждении сюжетных ходов и прочих моментов своих произведений, Чарльз Диккенс говорит смешанным тоном многоопытного профессионала и возбужденного мальчишки, сгорающего от желания рассказать интересную историю.
— Но вы не слушали меня, дорогой Уилки, — продолжает он, — когда я объяснял, что достаточно сильный гипнотизер — я, например, и уж точно Джон Джаспер-Друд и другие, пока неизвестные нам египетские персонажи, остающиеся за кулисами повествования, — может внушить человеку вроде нашего регента Клойстергэмского собора иллюзию существования в воображаемом мире, где тот не отдает себе отчета в своих поступках. А под дополнительным воздействием опиума и, скажем, морфия, подпитывающих данную иллюзию, он вполне может без собственного ведома совершить убийство или еще худшее злодейство.
Я подаюсь вперед. Я по-прежнему держу в руке револьвер, но напрочь о нем забыл.
— Если Джаспер убивает своего племянника… своего брата… под гипнотическим внушением призрачного Некто, — шепчу я, — то кто этот Некто?
— Ага! — ликующе восклицает Чарльз Диккенс, хлопая себя по колену. — Это самая восхитительная и занимательная часть тайны, Уилки! Ни один читатель из тысячи — нет, ни один из десяти миллионов, — даже ни один писатель из сотен собратьев по перу, которых я знаю и уважаю, в жизни не догадается, что гипнотизером и истинным убийцей в загадочном деле Эдвина Друда является не кто иной, как…
Колокола на высокой башне за спиной Диккенса начинают отбивать полночь.
Я вздрагиваю и часто моргаю. Диккенс резко поворачивается на камне и смотрит на башню, словно она живое существо, представляющее для него угрозу, а не безмолвное, холодное, слепое вместилище колоколов, возвещающих его смертный час.
Когда эхо двенадцатого удара замирает над узкими темными улицами Рочестера, Диккенс снова поворачивается ко мне и улыбается.
— Куранты пробили полночь, Уилки.
— Так о чем вы говорили? — подсказываю я. — О личности гипнотизера? Подлинного убийцы?
Диккенс складывает руки на груди.
— Я рассказал достаточно на сегодня. — Он встряхивает головой, вздыхает и едва заметно улыбается. — И достаточно на свой век.
— Вставайте, — говорю я.
У меня так кружится голова, что я чуть не падаю, поднявшись с камня. Мне трудно держать как надо револьвер и незажженный фонарь, словно я разучился делать две вещи одновременно.
— Идите, — командую я, хотя сам толком не понимаю, кому отдаю приказ — Диккенсу или своим ногам.
Позже я сознаю, что Диккенсу ничего не стоило спастись бегством, пока мы шли к задней границе кладбища, а потом через заросли травы на краю болота, где нас ждала известковая яма.
Если бы он пустился бежать, а мой первый поспешный выстрел оказался неудачным, тогда для него было бы пустяшным делом скрыться в высокой болотной траве и бегом, ползком убраться подальше. Найти его там было бы сложно и при дневном-то свете, а уж ночью практически невозможно, даже с фонарем. Вдобавок шум крепчающего ветра и отдаленный рокот прибоя заглушали бы шорох, производимый им в траве.
Но Диккенс не собирается бежать. Он спокойно идет впереди. Кажется, он тихонько напевает себе под нос. Я не улавливаю мелодии.
Когда мы останавливаемся, он встает на краю ямы, но лицом ко мне.
— Вам следует помнить, — говорит он, — что металлические предметы в моих карманах известь не уничтожит. Часы, подаренные мне Эллен… фляжку… галстучную булавку и…
— Я помню, — хриплю я. Мне вдруг становится тяжело дышать.
Диккенс коротко взглядывает через плечо на яму, но продолжает стоять лицом ко мне.
— Да, мой Джаспер Друд признался бы, что именно сюда он притащил труп Эдвина Друда… Джаспер моложе нас с вами, Уилки, а потому, хотя опиум существенно подорвал его физические силы, ему не составило бы труда пронести мертвого юношу несколько сотен ярдов…
— Замолчите, — говорю я.
— Вы хотите, чтобы я повернулся кругом? — спрашивает Диккенс. — Стал спиной к вам, лицом к яме?
— Да. Нет. Как вам угодно.
— Тогда я буду смотреть на вас, дорогой Уилки. Мой бывший друг, товарищ по путешествиям и некогда вдохновенный соавтор.
Я стреляю.
Выстрел гремит оглушительно, и револьвер дает столь сильную отдачу, что едва не выпрыгивает у меня из руки (честно говоря, я толком не помню, как палил из него на черной лестнице прошлой зимой).
— Боже мой! — восклицает Диккенс.
Он так и стоит где стоял. Он ощупывает грудь, живот, бедра с почти комическим видом.
— Похоже, вы промахнулись.
Тем не менее он не пытается бежать.
В барабане осталось еще три патрона.
Теперь я прицеливаюсь, стараясь унять дрожь в руке, и спускаю курок еще раз.
Пола Диккенсова сюртука взлетает до уровня талии и падает. Он опять ощупывает себя. Потом отводит полу сюртука в сторону и просовывает палец в отверстие, пробитое пулей. Должно быть, она прошла менее чем в дюйме от его бедра.
— Уилки, — мягко произносит Диккенс, — может, для нас обоих будет лучше, если…
Я снова стреляю.
На сей раз пуля попадает Диккенсу в грудь — этот звук ни с чем не спутать: словно тяжелый молоток ударяет по холодному металлу. Резко крутанувшись на месте, он падает навзничь.
Но не в яму. Он лежит на краю ямы.
И он все еще жив.
Я слышу его громкое, хриплое, затрудненное дыхание. Клокочущее, булькающее, словно легкие у него наполнены кровью. Я подхожу и останавливаюсь над ним. Он смотрит вверх, и я задаюсь вопросом, кажусь ли я сейчас Диккенсу ужасным черным силуэтом на фоне звездного неба.
В своих произведениях я несколько раз использовал отвратительное французское выражение coup de grace[17] и почему-то всегда забывал, как оно правильно пишется. Но я никогда не забывал, что оно означает. Последний выстрел надо сделать в голову — чтобы наверняка.
И в пистолете Хэчери осталась всего одна пуля.
Опустившись на колено, я склоняюсь над Неподражаемым, создателем разных дураков вроде дедлоков, барнаклов, домби и грюджиусов, но также таких негодяев, паразитов и злодеев, как феджины, артуры доджерсы, сквирсы, кэсби, слаймы, пексниффы, скруджи, воулсы, смолвиды, вегги, бамблы, лэмлы, хоуки, фэнги, тигги и…
Я приставляю дуло тяжелого пистолета Хэчери к виску стонущего Чарльза Диккенса. Сознаю, что прикрываю левой рукой свое лицо, заслоняясь от осколков черепа, брызг крови и ошметков мозга, которые полетят в стороны через секунду-другую.
Диккенс мычит, силясь что-то сказать.
— Невообразимо… — с трудом разбираю я. А потом: — Проснись… Да просыпайся же… Уилки…
Бедный ублюдок пытается очнуться от того, что кажется ему кошмарным сном. Возможно, именно так все мы уходим из этой жизни — жалко стеная, гримасничая и умоляя далекого, бесчувственного Бога даровать нам пробуждение от сна.
— Пробудись… — лепечет он, и я спускаю курок.
Все кончено. Мозг, придумавший и наделивший жизнью Дэвида Копперфилда, Пипа, Эстер Саммерсон, Урию Гипа, Барнаби Раджа, Мартина Чезлвита, Боба Крэчита, Сэма Уэллера, Пиквика и сотни других персонажей, живущих в умах миллионов читателей, теперь растекся на краю ямы серо-розовой лужицей, маслянисто поблескивающей в лунном свете. Только осколки черепа белеют во мраке.
Даже несмотря на услужливое напоминание, я едва не забываю вынуть золотые и металлические вещи у него из карманов, прежде чем столкнуть труп в яму.
Мне противно дотрагиваться до мертвеца, и я стараюсь прикасаться только к ткани, что получается в случае с часами, фляжкой, монетами и галстучной булавкой, но в случае с кольцами и запонками мне всяко придется дотронуться до остывающей плоти.
Чтобы снять последние с трупа, я зажигаю фонарь с полуопущенной шторкой и замечаю — с долей удовлетворения, — что руки у меня не дрожат, когда я чиркаю спичкой и подношу ее к фитилю. Я вынимаю из наружного кармана своего сюртука свернутый джутовый мешочек и складываю туда все металлические предметы, внимательно следя за тем, чтобы ничего не уронить в высокую траву у ямы.
Закончив, я засовываю мешочек в оттопыренный карман, где лежит пистолет. Надо не забыть остановиться у протекающей неподалеку реки и выбросить пистолет с мешочком на глубоководье.
Диккенс лежит, раскинув конечности, в совершенно расслабленной позе, известной лишь мертвым. Поставив ногу на его окровавленную грудь, я собираюсь сказать несколько слов, но потом передумываю. В некоторых случаях слова излишни даже для писателя.
Мне приходится приложить больше усилий, чем я предполагал, но после нескольких крепких толчков ногой и заключительного пинка Диккенс один раз переворачивается и соскальзывает в негашеную известь. Предоставленное самому себе, тело осталось бы погруженным в жижу лишь наполовину, но я приношу длинный железный прут, заранее припрятанный в траве поблизости, и пихаю, толкаю им, налегаю на него всей тяжестью (по ощущениям — все равно что тыкать шестом в огромный мешок с мягким нутряным салом), покуда труп не погружается в известь целиком.
Быстро проверив, нет ли на мне кровяных пятен или других вопиющих улик, я гашу фонарь и направляюсь обратно к дороге, чтобы подозвать ожидающего неподалеку кучера-матроса с каретой. Шагая между сияющими под луной надгробьями, я тихонько насвистываю какую-то мелодию. Возможно, думаю я, это та же самая мелодия, которую Диккенс мурлыкал себе под нос всего несколько минут назад.
— Проснись! Уилки… да просыпайся же!
Я протяжно застонал, закинул на лоб согнутую в локте руку, но умудрился открыть один глаз. Голова раскалывалась от боли, свидетельствовавшей о передозировке лауданума и морфия. Бледный лунный свет лежал беспорядочными полосами на мебели в моей спальне. И прямо перед собой, всего в нескольких дюймах, я увидел лицо.
Второй Уилки сидел на краю кровати. Он никогда прежде не приближался так близко… никогда.
Он заговорил.
На сей раз не моим голосом, даже не измененным голосом, имитирующим мой. А голосом старой сварливой женщины, голосом одной из ведьм-сестер в начальной сцене «Макбета».
Он (она?) дотронулся до моей голой руки, и это не было прикосновением живого существа.
— Уилки…
Он (она?) дышал мне в лицо, едва не касаясь бородой моих щек. Его (ее?) дыхание — мое дыхание — пахло гнилостью.
— Убей его. Проснись. Слушай меня. Закончи свою книгу… до девятого июня. Закончи «Мужа и жену» быстро, на следующей неделе. И в тот же день, когда завершишь работу, убей его.
Глава 48
В ответ на мое письмо, которым я откликнулся на «может статься, вы не против повидаться со мной не сегодня-завтра», Диккенс пригласил меня в Гэдсхилл-плейс в воскресенье, пятого июня. Я сообщил, что приеду в три, к каковому часу Диккенс заканчивал работу по воскресеньям, но на самом деле сел на более ранний поезд и последнюю милю-полторы прошел пешком.
От красоты июньского дня просто дух захватывало. После дождливой весны все, что могло зазеленеть, зазеленело как никогда сочно и буйно, а все, что могло распуститься и расцвести, пышно распустилось и цвело вовсю. Солнечный свет проливался на землю благословением небес. Ветерок гладил кожу так нежно, так ласково, что почти смущал интимностью прикосновений. Несколько белых кучевых облаков — воздушные овцы — плыли над зелеными округлыми холмами в глубь острова, но над морем синело чистое небо, пронизанное солнечным светом. Воздух был так прозрачен, что я видел башни Лондона с расстояния двадцати миль. На пастбищах, простиравшихся за окном вагона и по обеим сторонам пыльной дороги, по которой я прошагал последнюю милю-полторы пути, резвились телята, жеребята и стайки человеческих детенышей, занятых разными играми, в какие принято играть в полях и лесах ранним летом. Всего этого было почти достаточно, чтобы даже у самого закоренелого городского жителя вроде меня возникло желание купить ферму — но глоток лауданума, запитый глотком бренди из второй фляжки, поменьше, остудил сей мимолетный идиотский порыв.
Сегодня никто не встретил меня на подъездной аллее Гэдсхилл-плейс, даже пара сторожевых псов (наверняка из потомства убитого Султана, этого Гренделя[18] собачьего мира), обычно сидевших на цепи у ворот.
Красные герани (по-прежнему любимые цветы Диккенса, по чьему приказу садовники высаживали эти однолетние растения каждую весну и сберегали до поздней осени) росли повсюду — по сторонам аллеи, на солнечной лужайке под эркерными окнами рабочего кабинета писателя, вдоль живых изгородей, по обочинам дороги за воротами усадьбы, — и, как всегда, по непонятной мне пока причине, я содрогнулся от ужаса при виде бесчисленных скоплений этих кричаще-красных клякс на зеленом фоне.
Предположив, что в такой чудесный день Диккенс, скорее всего, работает в шале, я спустился в прохладный тоннель — хотя на дороге над ним почти не наблюдалось движения — и вышел неподалеку от наружной лестницы, ведущей в кабинет на втором этаже.
— Эй там, на мостике! — гаркнул я.
— Эй там, на шлюпе! — раздался звучный голос Диккенса.
— Можно подняться к вам на борт?
— Как называется ваша посудина, мистер? Откуда вы идете и куда направляетесь?
— Мое жалкое суденышко именуется «Мери Джейн», — крикнул я, старательно подделываясь под американский акцент. — Мы вышли из Сент-Луиса и направляемся в Калькутту через Самоа и Ливерпуль.
Легкий ветерок донес веселый смех Диккенса.
— Тогда какие разговоры — милости просим, капитан!
Диккенс только что закончил работать и укладывал страницы рукописи в кожаную папку, когда я вошел. Его левая нога покоилась на подушке, лежащей на низком табурете, но он опустил ее на пол при моем появлении.
Он указал мне на единственное гостевое кресло, но я был слишком возбужден, чтобы сидеть, и принялся расхаживать взад-вперед, от одного окна к другому.
— Я страшно рад, что вы приняли мое приглашение, — сказал Диккенс, убирая на место письменные принадлежности и застегивая папку.
— Настала пора повидаться, — промолвил я.
— Вы немного пополнели, Уилки.
— А вы немного похудели, Чарльз. Вот только ваша нога, похоже, набрала несколько фунтов.
Диккенс рассмеялся.
— Наш дорогой общий друг Фрэнк Берд обеспокоен состоянием здоровья нас обоих, верно?
— В последнее время я редко вижусь с Фрэнком Бердом, — сказал я, переходя от восточного окна к южному. — Милые дети Фрэнка объявили мне войну, когда я разоблачил лицемерную сущность «мускулистого христианства».
— О, едва ли они рассердились на вас за разоблачение этой самой лицемерной сущности, Уилки. Скорее — за еретическую хулу на их спортивных кумиров. У меня не нашлось времени прочитать «Мужа и жену», но я слышал, выпуски вашего романа многих привели в негодование.
— И при этом продавались все лучше и лучше с каждым месяцем, — сказал я. — Еще до конца июня я собираюсь издать «Мужа и жену» в трех томах, в типографской фирме Ф. С. Эллиса.
— Эллиса? — переспросил Диккенс, вставая с кресла и беря палку с серебряной рукоятью. — Я не знал, что фирма Эллиса издает книги. Я думал, они занимаются визитными карточками, календарями, такого рода вещами.
— За книгу они берутся впервые, — сказал я. — Будут продавать на комиссионной основе, и я буду получать по десять процентов с каждого проданного экземпляра.
— Замечательно! — воскликнул Диккенс. — Вы сегодня несколько взволнованы, даже возбуждены, Уилки. Не желаете отправиться со мной на прогулку?
— Вы в состоянии ходить на значительные расстояния?
Я рассматривал новую палку Неподражаемого, именно палку — крепкую, с длинной рукоятью, — с какими ходят хромые старики, а не модную прогулочную трость, каким отдают предпочтение молодые мужчины вроде меня. (Как вы, вероятно, помните, дорогой читатель, летом 1870 года мне было сорок шесть лет, а Диккенсу пятьдесят восемь, и он выглядел на свой преклонный возраст и даже старше. Но с другой стороны, несколько знакомых недавно высказались по поводу седины в моей бороде, моего лишнего веса, моей одышки и появившейся в последнее время сутулости, и иные из них имели наглость заявить, что и я выгляжу гораздо старше своих лет.)
— Да, вполне, — ответил Диккенс, не обидевшись на мое замечание. — И стараюсь ходить каждый день. Час уже поздний, а потому я не предлагаю вам совершить основательную прогулку до Рочестера или еще какого-нибудь устрашающе далекого пункта назначения, но мы можем пройтись через поля.
Я кивнул, и Диккенс первый начал спускаться по лестнице, оставив папку с незаконченной рукописью «Тайны Эдвина Друда» здесь, на своем рабочем столе, откуда ее мог украсть любой прохожий, свернувший с большака и беспрепятственно проникший в шале.
Мы пересекли дорогу и направились к дому, но потом свернули к конюшням, прошли через задний двор, где Неподражаемый некогда предал огню всю свою корреспонденцию, и вышли в поле, где несколько лет назад осенью погиб Султан. Трава, тогда сухая и бурая, сейчас была зеленой, высокой и слабо колыхалась на легком ветерке. Утоптанная тропинка вела к пологим холмам и полосе деревьев, тянувшейся вдоль широкого ручья, который бежал к реке, бежавшей к морю.
Никто из нас не бежал сегодня, но если прогулочный шаг Диккенса и стал медленнее, то я этого не заметил. Я пыхтел и отдувался, стараясь поспевать на ним.
— Фрэнк Берд говорит, что для борьбы с бессонницей вам пришлось добавить к обычным своим лекарственным средствам еще и морфий, — сказал Диккенс. Он шагал, бодро выбрасывая вперед трость (зажатую в левой руке, а не в правой, как всегда прежде). — И что шприц, выданный вам на время, куда-то пропал, хотя вы заявили, что прекратили колоться морфием.
— Берд славный человек, но зачастую неблагоразумный, — сказал я. — В ходе последней серии ваших чтений он оповещал весь свет о частоте вашего пульса, Чарльз.
Мой спутник промолчал.
После долгой паузы я добавил:
— Дочь моих слуг, Джорджа и Бесс, — они по-прежнему работают на меня, пока что по крайней мере, — воровала по мелочам. Мне пришлось отослать ее из дома.
— Маленькая Агнес? — воскликнул Диккенс. — Воровала? Уму непостижимо!
Мы перевалили через первый холм, и Гэдсхилл-плейс, проезжая дорога и растущие вдоль нее деревья скрылись из виду позади нас. Тропинка здесь тянулась параллельно берегу ручья, а потом свернула к узкому мосту.
— Вы не против, если мы немного передохнем, Чарльз?
— Нисколько, друг мой. Нисколько!
Я привалился к перилам горбатого мостика и отпил три глотка из серебряной фляжки.
— Сегодня слишком жарко, правда?
— Вы так считаете? А по мне — погода почти идеальная. Мы двинулись дальше, но Диккенс либо начинал уставать, либо замедлил шаг, щадя меня.
— Как ваше здоровье, Чарльз? Столько разных толков ходит. Как послушаешь зловещие пророчества нашего славного Фрэнка Берда, так просто не знаешь, что и думать. Вы оправились после турне?
— В последнее время мне гораздо лучше, — промолвил Диккенс. — По крайней мере — последние несколько дней. Вчера я сказал одному знакомому, что собираюсь жить и работать лет до девяноста. И я чувствовал себя так, словно иначе и быть не может. А в иные дни… ну, вызнаете, что такое скверные дни, друг мой. В иные дни приходится работать и выполнять свои обязательства через «не могу».
— Как продвигается «Эдвин Друд»? — спросил я. Диккенс искоса взглянул на меня, прежде чем ответить. Мы редко обсуждали друг с другом ход работы над произведениями, писавшимися в данный момент. Окованный металлом конец его палки рассек высокую траву на обочине тропинки с приятным летним шелестом.
— «Друд» продвигается медленно, но верно, — наконец сказал он. — В смысле сюжетных хитросплетений и неожиданных ходов это гораздо более сложная книга, чем большинство прежних моих сочинений, дорогой Уилки. Впрочем, вы сами это знаете! Вы же специалист по «романам с тайной»! Мне давно следовало обратиться к вам со всеми своими проблемами, обычными для новичка, чтобы под вашим вергилиевым водительством познать искусство криминально-авантюрного жанра. А как у вас продвигается «Муж и жена»?
— Собираюсь закончить через два-три дня.
— Замечательно! — снова воскликнул Диккенс.
Мы уже изрядно удалились от ручья, но тихое журчание по прежнему доносилось до нас, когда мы прошли через рощицу и вышли на следующее широкое поле. Извилистая тропинка тянулась в направлении далекого моря.
— Когда я завершу работу, сможете ли вы оказать мне большую любезность, Чарльз?
— Если это в моих скудных и неуклонно убывающих силах, я постараюсь, конечно же.
— Полагаю, в наших силах раскрыть сразу две тайны в одну ночь… то есть если вы готовы совершить со мной секретную вылазку вечером в среду или четверг.
— Секретную вылазку! — рассмеялся Диккенс.
— Вероятность разгадать упомянутые тайны возрастет, коли мы с вами никому — ни единой живой душе — не скажем, что мы куда-то отправляемся.
— Вот теперь вы меня по-настоящему заинтриговали.
Мы достигли вершины холма. Там лежали грудами и вразброс огромные камни — деревенская ребятня и местные фермеры называли их друидическими, хотя они не имели никакого отношения к друидам.
— Каким образом секретность нашей вылазки может повысить шансы на ее успех? — спросил он.
— Поверьте мне на слово, если вы присоединитесь ко мне примерно через полчаса после заката в среду или четверг, вы, скорее всего, узнаете ответ на этот вопрос, Чарльз.
— Хорошо, — сказал Диккенс. — Значит, в среду или четверг? Четверг у нас девятое июня. Возможно, в четверг вечером я буду занят. Вас устроит среда?
— Вполне.
— Прекрасно. А теперь… я давно хотел обсудить с вами один вопрос, милейший Уилки. Давайте устроимся на одном из этих камней, где поудобнее, если вы не против. Разговор займет лишь несколько минут, но именно ради этого я попросил вас приехать, и это действительно очень важно.
«Чтобы Чарльз Диккенс остановился и присел во время прогулки?» — подумал я.
Я в жизни не предполагал, что такой день наступит когда-нибудь. Но поскольку я обливался потом и дышал с хрипом и присвистом, точно боевая лошадь с простреленным легким, я с радостью согласился.
— Я весь к вашим услугам, сэр, — промолвил я и жестом предложил Диккенсу пройти вперед и выбрать камень поудобнее.
— Прежде всего, Уилки, я должен принести вам глубокие и искренние извинения. Извинения по нескольким поводам, но в первую очередь — за поступок столь бесчестный, столь непорядочный по отношению к вам, что я, по правде говоря, даже не знаю, с чего начать.
— Пустое, Чарльз. Я даже не представляю, о чем…
Диккенс остановил меня, вскинув ладонь. С высокого камня, где мы сидели, открывался вид на холмистые равнины Кента, простиравшиеся вокруг. В ярком свете солнца я видел висящую над Лондоном дымку и Пролив слева от нас. Башня Рочестерского собора в отдалении походила на серый гвоздь, вогнанный в небесную твердь.
— Наверное, вы не сможете простить меня, Уилки, — продолжал он. — Я бы не простил… не смог бы простить вас, будь я на вашем месте.
— О чем, собственно, вы говорите, Чарльз?
Диккенс указал рукой на далекие верхушки деревьев, растущих вдоль большака и вокруг Гэдсхилл-плейс, словно сей жест все объяснял.
— Вот уже почти пять лет — ровно пять будет через несколько дней — мы с вами продолжаем шутейную историю с существом по имени Друд…
— Шутейную? — с долей раздражения переспросил я. — Я бы не назвал эту историю шутейной.
— Именно поэтому я и хочу извиниться, друг мой. Никакого Друда не существует, разумеется… и никакого египетского храма в Подземном городе…
Что у него на уме? В какую игру Диккенс играет со мной теперь?
— Значит, все ваши рассказы про Друда, начиная со дня железнодорожного крушения, были ложью, Чарльз?
— Именно так, — подтвердил Диккенс. — Ложью, за которую я нижайше прошу прощения. Нижайше и со стыдом поистине невыразимым… хотя мне ли не знать, что такое стыд.
— Вы не были бы человеком, когда бы не ведали стыда, — сухо промолвил я.
И снова задался вопросом, какую игру он ведет теперь. Будь я простофилей, лишь на основании Диккенсовых россказней поверившим, что Друд реален — реален, как белый парус, который оба мы сейчас ясно видели в далеком море, — тогда Неподражаемому было бы за что извиняться.
— Вы мне не верите, — сказал Диккенс, искоса взглядывая на меня.
— Я вас не понимаю, Чарльз. Ведь вы не единственный, кто видел Друда и пострадал от его действий. Я своими глазами видел людей, ставших рабами египтянина. А как насчет гондолы с двумя парнями в масках, подплывшей к нам по подземной реке июльской ночью, когда мы спустились много ниже склепов и катакомб? Или вы хотите сказать, что гондола и гребцы, забравшие вас, нам пригрезились?
— Нет, — сказал Диккенс. — То были мои садовники Гоуэн и Смайт. А так называемая гондола была обычной речной лодкой, с приделанными к корме и носу дополнительными деревянными деталями, грубо сколоченными и размалеванными. Она не сошла бы за гондолу даже в самом паршивом любительском театре и вообще в любом освещенном месте. Гоуэну и Смайту пришлось изрядно попотеть, чтобы спустить эту дырявую посудину по бессчетным маршам лестницы, ведущей к канализационным тоннелям, — тащить ее обратно они не стали, так и бросили там.
— Вы отправились с ними в храм Друда, — сказал я.
— Я оставался в так называемой гондоле, пока мы не скрылись у вас из виду за поворотом вонючего сточного канала, а потом высадился и несколько часов кряду искал обратную дорогу в соседних тоннелях. Едва не заблудился навсегда и безнадежно. И поделом бы мне было, если б заблудился.
Я рассмеялся.
— Да вы послушайте себя, Чарльз. Только сумасшедший мог спланировать и разыграть столь замысловатую шараду. Это было бы не только жестокостью, но и полным безумием.
— Иногда я думаю так же, Уилки, — вздохнул Диккенс. — Но вам следует учесть, что спуск в Подземный город и катание на гондоле замышлялись как последняя сцена последнего акта этого спектакля — во всяком случае, в том, что касается меня. Откуда мне было знать, что ваше писательское подсознание и возбужденное огромными дозами опиума воображение продолжат разыгрывать эту пьесу еще многие годы?
Я потряс головой.
— Люди Друда в гондоле были не единственными участниками этой истории. Что насчет сыщика Хэчери? Вы хотя бы знаете, что бедный Хэчери умер?
— Да, — сказал Диккенс. — Я узнал об этом по возвращении из Америки и счел нужным навести в Столичной полиции справки об обстоятельствах его смерти.
— И что они вам сказали?
— Что отставной сыщик Хибберт Хэчери был убит в том самом склепе на Погосте Святого Стращателя, куда я приводил вас ранее в ходе нашей фальшивой экспедиции в подземный мир.
— Не помню ничего «фальшивого» в нашем схождении в преисподнюю, — заявил я. — Но сейчас это не имеет отношения к делу. Они сообщили вам, как именно он умер?
— Его оглушили до беспамятства при попытке ограбления, а потом ему выпустили кишки, — тихо проговорил Диккенс с болью в голосе. — Я сразу подумал, что вы почти наверняка находились внизу, в притоне Лазаря, и я хорошо представляю, какой ужас вы испытали, наткнувшись на труп бедняги.
Я невольно улыбнулся.
— И кто же, по мнению сыскного отдела, сотворил такое злодейство, Чарльз?
— Четыре индийских матроса, сбежавших с корабля. Отчаянные головорезы. Очевидно, они незаметно проследили за вами с Хэчери до склепа — разумеется, про вас полиция не знала, Уилки, но я предположил, что вы спокойно курили опиум в притоне Короля Лазаря внизу и ведать ничего не ведали, — дождались, пока здоровенный сыщик не уснул где-нибудь перед рассветом, а потом напали на него. Видимо, они хотели отнять у него часы и деньги.
— Это нелепо.
— Учитывая могучее телосложение нашего покойного друга, соглашусь с вами, — сказал Диккенс. — Хэчери удалось свернуть шею одному из четырех налетчиков. Но это привело в бешенство остальных, и они, оглушив Хэчери дубинкой… сделали с ним то, что сделали.
«Ах, как гладко все получается, — подумал я. — Скотленд-Ярд найдет объяснение всему, что не в силах понять».
— А откуда в сыскном отделе узнали, что это были четыре индийских матроса? — спросил я.
— Они схватили троих оставшихся в живых, — сказал Диккенс. — Схватили после того, как труп четвертого был найден в Темзе. Арестовали и вынудили у них признание. При них обнаружили принадлежавшие Хэчери часы с гравировкой, семейные фотографии и немного денег. В полиции с ними не церемонились… многие офицеры хорошо знали Хэчери.
Я просто диву давался. «Они чрезвычайно тщательно продумали свою ложь».
— Дорогой Чарльз, — тихо, но с долей раздражения проговорил я, — ничего этого не было в прессе.
— Разумеется, не было. Я же сказал: в полиции с этими индусами, убившими полицейского, не церемонились. Ни один из троих не дожил до суда. Газетчики даже не знают, что по делу об убийстве Хибберта Хэчери производился арест. Собственно говоря, Уилки, подробности убийства так и не дошли до прессы. Столичная полиция, в общем и целом, государственный институт не хуже всех прочих, но у них есть свои темные стороны, как у всех нас.
Я потряс головой и вздохнул.
— Так вы хотели извиниться передо мной за это, Чарльз? За то, что лгали мне про Друда? За то, что разыграли дурацкий фарс со склепами и гондолой? За то, что не рассказали мне об истинных — по вашему мнению — обстоятельствах смерти инспектора Хэчери?
Я подумал обо всех случаях, когда собственными глазами видел Друда, говорил с инспектором Филдом о Друде, слушал разговоры сыщика Барриса о Друде, видел Эдмонда Диккенсона после его вступления в общину Друда, видел приспешников Друда в Городе-под-Городом и святилища Друда в Городе-над-Городом. Я видел записку от Друда и видел самого Друда, сидевшего у камина и беседовавшего с Диккенсом в моем собственном доме. Своей явной ложью Диккенс не заставит меня поверить, что я сумасшедший.
— Нет, — сказал он, — это не главное, за что я хотел попросить прощения, хотя это имеет прямое отношение к более серьезному моему проступку, за который мне надлежит извиниться. Уилки, вы помните первый ваш визит ко мне после Стейплхерстской катастрофы?
— Конечно. Тогда вы подробно рассказали мне о вашей первой встрече с Друдом.
— А до этого. Когда вы только вошли в мой кабинет. Вы помните, что я делал и о чем мы говорили?
Мне пришлось напрячь память, но в конце концов я сказал:
— Вы вертели в руках часы, и мы немного поговорили о месмеризме.
— Я загипнотизировал вас тогда, Уилки.
— Нет, Чарльз, ничего подобного. Разве вы не помните? Вы изъявили желание попробовать загипнотизировать меня и начали раскачивать часы на цепочке, но я просто отмахнулся от этой затеи. Вы сами согласились, что у меня слишком сильная воля, чтобы подчиниться магнетическому внушению. А потом убрали часы и рассказали мне про железнодорожное крушение.