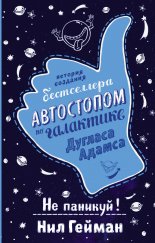Литературный призрак Митчелл Дэвид

— Простите, ребята, не понял.
Он тычет железным пальцем мне в грудь:
— Ты! Говори про эту женьщин.
А, шотландец. Про какую женщину? Кати Форбс? Это что, ее приятели?
— Нас интересует женщина в оранжевой куртке, понял? — растягивая слова, поясняет второй.
А этот техасец? Собрались как-то раз техасец с шотландцем… Похоже на начало анекдота. Однако не похоже, что они шутят. Вид такой, словно последний раз они шутили в детском саду. Выбиватели долгов?
— Ты вытащил ее из-под колес такси. У нас есть свидетели.
— А, вы про эту. Да. Вытащил.
— Мы из полиции. — Шотландец махнул у меня перед носом удостоверением.
Есть у меня при себе что-нибудь противозаконное? Вроде бы нет.
— Куда она поехала?
Дело не во мне.
— Куда?.. — бормочу я вместо ответа.
— Дама с ногами и псиной сказала, что эта женщина просила отвезти ее в аэропорт. В какой? Говори.
— В Хитроу.
Сам не знаю, почему я соврал. Но раз уж слово вылетело, брать его назад опасно.
— А ты правду говоришь, приятель?
— Конечно, зачем мне врать!
Они смотрят на меня, как инквизиторы. Третий, который так ни слова и не проронил, сплевывает. Затем все разворачиваются и идут к «ягуару» с тонированными стеклами, который ждет у клумбы. Они уезжают, а я остаюсь стоять. Теперь прохожие с любопытством пялятся на меня. Я их не виню. На их месте я бы тоже с любопытством пялился на меня.
Коренным лондонцам известно, что каждая ветка подземки имеет свой особый характер и свое особое настроение. «Виктория», например, дышит прохладой и спокойствием. «Юбилейная» простирается до пригородов, огибает Гринвич, под рекой тянется куда-то на восток, и ее вечно собираются еще продолжить. Она — как младший отпрыск, который не оправдывает надежд семейства. Что касается «Кольцевой», то тут сама смерть предпочтет поймать такси, если захочет поспеть к сроку. Переполненная пригородными пассажирами с вокзалов Кингз-Кросс или Паддингтон и туристами, которые курсируют по музеям и не знают более коротких путей, эта ветка ужасна, как метро в Токио — каким я его себе представляю. Когда-то у меня был профессор, который просил нас доказать, что «Кольцевая» действительно замыкается под землей в кольцо. Никто не смог. Тогда это произвело на меня глубокое впечатление. Сейчас если что и производит на меня впечатление в этой истории, так только то, что он ухитрился убедить кого-то платить ему зарплату за эту чушь. «Легкая» ветка «Доклендс» со своими станциями «Принс-Риджент» и «Вест-Индия-Ки», «Галионс-Рич» и «Ройял-Альберт» — типичный нувориш. Ни «Пикадилли», ни ее близнец дядюшка «Бейкерлоо» не одобрили бы такой роскошной безвкусицы. «Центральная» — кузина средних лет, прямая и недалекая, без загибов. Таковы основные линии. «Метрополитен» слишком скучная, о ней нечего сказать, кроме того, что на схеме она миленького цвета фуксии и по ней лучше всего отправляться в последний путь.
Есть еще линии-чудаки вроде шекспировских чудаков. «Перикл», «Хаммерсмит энд Сити», «Ист-Верона», «Тит Андроник», «Ватерлоо».
Линия «Северная» на схеме обозначена черным цветом. Эта ветка самая глубокая. Тут совершается больше всего самоубийств и ограблений. По этой линии ездят студентки театрального факультета, которые в будущем вполне могут стать девушками Бонда. Тут слышится поступь Рока. На этой линии расположены станции «Морден», «Брент-Кросс», «Гудж-стрит», «Аркуэй», «Элефантэнд Касл» и «Морнингтон-Кресент», наконец-то отремонтированная. Много лет она была закрыта, и, проезжая мимо, я воображал, будто на батискафе проплываю мимо затонувшего «Титаника». Пожалуй, «Северная» — наш семейный психопат. На южном берегу Темзы у всех станций — голые стены, они не прельщают рекламодателей. В Кеннингтоне даже производители эскалаторов не станут размещать свою рекламу. Я никогда не бывал в Кеннингтоне, но бьюсь об заклад: там нет ничего, кроме ветхих домов-коробок пятидесятых годов, заколоченных лотерейных киосков да уставленных подержанными автомобилями площадок, на которых бесприютный ветер мотает туда-сюда грязные пластиковые вывески. В таких местах снимали давно забытые фильмы из жизни рабочего класса, в которых антигероев играли начинающие британские рок-звезды. В такой район я поеду, если только мне хорошо заплатят.
Лондон — это особый язык. Как и любой город, наверное.
В покачивании вагона улавливаю интересный ритм. Напоминает блюзовый рифф… Или что-то иранское. Записываю на тыльной стороне ладони. Откуда этот луговой запах… Ах да, духи Кати Форбс.
Посмотрите-ка на нее! На эту женщину. Жгучая. Черная. В черном бархатном костюме. Не шлюха, отнюдь нет. Интеллект, сосредоточенность. Какую книгу она читает? А кожа! Какая кожа — совершенно черная, западноафриканская, настолько черная, что отливает синевой. Гордый изгиб великолепных губ. Что же она все-таки читает? Ну-ка, наклони чуть-чуть обложку, солнышко… Набоков! Так я и знал: у девочки есть мозги! Если даже я наплюю на приличия и заговорю с ней, если даже я наплюю на приличия и просто пересяду поближе к ней в полупустом вагоне, она подумает, что пристаю, и ощетинится. А встреться мы случайно на вечеринке — и никаких проблем не возникнет. Она та же самая, я тот же самый, но никаких проблем. Однако господину Случаю угодно было нас свести в этом вагоне, где у нас нет никакой возможности познакомиться.
И все же там, на поверхности, на земле, чудесное утро. Сорок минут назад я спас человеку жизнь. Значит, вселенная передо мной в долгу. Я встаю и направляюсь к ней, отбросив сомнения.
Я уже открыл рот, чтобы заговорить с ней, но тут из соседнего вагона входит бездомный. Его глаза повидали такое, что не дай бог. У него рана в половину лба. В подземке хватает мошенников, но этот парень явно не из их числа. Ну и что, какая разница. Даже если подавать только настоящим нищим — а их тысячи, то сам станешь одним из них. Для таких, как я, существует только одна страховка — собственный эгоизм.
— Простите, господа. — В его голосе слышится усталость, которую невозможно подделать. — Мне стыдно вас просить. Нам всем неловко. Но мне совершенно негде спать, а ночь сегодня опять будет очень холодная. В Саммерфорде есть приют, куда пускают переночевать, но там нужно заплатить двенадцать фунтов пятьдесят центов. Если можете, пожалуйста, помогите мне. Я понимаю, что отвлекаю вас, еще раз простите. Больше мне нечего сказать…
Люди не смотрят на него. Даже просто посмотреть в сторону бездомного значит взять на себя некие обязательства. Одно время я подвизался в «Самаритянах». Наш руководитель три года был бездомным. Он рассказывал, самое страшное — то, что люди смотрят мимо тебя, ты превращаешься в невидимку. И еще то, что нет ни единого местечка, где ты бы мог остаться один, войти и запереть за собой дверь. Если не считать кабинки в уборной на станции Кингз-Кросс, где по одну сторону от тебя наркоман, а по другую пара дачников.
Гори оно все синим пламенем. Рой мне сегодня заплатит.
Протягиваю этому человеку пару фунтов, на которые собирался выпить чашку капучино. Так и так кофе мне сейчас ни к чему. После чашек, выпитых у Кати Форбс, голова до сих пор кружится.
— Огромное вам спасибо, — говорит он.
Я киваю. На секунду наши взгляды пересекаются. Дела его совсем плохи. Он ковыляет в соседний вагон.
— Прошу прощения, господа. Мне совестно вас беспокоить…
Поезд останавливается, и девушка в черном костюме выходит. Теперь я никогда не узнаю вкуса устрицы, которая скользит с ее языка на мой…
А в «Самаритянах» я, к слову сказать, недолго продержался. Лишился сна: все придумывал концовки для историй, которые начались на моих глазах. Может, поэтому я и стал литературным негром. Тут за концовку я не отвечаю.
На «Северной» есть одно приличное место, а именно то, куда я сейчас направляюсь: Хэмпстед. Лифт меньше чем за минуту вынесет вас обратно на земную поверхность. Не пытайтесь для экономии времени воспользоваться винтовой лестницей. Уж поверьте мне на слово. Быстрее будет прорыть туннель.
Лифт обязывает к молчанию. Хорошее название композиции для «Музыки случая».
Появляется возможность подумать в тишине. В лифте даже Джибриэль замолкает.
Однажды Поппи сказала, что все бабники — жертвы.
— Жертвы чего?
— Своей неспособности общаться с женщинами иначе.
Еще она добавила, что бабники либо вообще не знали матери, либо не знали нормальных отношений с матерью.
— Ты хочешь сказать, что бабник ищет в каждой женщине, с которой спит, замену своей матери? — раздраженно спросил я.
— Нет, — сказала Поппи, не раздражаясь в ответ, а размышляя. — Я не знаю точно, чего вы ищете в нас. Но это как-то связано с потребностью получать от кого-то одобрение.
Двери лифта открываются, и вы неожиданно оказываетесь на усыпанной листьями фешенебельной улице, где даже «Макдоналдс» сменил свои кричащие красно-желтые фирменные цвета на черный с золотом, притворяясь книжным магазином. В Хэмпстеде обитают потомственные богачи. Последние представители старой денежной аристократии. На день рождения они водят внучат в Британский музей. Супруги изводят друг друга на самый элегантный манер. Когда я работал рассыльным в цветочном магазине, у меня была любовница отсюда. Ее звали Саманта. Точнее, Антея. А может, Пантея. Ее дом стоял напротив дома ее матери. Так вот, она не только своего пони любила больше меня — это я как раз понимаю, — но она свой старый плетеный стул любила больше, чем меня. Меня, Марко. Это было очень давно.
Небо затягивается облаками, грязно-белыми, как откопанная фарфоровая древность. Я невольно вздыхаю — весь мир вот-вот расплачется. Вчера у меня был отличный маленький зонтик, но я где-то его забыл — то ли у Кати, то ли в галерее, то ли еще где. Ну и хрен с ним, я и сам нашел его где-то. Ветер набирает силу, подхватывает листья с земли, и они кружатся, как разноцветные платки в стиральной машине. Улицы с эдвардианскими домами, в которых мне никогда не жить.
Когда я подхожу к дому Альфреда, на землю падают первые капли дождя.
Дом Альфреда — один из тех домов, которые сошли со страниц старинных книг. Высокий, с угловой башней, которая словно создана для литературных вечеров. Их тут и впрямь устраивали. На них бывали и Дерек Джармен, и Фрэнсис Бэкон, и Джо Ортон[51] до того, как прославился, и множество менее известных философов и некогда знаменитых литераторов. В доме у Альфреда, как в студенческом театре, можно встретить только бывших или будущих знаменитостей. Только людей с прошлым или с будущим. В шестидесятые годы Альфред пытался возглавить общественное движение за гуманизм и дело мира. Затея, обреченная на провал по причине идеализма. Что-то в этом духе продолжается по мелочам до сих пор: кампания «Епископы за ядерное разоружение», этот тип Колин Уилсон[52]. Может, слышали о нем? Значит, понимаете, о чем я.
У Альфреда нужно долго ждать, пока откроют. Мысли Роя далеки от бытовых мелочей вроде звонка в дверь, особенно когда он сочиняет. Альфред просто плохо слышит. Я вежливо звоню пять раз, жду, разглядывая травинки, которые прорастают из трещин на стене, и только потом начинаю стучать.
В полумраке за стеклом вырисовывается лицо Роя. Завидев меня, он улыбается и поправляет прическу. Потом резко распахивает дверь, чуть не ударив меня по носу.
— А! Привет! Входи… э-э-э…
У него та же проблема, что у меня: вечно забывает имена.
— Входи, Марко, — вспоминает он.
— Здравствуй, Рой. Как прошла неделя?
У Роя манера говорить как у Энди Уорхола[53]: кажется, слова прилетают к нему в голову из другой галактики, уж никак не ближе, чем с Андромеды.
— Господи, Марко… Ты спрашиваешь, как доктор… Надеюсь, ты не врач, нет?
Я смеюсь.
Рой, несмотря на мои возражения, помогает мне снять пальто и вешает его на один из ананасов — затрудняюсь подобрать другое название, — которыми украшены перила лестницы.
— Как твоя «Музыка случая»? Вот это молодежь — играют вместе, вдохновляют друг друга… Мне это по душе.
— Две недели назад записали пару вещей. А сейчас снова репетируем в гараже у дяди Глории. — (Где еще нам репетировать — денег на аренду помещения хронически не хватает.) — Новая подружка нашего гитариста играет на колокольчиках. Так что пытаемся немного расширить репертуар. А тебе как сочиняется?
— Не очень. Все, что пишу, загадочным образом превращается в «Хорошо темперированный клавир».
— И чем же тебе не угодил Бах?
— Ничем. Если не считать того, что когда слышу его, то представляю стаю котов, которые одновременно гоняются за своими хвостами. А что ты скажешь об этом? Мой недобрый юный друг по имени Глен прислал.
Он протягивает мне почтовую открытку с изображением земного шара и надписью на обороте: «Чтоб ты сгнил в нем. Глен».
Рой никогда не смеется сам, только заставляет смеяться других. Сейчас он застенчиво улыбается.
— Послушай, у тебя золотые руки. Ты не посмотришь нашу кофеварку? Она на кухне. У меня с ней с самого начала не заладились отношения. Она родом из Германии. Похоже, немцы заложили в нее антиамериканскую программу. Как ты думаешь, может, они до сих пор нам мстят за поражение во Второй мировой?
— А что с ней?
— Господи, снова ты спрашиваешь, как доктор, точь-в-точь. Доктор Марко! Больная все время переливается через край. Скапутилась чертова машина. Или скопытилась.
Когда я впервые оказался у Альфреда и Роя на кухне, она выглядела как после землетрясения. Она и сейчас выглядит не лучше, но я уже обвыкся. Кофеварку нахожу довольно быстро: на нее нахлобучено гнездо из проволочной сетки.
— Мы подумали: может, это приведет чертову машину в чувство, — поясняет Рой. — К тому же так ее легче заметить. Эту штуку Фольк соорудил специально для Альфреда еще весной!
Фольк — очень красивый юноша-серб с сомнительной визой, который временами живет у Альфреда, когда ему совсем некуда податься, кроме Сербии. Он носит кожаные штаны, и Альфред зовет его «наш сербский волк». Больше мне ничего не известно — вопросов я не задавал.
— Мне кажется, дело в том, что вы засыпали чайный лист вместо кофе.
— Ты шутишь! Не может быть! Дай-ка взглянуть. Надо же, ты прав… Хорошо, а где же тогда кофе? Марко, ты не знаешь, где кофе?
— Неделю назад он был в коробке из-под теннисных мячей.
— Нет, оттуда Фольк его уже достал… Погоди… Дай подумать…
Рой обводит кухню взглядом Творца, который осознает, что сам заварил кашу и теперь ее волей-неволей придется расхлебывать.
— Точно! В хлебнице! Ладно, ступай к Альфреду, он у себя в кабинете. Перечитывает кусок своей жизни, который ты принес в прошлый раз. Мы в восторге! А я пока приготовлю кофе. Если уломаю эту чертовку.
Мне жаль Роя. Когда-то его сочинения печатались. До сих пор, роясь у букинистов, он находит старые издания и радостно демонстрирует их мне. Несколько раз его вещи исполняли в концертах и даже записали на радио. По американскому радио передавали его Первую симфонию, и Линдон Джонсон[54] прислал Рою письмо, в котором признался, что они с женой обожают это произведение. Но не бывает успеха без критики, и какие-то музыкальные сволочи набросились на Роя. Это так подкосило его, что он перестал печататься. Он только сочиняет опус за опусом, но ничего не издает, и никто не слышит его сочинений, кроме Альфреда, сербского волка да меня. Сейчас он работает над Тринадцатой симфонией.
Послушал бы он, чего только не говорят про «Музыку случая»! Кровь в жилах то стынет, то закипает! Один обозреватель из «Ивнинг ньюс» написал, что мир бы здорово выиграл, если б нас самих измельчить в той самой мясорубке, из которой вылезает наша музыка. Я чуть не порвал гада!
Поднимаясь на второй этаж, ловлю себя на том, что в голове вертится первая встреча с Поппи, точнее, наш с ней разговор на той вечеринке. Все гости были в отрубе, сквозь ночь уже пробивалось серенькое дождливое утро.
— А ты когда-нибудь задумывался, что потом происходит с твоими женщинами? Как ты влияешь на их жизнь?
— К чему ты клонишь, Поппи?
— Я ни к чему не клоню. Просто я заметила, что ты очень любишь рассуждать о причинах. А о следствиях — никогда.
Я постучал в дверь кабинета и вошел. И сразу попал в окружение друзей Альфреда: множество старых фотографий на стенах. Сам Альфред сидит перед окном, уставившись вдаль, как часто делают старые люди. Хэмпстед-Хит скрыт от глаз пеленой дождя.
— Зима уже на носу, мой автобиограф!
— Здравствуй, Альфред!
— Еще одна зима. Мы должны спешить. Пока мы с тобой дошли только до главы… до главы…
— До шестой главы, Альфред.
— А как поживает твоя семья?
Может, он меня с кем-то путает?
— Хорошо. Когда я в последний раз видел родителей, все было хорошо.
— Вот видишь, мы с тобой только на шестой главе. Нужно спешить. Мое тело быстро сдает. Последний кусок тебе удался. Очень недурно. Ты — писатель, мой юный друг. Сегодня нам надо сделать побольше. Зеленым фломастером я пометил места, где следует поправить. Итак, приступаем. Где твоя тетрадь?
Я машу тетрадью. Альфред указывает на стул подле себя.
— Пока ты не сел, поставь, пожалуйста, пластинку с Третьей симфонией Вогана Уильямса[55]. Она на полке под буквой «В». Пастораль.
У Альфреда — большое собрание пластинок. Мне нравятся пластинки: настоящие, большие, черные, пластмассовые. Толстые. Мне нравится прикасаться к ним — это как встреча со старым другом. Компакт-диски обрушились на нас с возмутительной наглостью, не дав опомниться, и мы слишком поздно поняли, как нас поимели. Между диском и пластинкой такая же разница, как между растворимым кофе и натуральным. Никогда раньше не слышал Уильямса. По крайней мере, вступление ему удалось. Я бы только добавил бас-гитару с дисторшном и, может быть, малый барабан.
— Начнем, да?
— Если ты готов, Альфред.
Включаю диктофон и открываю тетрадь на чистой странице. Пока безупречной.
— В сорок шестом году я жил в Берлине и работал на британскую разведку. Мы напали на след Мауслинга, специалиста по ракетам, которого разыскивали американцы…
— Альфред, по-моему, мы остановились на твоем возвращении в Лондон.
— Ах да… Мы передали Мауслинга американцам… в сорок шестом… Затем я вернулся к гражданской жизни. Да, это было в сорок седьмом. Первый спокойный год за все десятилетие. Правда, были кое-какие проблемы с Индией и с Египтом. Плохие вести приходили из Восточной Европы. В Армении обнаружили котлованы, битком набитые трупами, Советы и наци переваливали в Нюрнберге вину друг на друга. Сталин и Черчилль за обедом поделили Европу между собой, и плоды их легкомыслия становились все более ужасающе очевидны. Ты понимаешь, как неуютно я чувствовал себя в Уайтхолле. Венгерский еврей из Берлина среди канцелярских крыс только-только из Оксфорда. Конечно, корона была кое-чем мне обязана, но более в моих услугах не нуждалась. Мне дали место на Грейт-Портленд-стрит, в отделе по борьбе со спекуляцией. Я не участвовал в операциях, нет. Я выполнял сугубо бумажную работу — сейчас эти функции переложены на компьютер. Карточную систему еще не отменили, но она уже изживала себя. Героический настрой военного времени испарился, и люди возвращались к мелким эгоистичным интересам. Рой в это время жил в Торонто и пытался урегулировать через адвокатов отношения с отцом. Чтобы понять ту жизнь, вообрази самый нудный роман Грэма Грина, да еще переставь в самый конец все его приличные куски, и вот он тянется, тянется, тянется сотни страниц. Единственная отрада — крикет, которым я увлекся со всей страстью эмигранта. Да еще воскресные дни в Уголке ораторов, где я мог на разных языках порассуждать о Ницше или Канте, Гёте или Сталине или сыграть партию-другую в шахматы с приличным партнером, если погода позволяла. И таких Альфредов в Лондоне сорок седьмого было превеликое множество.
Дописав предложение, я размял пальцы и проследил за взглядом Альфреда. Он смотрел на мокрое камфорное деревце по другую сторону улицы. На углу Хэмпстед-Хит, за ним виднеется пруд. Альфред имеет привычку, задумавшись, смотреть на это деревце в окно, возле которого висит фотография Бертрана Рассела[56] с автографом.
— Я никогда не встречал привидений, Марко. Я не верю в жизнь после смерти. Я считаю, что идея Бога — в лучшем случае детская выдумка человечества, а в худшем — злая шутка дьявола. Да-да, каждый из них вполне может существовать без другого. Я знаю, ты будешь проповедовать Будду и своего туманного Гессе, но мне уж позволь остаться ортодоксальным атеистом до конца. Однако летним вечером сорок седьмого года со мной случилось необыкновенное событие. Я хочу, чтобы оно непременно вошло в автобиографию. Когда будешь писать о нем, Марко, умоляю тебя не впадать в интонацию «романа с привидениями». И научных объяснений тоже давать не надо. Просто запиши мой рассказ как есть и добавь, что я не могу предложить читателю никакой разгадки. Пусть читатель сам думает, что хочет. Привидение здесь появляется в самом начале.
Он меня здорово заинтриговал.
— Так что это за случай, Альфред?
— Закончился рабочий день. Мы с профессором Бейкером поужинали в ресторане в Южном Кенсингтоне. После ужина я сидел, глядя на людской поток за окном. Так же нас завораживает поток воды. Водопад, например. Ты не находишь? Короче, в этот самый момент я увидел себя.
Альфред внимательно наблюдал за мной, чтобы оценить произведенное впечатление.
— Ты увидел самого себя?
Альфред кивнул.
— Да, себя. Не отражение, не близнеца, не астральное тело и не восковую фигуру. Это не был дешевый фокус. Я увидел самого себя, каким я был тогда, живого Альфреда Копфа в полный рост.
— И что же другой ты делал?
— Пробегал мимо. Может, я бы не заметил его в толпе, но порывом ветра с него сорвало шляпу. Другой такой шляпы не было во всем Лондоне. Шляпа принадлежала моему отцу, одна из немногих вещей, которая осталась на память о нем. Он отдал мне ее перед тем, как немцы увели его, а потом сожгли в газовой печи. Тот, за окном, наклонился, чтобы ее поднять, и сделал при этом точно такое движение, как сделал бы я сам, вскинул голову и огляделся, словно ища кого-то. Потом надел шляпу и снова побежал. Но я успел разглядеть его лицо и узнал самого себя.
Литературный негр, как психоаналитик, должен уметь вовремя промолчать.
— Желаю тебе, Марко, для твоего же блага, чтобы ты никогда не встречал самого себя. Это зрелище не входит в круг нормального опыта здорового человека. Однако мой случай не является единственным. Я знаю еще троих человек, которые пережили то же самое. По-твоему, какое чувство испытываешь в первый момент?
Я напряг воображение.
— Не веришь своим глазам?
— Не угадал. Благородное негодование. У всех у нас возникало желание броситься за самозванцем, чтобы повалить на землю и начистить физиономию. Я, собственно, так и поступил. Схватил отцовскую шляпу — моего отца! — выскочил на улицу и бросился за ним. По Ромптон-роуд в сторону Найтсбриджа. Я был очень спортивным молодым человеком. Я прекрасно видел его — мой бежевый плащ раздувался на ветру. Слегка накрапывало. Асфальт намок и стал скользким. Почему он бежал? Он знал, что я преследую его. Вокруг был совсем другой, не теперешний, Лондон — с омнибусами, конными полицейскими, женщинами в платках. Можно было переходить через дорогу без риска, ударившись о ветровое стекло, вылететь прямиком в преисподнюю. Мой двойник по-прежнему мелькал впереди, перемещаясь с той же скоростью, что и я. Возле Гайд-парка мои легкие готовы были разорваться, и я перешел на шаг. Мой двойник поступил так же, словно дразнил меня. Мы миновали Гросвенор-сквер, прошли вдоль длинной стены, ограждающей сад Букингемского дворца от простонародья. И оказались у Виктории. В ту пору это была совсем маленькая площадь. Он повернул к Королевским конюшням, по Бёрдкейдж-уок дошел до южного края Сент-Джеймсского парка. Мой гнев уже начал стихать. Все это напоминало нелепый анекдот. Или бездарное подражание Эдгару По. Немного отдышавшись, я попытался сократить разрыв между нами и прибавил шагу. Он тоже. Мы приближались к Вестминстеру. Я вынужден был замедлить шаг, и мой двойник его замедлил тоже. Мы вышли на набережную. По мосту шло много людей. Мне показалось, что я потерял его в толпе, но снова впереди, ярдах в пятидесяти от меня, вынырнула его шляпа. Я видел свой собственный затылок, такую же стрижку, как у меня. Я пытался найти разумное объяснение происходящему. Переодетый актер? Мираж времени — может, такие бывают? Помешательство? Миновали Темпл. Мы смещались все восточнее. Я начал беспокоиться: тогда это была довольно глухая часть города. В тот вечер случился один из тех редкостных закатов цвета восточных сладостей — нуги с мармеладом, — которые Лондон чудесным образом, как фокусник из шляпы, достает невесть откуда. Мы двигались мимо Мэншн-хаус, по Кэннон-стрит. Вот и Тауэр. И тут я увидел, что мой двойник садится на стоянке в такси! Я бросился к следующему ждущему пассажира такси, вскочил в него и крикнул:
«Только не удивляйтесь! Гоните за той машиной!»
Наверное, к таксистам часто обращаются с такой просьбой, потому что водитель и не думал удивляться.
«Как прикажете, сэр».
Олдгейт. Дальше по боковым улочкам, мощенным булыжником, до Ливерпуль-стрит. Моргейт. Сейчас там находится Барбикан-центр. Тогда же все было разрушено после бомбежек и представляло одну большую стройплощадку. Как и Фарингдон. Впрочем, в Фарингдоне так и сейчас. Мы несколько раз стояли в пробке. Я готов был выскочить и побежать бегом, но в этот миг вереница машин трогалась с места. Так, то и дело останавливаясь, мы доползли до Кингз-Кросс, а потом от Юстон-сквер до Грейт-Портленд-стрит. На заднем сиденье такси впереди меня мелькала его шляпа. Неужели ему больше нечем заняться? А мне? За Бейкер-стрит опять появились деревья. Мы миновали Эджвер-роуд и Паддингтон. За Бейсуотером я заметил, что он вышел из такси у Ноттинг-Хилл-Гейт и направляется в Кенсингтон-гарденс. Я расплатился с таксистом и бросился в погоню за своим двойником. Хорошо помню, каким сладким, густым был вечерний воздух после дождя.
«Эй!» — крикнул я, и две элегантные леди с собачками вздрогнули.
«Альфред Копф! Погоди!» — заорал я, и с дерева, глухо ударившись оземь, упал какой-то мужчина.
Мой двойник даже не оглянулся. Почему он убегал от меня? Если верить литературе, с двойником полагается беседовать по душам о природе добра и зла. А мы бежали по Кенсингтон-роуд, мимо музеев, мимо ресторана, в котором я скоро должен был встретиться с профессором Бейкером и поужинать. Резкий порыв ветра сорвал шляпу с моей головы. Я наклонился, чтобы поднять ее. А когда разогнулся, то увидел, что мой двойник исчезает.
Рассказ так увлек меня, что я забылся.
— Как исчезает? Растворяется в воздухе?
— Нет. Садится в автобус номер тридцать шесть. И уезжает.
— И еще я не понял насчет профессора Бейкера. Вы ведь вроде уже с ним поужинали?
Что-то влетело в окно и шлепнулось на пол так быстро, что я не успел это разглядеть. Голубь? В тот же самый момент в комнату вбежал Рой со слезами на глазах, весь дрожа.
— Боже мой, Альфред! Мне только что позвонил Моррис!
Что разыгрывается у меня перед глазами — трагедия или фарс?
— Успокойся, Рой. Успокойся. Я как раз рассказываю Марко о своем двойнике. Какой Моррис тебе позвонил — старший или младший?
И Альфред начинает раскуривать трубку.
— Моррис-старший, из Кембриджа. Джерома убили.
Пальцы Альфреда застывают.
— Джерома? Ему же гарантировали неприкосновенность… — хрипит он.
— По словам Морриса, в министерстве обвиняют петербургскую мафию. Ходят слухи, что Джером спутался с бандой похитителей картин.
— Это невозможно! Ложь! — Альфред стукнул ладонью по столу с такой силой, что я испугался за его старые хрупкие кости. — Они лгут для отвода глаз. Решили избавиться от старой гвардии. Хотят убрать нас поодиночке. Нынешние министры — отморозки. Черт бы подрал этих сволочей!
И Альфред разразился пылкой тирадой — наверное, из самых отборных венгерских ругательств. Проклятия носферату[57].
— Что, плохие новости? — обращаюсь я к Рою.
Тот даже не кивает в ответ, и так ясно.
— Весь кофе на полу, — сообщает он. — Наверное, я вставил два фильтра.
Наступает молчание, которое никто из нас не прерывает. Альфред вынимает из кармана платок, и на пол выкатывается монетка. Она описывает сужающиеся окружности, пока не закатывается под шкаф. Там ей суждено пролежать долгие годы, если только ее не обнаружит Фольк во время следующего визита.
— Марко, — говорит Альфред, глядя куда-то вдаль. — Спасибо за работу. На сегодня, пожалуй, хватит. — Его голос дрожит. — Продолжим через неделю. До свидания, Марко.
Когда я выхожу от Альфреда, тучи торопятся в сторону Эссекса, уступая место теплому дню, ясному и золотистому. Бог с ними, с Альфредом и с Роем, их проблемы — это их проблемы. А лично я слизываю кусочки шоколада с поверхности клубничного мороженого. Мошкара столбом вьется над лужами. Деревья успели совсем просохнуть. Скоро они примут свой зимний вид. В фургоне с мороженым неподалеку крутят детские песенки. Двое ребятишек сидят перед домом и дрессируют йо-йо. Приятно видеть, что дети по-прежнему играют в йо-йо. Фиби, моя родная мать, называет это время года «бабье лето». По-моему, здорово сказано. И вообще на душе у меня хорошо. Рой заплатил немного денег, передав мне завернутое в купюры это самое клубничное мороженое, и в придачу всучил жуткий кожаный пиджак зеленого цвета. Я сопротивлялся, но он умудрился натянуть его на меня и, застегивая молнию, вспомнил, что мне звонил Тим Кавендиш и очень просил заехать. Рой шепотом извинялся, что не может заплатить больше. Дело в том, что на этой неделе ему пришлось обратиться в палату лордов по поводу одного типа, который бежал в Зимбабве с чемоданом его денег. Судебные издержки перевалили за 92 000 фунтов.
— Конечно, безумно дорого, — шептал Рой. — Но это вопрос принципа.
Тип пока обретался в Зимбабве, а с ним и чемодан.
Нет ничего хуже честности, факт. Ложь иногда может поставить тебя в затруднительное положение, но если не хочешь из него вылезать — всегда говори правду и только правду.
В тот раз, когда у нас порвался презерватив, Поппи кончила и выдохнула:
— Марко, это лучше, чем секс!
Почему-то мне сейчас это вспомнилось.
Я иду в Принстон-хилл. Дорога к дому Тима Кавендиша лежит через Риджентс-парк и Оксфорд-стрит. Мне нравится ходить мимо зоопарка. С ним связаны воспоминания детства. Приемные родители обычно водили меня сюда в день рождения. Еще и сегодня, заслышав птичий гвалт из вольера, я чувствую во рту жирный вкус сэндвичей с рыбным фаршем.
Я прекрасно понимаю, что Поппи сыта уже ролью матери-одиночки даже с единственным ребенком. Но я знавал женщин, которые имели предубеждение против аборта и решались на него только в крайнем случае. Если выяснится, что Поппи беременна, чего я захочу? То есть захотел бы? Если она согласится жить со мной как с отцом ребенка, я согласился бы на моногамию. Всерьез. Многие из моих друзей женились, обзавелись детьми. Я вижу, что их жизнь полностью изменилась. Нырять с головой в неизведанное — не кайф, если благополучие двух других существ зависит от того, где ты вынырнешь. Странно. В детстве я считал, что дети сами собой появляются, когда человек становится взрослым. Типа: в один прекрасный день просыпаешься — и вот они, сучат ножками, пеленки мокрые. Оказывается, не тут-то было. Сначала нужно принять решение, все равно как прежде чем купить дом, записать диск или устроить государственный переворот. А если я так никогда и не смогу принять решение? Что тогда?
Проблемы, кругом проблемы.
Стою на вершине холма. Вдохни, смотри и не дыши! Какой отсюда вид! Старина Лондон, старина Лондон… У итальянцев города имеют род: мужской, женский. Все знают, какой город мужчина, какой женщина, но объяснить почему, не могут. Я это хорошо понимаю. Лондон — мужчина средних лет, женат, как того требуют приличия, но в глубине души он гей. Я ощущаю части города, как части собственного тела. Челси и Пимлико в обрамлении красного кирпича, электростанция в Баттерси, похожая на перевернутый кофейный столик… Мрачные дома за мостом Воксхолл. Грин-Парк. Я мог бы весь город разметить, как геодезическими знаками, по адресам моих постельных партнерш. Хайбери теперь уже связан с Кати Форбс. Патни — это Поппи, ну и, конечно, Индия. Не в том смысле, что я спал с Индией, ей всего пять лет. Кэмден — тарантул Хоббит. Мысленно размечаю маршрут идиотской истории, которую рассказал Альфред. Что он себе думает? Как, интересно, я вставлю такую белиберду в серьезную автобиографию? Нужно придумать неординарный ход. Иначе моей следующей книгой будут «Записки сумасшедшего», написанные от лица обитателя Бедлама.
Слишком уж хороший выдался день, жалко отравлять его проблемами. Свет такой золотистый, тени такие легкие.
В Лондоне появилось много нового, чего не было в ту пору, когда Альфред гнался по кругу за Альфредом. Взять хотя бы все эти самолеты, которые садятся в Хитроу и Гатвике. Плотина на Темзе. Купол Миллениума. Сентер-Пойнт, детище шестидесятых. Сгораю от желания — вот бы кто-нибудь взял да взорвал эту гигантскую пепельницу на пьедестале. Канада-Тауэр в доках, сейчас сияет на солнце и напоминает мне почему-то зеркало в стиле ар-деко в комнате Шелли. Шелли из Шепердз-Буша, в западном районе Лондона. Приехала туда по зову этого, как его… Как же его звали, этого парня? Работал на «Бритиш оксиджен».
А ее соседка по квартире Натали, она уверовала во Христа и приехала по Его зову. Одним дождливым днем Шелли, Натали и я составили Святую Троицу, укрывшись стеганым одеялом Шелли. С тех пор Натали значится у меня под рубрикой «крайне неустойчивый элемент».
Город — это океан, который хранит в своих недрах все, что ты потерял. И выносит на берег потерянное другими.
— Потрясающий вид, правда? — обращаюсь к мужчине с рыжим сеттером.
— Чертова задница, а не город!
Лондонцы не боятся выругать Лондон именно потому, что в глубине души уверены: нам повезло жить в прекраснейшем из городов мира.
Выхожу из автобуса на Оксфорд-стрит, народу полным-полно. Оксфорд-стрит торгует остатками былой роскоши — как рок-фестиваль в Гластонбери или Харрисон Форд. От выхлопов здешний воздух имеет металлический привкус. Обувные лавки «Доктор Мартенс» подавляют меня. Гигантские музыкальные магазины заранее убивают надежду совершить чудесное открытие. Универмаги полны вещей, рассчитанных на тех людей, которые, переезжая на новую квартиру, ничего не должны таскать сами: ванны, которые подошли бы Ниро Вульфу[58], с позолоченными ножками или фарфоровые собаки-колли в натуральный рост. Из ресторанов быстрого питания у Мраморной арки выходишь более голодным, чем вошел. Единственная путная вещь на Оксфорд-стрит — испанские девчонки, которые расплачиваются за уроки английского тем, что раздают рекламные листовки о скидках на курсах английского языка в районе Тотнем-Кортроуд. Джибриель однажды здорово провел время с одной из них — притворился, будто он только что из Ливана и не знает ни слова по-английски. В киоске возле Оксфорд-Серкус покупаю Поппи футболку с поросенком, чтобы порадовать ее. Выбрал подлиннее — будет вместо ночной рубашки. Прохожу мимо рекламы туристического агентства, точнее, впечатываюсь в нее под внезапным натиском массы человечьих тел, и чувствую себя слабеньким стариком, и теряю из виду полоску неба, и…
- И там я найду покой, ибо медленно, как туман,
- Сходит покой к сверчкам утренней росной пылью;
- Там полночь ярко искриста, полдень жарко багрян,
- А вечер — сплошные вьюрковые крылья.
- Встану я и пойду, ибо в час дневной и ночной
- Слышу, как шепчется берег с тихой озерной волною;
- И хотя я стою на сером булыжнике мостовой,
- Этот шепот со мною[59].
А знаете, что самое ужасное в моей литературной барщине? То, что никогда не напишешь шедевра. А если и напишешь, никто не узнает, что это ты написал.
Мне пришлось прождать восемь минут возле банкомата, и за это время мимо прошло одиннадцать языков. По крайней мере, я столько насчитал, насчет восточных могу и ошибаться. Я потянул носом. Запах слизи, покрывающей лондонские булыжники, достиг моих обонятельных анализаторов. Мм-да. Прелесть. Рядом с банком — магазин, в котором продаются одни телевизоры. Широкие, узкие, плоские, кубические, сферические и такие, которые одновременно показывают вам всю ту чушь, которую вы упускаете на тридцати каналах, пока смотрите чушь на выбранном одном. Я понаблюдал, как регбисты из Африки выиграли у англичан три раза по три очка, и сформулировал закон Марко об Аналогии Соотношения Случайного и Неизбежного с Видеозаписью Спортивного Матча. Он гласит: пока игра не записана на видео, она — замкнутое пространство взаимодействующих случайностей. Но как только матч записан, любая мелочь из возможной становится необратимой. Прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно: вот на этой пленке, которую можно взять в руку. На пленке нет ничего случайного, любое движение человека или мяча предопределено. Так что же тогда является законом нашей жизни — случайность или неизбежность? Ответ относителен, зависит от момента времени и точки зрения. Пока ты находишься внутри своей жизни, все в ней для тебя случайность. Если ты вышел за ее пределы и смотришь со стороны, будто читаешь книгу, все — сплошная неизбежность.
Не знаю, как для вас, а для меня жизнь — колодец, и я нахожусь внутри. Погрузился по шейку, но дна пока не достиг.
Меня мучает острое желание поймать такси, доехать до Хитроу, сесть в самолет и улететь куда-нибудь подальше, где людей поменьше. Монголия — самое подходящее для меня место. Но мне не на что добраться даже на метро до Хитроу.
Вставляю карточку в щель и умоляю коварного бога-покровителя племени банкоматов послать мне двадцатипятифунтовую бумажку. Меньше никак не хватит, чтобы напиться в обществе Джибриеля. Чертова машина глотает мою карточку с потрохами и советует обратиться в обслуживающий меня филиал банка. Я рычу и щелкаю пальцем по экрану. Что проку в Йейтсе, если выпить не на что?
Пышнотелая индианка с красной точкой на лбу пробасила у меня за спиной с бруклинским акцентом:
— Какой облом, да, малыш?
Не успел я ответить, как голубь с карниза насрал мне прямо на макушку.
— Сегодня не твой день, малыш… Держи салфетку…
Литературное агентство Тима Кавендиша находится в темном переулке возле Хеймаркета. На третьем этаже. Со стороны здание выглядит просто шикарно. Вращающаяся дверь, над ней навес, на нем флагшток. Оно предназначалось то ли для филиала Адмиралтейства, то ли для одного из этих дурацких клубов, куда женщинам вход заказан. Но теперь здесь находится Тим Кавендиш.
— Марко! Как здорово, что ты пришел!
Излишек энтузиазма настораживает гораздо больше, чем его отсутствие.
— Добрый день, Тим. Я принес три последние главы.
— Кидай наверх!
Одного взгляда на стол Тима достаточно, чтобы все понять. Стол некогда принадлежал Чарльзу Диккенсу. По крайней мере, так говорит Тим, и у меня нет причин ему не верить. На столе нет живого места: гора папок и рукописей, шеренга бокалов «Гленфиддих», которые можно принять за аквариумы, три пары очков, компьютер, которым он при мне ни разу не пользовался, переполненная пепельница, энциклопедия «Ниневия и Ур от А до Я», еженедельник «Скачки».
— Садись, садись! Выпьем по глоточку! Три первые главы я показал Лаванде Вильнюс, и она пришла в восторг! Я не видел ее в таком восторге с тех пор, как Родни написал биографию принцессы Маргарин[60].
Я выбираю стул, на котором груда пониже, и начинаю аккуратно перекладывать стопки книг в блестящих твердых переплетах на пол. Они еще пахнут типографской краской.
— Да спихни этот хлам, и дело с концом! А еще лучше отправиться в Японию и швырнуть это дерьмо в морду этому гаду!
Смотрю на обложку. «Священные откровения Его Провидчества — новый взгляд, новый Мир, новая Земля. Перевела Берил Брейн». Над заглавием — портрет какого-то спасителя с восточными чертами лица: он вперил взгляд в сердцевину лютика, откуда на него, в свою очередь, глядит златокудрый младенец.
— Вот уж не знал, что ты занимаешься такой фигней, Тим.
— В жизни не занимался! Один приятель по Итону упросил, поклонник нью-эйджа. Были предупреждающие звоночки, Марко, были. Не прислушался. Мой итонский приятель заявил, что к новому тысячелетию наш рынок созрел для небольшой порции восточной мудрости. Берил Брейн, кстати, — одна из его подружек. Имечко в самый раз, а вот фамилия ей не подходит[61]. Но это к делу не относится. Мы как раз получили из типографии первую партию этого дерьма, когда Его Провидчество вздумал проповедовать свой новый взгляд в токийском метро с помощью отравляющего газа. Ты, конечно, помнишь репортажи об этом теракте в начале года? Его рук дело.
— Да, Тим. Это был ужас.
— Ты это мне говоришь про ужас? Сукины головорезы перевели нам только часть денег, и тут все их счета заморозили! Я тебя умоляю! Мы попали, как кур в ощип. Весь тираж напечатали в твердой обложке, полторы тысячи экземпляров! А продать смогли несколько штук, да и то фанатам документального детектива. А теперь сидим в жопе. Ну как можно поверить этим сектантам? Неужели, чтобы приблизить конец света, нужны особые меры?
Тим Кавендиш протягивает мне гигантский бокал виски. Никогда не доводилось ни пить из таких, ни даже видеть, как пьют.
— А что собой представляет эта книга, Тим?
— Чепуха на постном масле, вот что. Твое здоровье, Марко! Пьем до дна.
Мы чокнулись аквариумами.
— Да, Марко, так как поживают наши друзья из Хэмпстеда?
— Неплохо… — Я возвращаю книгу в стопку таких же. — Мы добрались до сорок седьмого года.
— Вот как… И что произошло в сорок седьмом?
— Ничего особенного. Альфред повстречался с призраком.
Тим Кавендиш откинулся на спинку стула, и тот скрипнул.
— С призраком? Ну-ка, ну-ка, крайне интересно.
Но мне не хотелось развивать эту тему.
— Тим, я не знаю, в какой степени Альфред вообще…
— Вообще в себе?