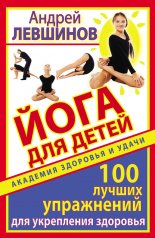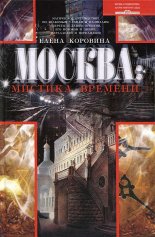Покидая мир Кеннеди Дуглас
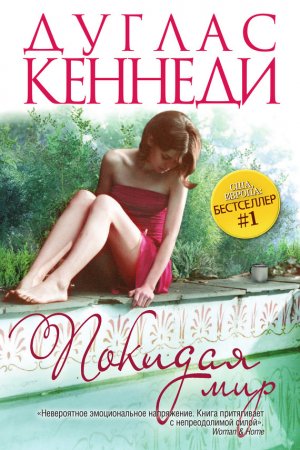
— Я подозреваю, что у него всего по три смены: три одинаковых пиджака, трое брюк, три пары башмаков и так далее, — рассуждала Рут. — Это так похоже на Верна. Внешность для него имеет слишком мало значения. Но стоит заговорить с ним о музыке, и все преображается.
Верн предпочитал стрижку армейского образца — короткие волосы на затылке и по бокам и идеально ухоженный ежик.
— Наверняка он пользуется гелем и самой жесткой щеткой, какая только есть в продаже, чтобы добиться такого результата, — комментировала Рут. — Мне иногда кажется, что Верн, должно быть, держит дома какую-нибудь птичку. Как было бы хорошо: она садилась бы ему на голову, на эту стерню, — составляла мужскую компанию. Видит бог, хоть какой-нибудь товарищ ему просто необходим.
О Верне было известно только то, что он закоренелый холостяк и живет один в доме, оставшемся ему от покойной матери, в ближнем пригороде Калгари.
— Он настолько замкнутый, настолько замкнутый, — говорила Рут, — что многим кажется чудаком, с серьезными тараканами в голове. Из тех типов, кому никто не доверил бы своих детей, потому что неизвестно, что у них на уме. Но я-то проработала с ним бок о бок шестнадцать лет и могу сказать — я этого парня просто обожаю. Да и то сказать — кто из нас без странностей? Просто у него они чуть больше заметны, чем у остальных.
В ведении Верна находилось собрание компакт-дисков, нот и книг по музыке, собранных на третьем этаже библиотеки, на площади около тысячи квадратных метров. Во время нашего первого знакомства, когда меня представляли сотрудникам, он крепко стиснул мою правую руку, без тени ободряющей улыбки. Потом опустил голову и уставился на носки своих сверкающих башмаков.
— Очень приятно, — пробормотал он.
Через неделю после этого я разыскивала отсутствующий том «Музыкальной энциклопедии» Гроува и вынуждена была подняться к Верну в «логово» (термин Рут). Подойдя, я увидела его, ссутулившегося над одним из CD-плееров, на которых клиенты могут послушать запись, прежде чем взять диск на несколько дней домой. Уши были закрыты парой больших наушников. Он сидел прикрыв глаза и настолько отдался в этот момент музыке, что со стороны казалось, будто он переживает некий религиозный экстаз. Заметив, что я стою рядом и наблюдаю за ним, Верн подпрыгнул на месте, словно я застала его за каким-то предосудительным занятием, и поспешно сорвал с головы наушники. Он бросил их на стол, и до меня донеслось гудение струнных, сопровождаемое мощными духовыми, — звук был очень громким.
— Извините, — забормотал Верн. — Я просто…
— Что это за произведение?
— Девятая Брукнера. Скерцо.
— То, где усилена секция медных духовых и тема «лендлера» звучит контрапунктом к безостановочному стихийному движению?
— Ммм… да… совершенно верно… — Он был удивлен, услышав мои слова. — А вы, оказывается, разбираетесь в музыке?
— Немного. Чье исполнение вы слушали?
— Гюнтер Ванд с Берлинским филармоническим. Эта запись была сделана незадолго до смерти Ванда в две тысячи втором году.
— И?..
— Что «и»?
— Вам она нравится?
— О, да, конечно. Ванд чувствует сложную архитектуру симфонии, а это… ммм… является абсолютным ключом к прочтению Брукнера. И в то же время у него присутствует капельмейстерский контроль в том, что касается ритма и темпа, и отказ от… — Внезапно Верн оборвал себя на полуслове. — Вам это действительно интересно? — недоверчиво поинтересовался он.
— Конечно. Но я вряд ли разделяю ваше мнение о том, что касается…
— В чьем же исполнении вы предпочитаете Брукнера?
— Ну… У меня-то всегда были записи Караяна. Но его трактовки, как мне сейчас видится, немного напоминают ковер с толстым ворсом — идти легко, но не хватает остроты.
Верн Берн нервно улыбнулся:
— Точно, это Караян — все шикарно, все прекрасно, но нет чувства… ммм… метафизического, я бы сказал. Слово чересчур претенциозное, конечно.
— Совсем нет, — возразила я. — Тем более с Брукнером, где метафизика — это все.
— Несколько католическая метафизика. Он, я бы сказал, был немного слишком предан своему собственному богу.
Снова улыбка на лице Верна Берна.
— Стало быть, вы рекомендуете экономную, без украшательств версию Девятой Брукнера? — спросила я.
Верн поднял палец и обернулся к полке с надписью «Симфонии», в ней мгновенно нашел раздел Брукнера, пробежался кончиками пальцев по тесно уставленным дискам, сразу обнаружил то, что искал, и протянул мне.
— Харнонкурт, и тоже с Берлинским. Играют на инструментах соответствующего периода, но с современным оркестровым звучанием. Уверен, вам известно, что Харнонкурт был одним из пионеров школы исполнения старинной музыки на аутентичных инструментах и добился настоящих открытий в барочном и классическом репертуаре. Его симфонии Бетховена — настоящий переворот, и это лучше, чем у Джона Элиота Гардинера, который, как мне всегда казалось, слишком любуется собой. Одним словом, послушайте и потом расскажете, что вы об этом думаете.
Я принесла диск домой, уселась на стул и прослушала всю симфонию, не отрываясь. Я и раньше слушала Девятую Брукнера, даже на концерте, в исполнении Бостонского симфонического оркестра под управлением Озавы,[102] мы там были с Дэвидом, который охарактеризовал его как «классического Озаву: сплошной блеск и никакой глубины». Но никогда до этого дня я не слышала Девятую симфонию. И что же открылось мне в этом простом, без прикрас, но все же очень динамичном прочтении Николауса Харнонкурта? Что Брукнер писал не просто музыку, он создавал настоящие соборы, громады звука, которые подхватывают вас, как водоворот, и показывают вам другие, доселе невиданные миры. Оказалось, что эта симфония — арена эпического сражения. В отличие от Малера, однако, эта битва не была противостоянием человеческой личности безжалостному шествию жизни к умиранию. Брукнер, как мне показалось, вообще говорил о чем-то нематериальном: о поиске божественного в суете повседневности, о каких-то необъятных, неземных силах, действующих во Вселенной.
Слушая симфонию, я в эти мгновения всей душой желала поверить. Как хотелось бы мне знать, что Эмили сейчас где-то там, в невидимом для нас мире, что она навсегда осталась трехлетней, вечно играет в куклы, напевает любимые свои песенки, не боится оставаться одна, потому что рай — место, где нет страха, нет одиночества, где даже те, кто был взят из жизни в таком нежном возрасте, оказываются в чудеснейших, самых лучших яслях. А поскольку времени больше не существует, она не успеет глазом моргнуть, как пролетят шестьдесят лет, мать, не находившая себе места от переживаний, заболеет, например, каким-нибудь ужасным раком — и произойдет встреча с любимым дитятей, которого она все эти годы оплакивала. И заживут они вечно и счастливо под благодатной сенью десницы Божией. Правда, они не будут жить по-настоящему, потому что это не жизнь, а небеса: место, где никогда ничего не случается…
И как только люди могут покупаться на этот жалкий лепет? Как смеют пытаться убедить меня в существовании столь бессмысленной концепции, в благой, но бессмысленной надежде, что этими иллюзиями можно облегчить мои страдания? Если хотите получить представление о божественном, слушайте Брукнера или кантату Баха. Отправляйтесь в поход на высокогорный перевал (если, конечно, у вас хватает сил взирать на такую красоту). Садитесь на самолет, чтобы полюбоваться собором в Шартре. Только не надо… не надо… внушать мне, что в следующей жизни я буду вечно радостно возиться со своей чудесной дочкой, когда здесь, в этой жизни, я корчусь в муках — и знаю, что никогда от них не избавлюсь.
В тот вечер мне пришлось напиться, чтобы заснуть, — впервые с того дня, как мне увеличили дозу миртазапина. Наутро я проснулась как в тумане, подавленная и опустошенная. Вид у меня был словно после запоя. На работе Рут спросила:
— Бурная ночка?
В ответ я просто кивнула, положив конец дальнейшему обсуждению этой темы. Когда я возвращала диск Верну, он, очевидно, тоже был смущен моим видом, но ничего не сказал.
— Хорошая запись, — заметила я, протягивая ему диск.
— Рад, что вам понравилось, — пробурчал он, рассматривая носки своих ботинок.
— Я вскоре зайду, надеюсь, вы еще что-то порекомендуете. — И с этими словами я вышла.
Однако я не заходила в его логово недели две, поскольку боялась, что после следующего музыкального предложения Верна окончательно слечу с катушек, поскольку Верн мог решить, будто обрел сочувственного слушателя его музыковедческих монологов, наконец, поскольку мне не хотелось чувствовать себя обязанной изображать интерес к нему, проявлять любезность и…
Господи, сколько же смятения было тогда в моих мыслях. Но Брукнер буквально выбил почву у меня из-под ног, открыл в моей душе новые богатейшие залежи горя. Стоит только поверить, что ты научился справляться со своим страданием, можешь держать его где-то на отдельной полочке — хлоп! — и оно атакует новый участок твоей души. И происходит это внезапно, безжалостно — даже если тебе удавалось отвлечься от этого надолго, на многие часы, оно вдруг набрасывается из-за угла, напоминая, что эта пытка бесконечна, боль неутолима, исцеления не будет.
Разумеется, мне совершенно не в чем было винить Верна, но тем не менее с этого дня я держалась от него на почтительном расстоянии.
— Знаете, — однажды заговорила со мной Рут, — когда я узнала всю правду о Верне Берне… в общем, я зареклась когда-либо делать поспешные выводы (пусть даже моих добрых намерений хватило минут на десять). Верн Берн. Я, честно говоря, давно определила свое к нему отношение, классифицировала и считала его этаким персонажем «южной готики».[103] А оказалось, что я попала пальцем в небо, промахнулась, да еще как! Наш парень преподавал музыку на востоке. Жена от него сбежала с каким-то типом из конной полиции, устроила омерзительный бракоразводный процесс и обчистила его до нитки. В это время у его дочери — ей не было и пятнадцати — диагностировали злокачественную шизофрению, так что пришлось поместить ее в специализированное заведение, где она находится уже с конца восьмидесятых. Наш бедняга Верн запил по-черному и в результате лишился места. Ему ничего не оставалось, как вернуться в Канаду под крыло мамочки-вдовы. Но надо отдать ему должное. Переехав сюда, он полностью отказался от спиртного — вступил в общество «Анонимные алкоголики» и все такое, — а потом нашел работу в библиотеке. Я слышала, что он был тихим, спокойным мужиком, пока все это на него не свалилось. А после этого стал уж совсем тихим. А уж когда пять лет назад у него обнаружили рак простаты…
— Боже милостивый!
— Да уж, действительно. Но с людьми всегда так. Снаружи все кажется гладенько, а копни поглубже — там ужас что творится. Да все мы такие. В общем, после операции, которая прошла успешно, он вроде бы, как я поняла, снова начал пить, но держит это под контролем. Хорошо, хоть с материнским домом ему воздалось по справедливости. Не бог весть что — небольшой коттедж постройки шестидесятых. Но это «не бог весть что» в Калгари все же на сегодняшний день стоит четыреста или даже пятьсот тысяч. В общем, вот вам история Верна Берна. И теперь вы знаете, почему меня за глаза называют Штази. Потому что я знаю все обо всех. Но такова уж библиотечная работа — надо же себя чем-то занимать, чтобы коротать время. Только знайте, я, конечно, сплетничаю, зато не злословлю. На самом деле, почти все наши сотрудники мне симпатичны, даром что я день-деньской готова перемывать им косточки.
— Хотите сказать, что вам симпатична даже Марлин Такер? — поинтересовалась я.
— Марлин Такер не нравится никому.
Марлин Такер… Она возглавляла отдел комплектования фондов — этот пост в нашем тесном мирке давал определенную власть, которой она беззастенчиво пользовалась, раздражая всех и каждого.
«Распорядительница» — так окрестила ее Рут, потому что Марлин постоянно повторяла, что она «в свое время» сама примет «оптимальное решение», напоминая, что без ее ведома и одобрения не будет приобретена ни одна книга из тех, которые, по вашему мнению, следовало бы иметь в собрании библиотеки.
Обладательница весьма заурядной внешности, эта сорокалетняя женщина питала пристрастие к платьям в цветочек, вышедшим из моды еще до трагического падения Лоры Эшли[104] с лестницы. Держалась она подчеркнуто любезно и официально, будто со своими подданными, особенно это чувствовалось всякий раз, когда она играла в «распорядительницу».
— Сотрудник с вашим послужным списком и такой квалификацией — прекрасное приобретение для библиотеки, — сказала мне Марлин вскоре после моего выхода на работу. — Возможно, вы могли бы что-то посоветовать мне в том, что касается пополнения нашего собрания.
Спустя несколько месяцев я по ее распоряжению, просидев больше тридцати часов сверхурочно, составила длинный перечень тех авторов, книг которых недоставало в библиотечных фондах. Увидев, что, по моему мнению, на наши полки предстояло поставить минимум четыре сотни томов, Марлин сразу окаменела.
— Четыреста позиций! — воскликнула она, негодующим тоном давая понять, что я преступила свои полномочия и вышла за рамки дозволенного.
— Но вы же сами просили… — парировала я.
— Да, но могла ли я предположить, что вы представите такой недопустимо раздутый список!
— Четыреста одиннадцать наименований — довольно скромный запрос.
— Это отнюдь не так, если, конечно, помнить, что на приобретение ежегодно выделяется весьма скудная сумма.
— Разве местные власти не добавили к нему еще четыреста тысяч долларов на комплектование библиотечных фондов? Не потому ли вы и поручили мне составить этот список?
— Я действительно сочла вас наиболее компетентным сотрудником для этого задания. Но, по правде говоря, первое издание полного собрания сочинений Стивена Ликока…[105] как можно… это же безумные деньги…
— В Виктории есть торговец антикварными изданиями, готовый уступить нам полное собрание за девять тысяч.
— С какой стати Центральная библиотека Калгари должна выкладывать девять тысяч долларов на первое издание Стивена Ликока?
— По двум причинам. Во-первых, этот писатель — классик, канадский Марк Твен…
— Я прекрасно знаю, кто такой Стивен Ликок.
— И во-вторых, через пять лет эти книги наверняка будут стоить вдвое дороже, так что наша инвестиция удвоится.
Этот довод застал ее врасплох.
— Откуда вы можете это знать?
— Я навела справки через Интернет. И обнаружила, помимо всего прочего, что сейчас в Канаде выставлено на продажу всего четыре полных собрания Ликока тысяча девятьсот третьего года издания. Три из них принадлежат книготорговым фирмам из Торонто, которые запрашивают за них от семнадцати до двадцати четырех тысяч.
— И отчего же, хотела бы я знать, в Виктории это стоит так дешево?
— Этот букинист — независимый дилер, к тому же работает в простом гараже рядом с домом, поэтому наценки и накладные расходы у него минимальны. К тому же ему самому это издание досталось при распродаже недвижимости, и он хочет поскорее сбыть его с рук.
— А вы навели справки об этом дилере? Заслуживает ли он доверия?
— Несомненно, — ответила я, достав из ящика стола папку и передавая ее Марлин. — Просто удивительно, сколько всего можно обнаружить во Всемирной паутине. А еще я попросила его прислать отсканированные фронтисписы каждого тома и даже разыскала специалиста по Ликоку — он сейчас уже на пенсии, — проживающего в Виктории. Он с радостью согласился за двести пятьдесят долларов взглянуть на книги и освидетельствовать их подлинность, прежде чем мы выложим за них девять тысяч.
— Это его последняя цена?
— Если учесть, что я сбила ее с тринадцати, да.
Эта реплика тоже заставила Марлин нахмуриться.
— Откуда у вас такая уверенность, что в ближайшие пять лет ценность издания удвоится?
— Почитайте документы, которые я для вас распечатала, особенно вот этот, из Канадской ассоциации книготоргоцев-букинистов. Здесь говорится о том, насколько это редкое издание, и о том, что его цена в ближайшие десятилетия будет расти в геометрической прогрессии. Если сейчас его приобрести, благосклонность начальства библиотеке обеспечена, поверьте.
Постепенно мне стала понятна одна важная черта Марлин Такер — она недооценивала умственные способности других людей, если только нельзя было использовать их, чтобы оттенить с выгодной стороны собственную персону. Поэтому, когда она сказала мне, что «в свое время сама примет оптимальное решение по этому вопросу», я упомянула, что торговец согласился держать для нас эту цену лишь в течение семи дней. В ответ Марлин выдавила свою обычную улыбку и процедила:
— Ну хорошо, возможно, сегодня вечером я позвоню мистеру Хендерсону.
Стоктон Хендерсон возглавлял попечительский совет библиотеки — известный в городе юрист по корпоративным вопросам с очень высоким самомнением. К библиотеке председатель совета относился как к собственной вотчине и, являясь с инспекционными проверками, шествовал из зала в зал с видом важным и властным, ни дать ни взять Чарлз Фостер Кейн.[106] Когда неделю спустя после моего разговора с Марлин Такер мы получили-таки собрание Ликока, Хендерсон собственной персоной зашел в библиотеку взглянуть на новое приобретение. Книги разложили в зале для заседаний правления, а миссис Вудс распорядилась, чтобы я лично встретила «высокого гостя».
Все наперебой рассказывали мне, что Хендерсон — истинный Бэббит[107] наших дней, самонадеянный, наглый, не имеющий понятия об учтивости. Тем не менее ни я, ни миссис Вудс, ни Марлин Такер не были готовы к его первой реплике:
— Значит, вы и есть та женщина из Гарварда, у который умер ребенок…
Повисла тягостная пауза. Стоктон Хендерсон это отметил.
— Я сказал что-то не то? — обратился он к Марлин Такер.
— Вовсе нет, — вступила я, решив сгладить ситуацию. — Все верно по обоим пунктам: я действительно защитила диссертацию в Гарварде, а мою дочь сбила машина, и она погибла.
Стоктон Хендерсон даже не моргнул, когда я обратилась к нему напрямую. В этот момент я поняла, что бестактное замечание мерзавца не случайно и не по недомыслию сорвалось у него с языка. Все было заранее просчитано и имело целью меня спровоцировать. То, что я не вышла из себя и отвечала спокойно, произвело впечатление.
Коротким кивком он показал, что принял мой ответ к сведению, затем заговорил снова:
— Я читал и ваше исследование, и ваш доклад, посвященный приобретению Ликока. Блестящее гарвардское образование, конечно, сразу чувствуется, но я оценил и ваше чутье на выгодные сделки. Вы нащупали верное направление в том, что касается повышения ценности библиотечных фондов. Вы со мной согласны, миссис Вудс?
— Несомненно. Джейн проделала все просто превосходно.
— А что бы вы сказали, миссис Вудс, если бы я договорился с Законодательным собранием Эдмонтона о перечислении, скажем, полумиллиона долларов на расширение библиотечных фондов?
— Вы хотите сказать, в дополнение к тем четыремстам тысячам, которые уже были нам перечислены? — осведомилась Марлин Такер.
— Не припомню, чтобы я интересовался вашим мнением на этот счет, миссис Такер, — отреагировал Хендерсон.
Марлин Такер уставилась в пол, сразу оробев, ведь она предчувствовала, что может последовать за этим.
— Миссис Вудс? — повторил Хендерсон.
— Я полагаю, что полмиллиона, если разумно вложить эти деньги в приобретение редких и представляющих интерес для коллекции изданий, могли бы стать для библиотеки великолепным подспорьем.
— Именно такой ответ я и надеялся услышать, — подхватил Хендерсон. — Теперь следующее: как я понимаю, вы пишете книги и публикуетесь, мисс Говард.
— Я написала всего-то одну книгу, сэр.
— И все же это книга. А у нас в штате библиотеки нет больше ни одного литератора… не говоря уж об ученых степенях. Что бы вы сказали на предложение занять пост руководителя отдела комплектования фондов и одновременно взять на себя труд по созданию сектора редких изданий?
Последовавшая за этим пауза длилась никак не меньше трех секунд. Промолчи я еще чуть дольше, и Хендерсон, наверное, списал бы меня со счетов как слабака. Но по опыту работы с финансистами я знала, что люди, подобные Хендерсону, ценят в других решимость. Они искренне верят, что окружающие видят мир в том же манихейском, свободном от сомнений ключе, что и они сами… Сомнения же ими воспринимаются однозначно — как признак безволия и слабохарактерности.
— Я ответила бы положительно, — сказала я.
— Прекрасно. Так тому и быть. У вас нет возражений, миссис Вудс?
Джеральдина Вудс, всегда считавшая Марлин Такер обузой (которая к тому же метила на ее место и даже не делала из этого большого секрета), изо всех сил старалась подавить торжествующую улыбку.
— Ни малейших, сэр.
— Стало быть, это решено.
— Но мистер Хендерсон… — подала голос Марлин Такер. — У нас же была договоренность, что этот отдел возглавляю я до тех пор, пока…
— Эта договоренность, миссис Такер, подразумевала, что вы будете успешно справляться со своими обязанностями. Но каковы ваши достижения на сегодняшний день? Прогресс незаметен, вы формально относитесь к делу, в лучшем случае поддерживая его на существующем уровне.
— Я несогласна с такой оценкой и нахожу ее несправедливой, — заявила Такер.
— Не сомневаюсь в этом, — заключил Хендерсон, — Но правду часто бывает трудно принять. У вас еще есть вопросы, мисс Говард?
— Что, если я составлю перечень возможных вложений, которые мы могли бы сделать для отдела редких книг… я могла бы сделать это еще до вашего разговора с представителями властных структур. Я проведу исследование и могу представить точный план того, как оптимально распорядиться полумиллионом долларов, также я могу предположить, как окупятся сделанные вложения.
— Вот такая дальновидность мне по душе. Да, я был бы вам очень благодарен за подготовку такого документа. Недели вам на это хватит?
— Вполне, сэр.
— Ну, значит, взаимопонимание достигнуто, начинаем писать новую главу.
И все мы рассмеялись этой непритязательной шутке.
Не успел Хендерсон распрощаться и выйти, как Марлин Такер повернулась к Джеральдине Вудс:
— Я не согласна с принятым решением и собираюсь его опротестовывать… если потребуется, я буду судиться… или обращусь в попечительский совет…
— Пожалуйста, Марлин, — ответила Джеральдина Вудс. — Но в этом случае вам придется идти против нашего председателя, а он не выносит, когда ему прекословят. Но если вы этого хотите, поступайте, как считаете нужным, я не возражаю. Но я предвижу, что в этом случае он будет настаивать на вашем переводе на сортировку книг вместо приятной и несложной работы в секторе каталогов…
— Каталоги! Я начинала в этом секторе двадцать три года назад!
— Тогда в этом вашем возвращении к своим профессиональным истокам есть даже что-то приятное.
— Это еще не конец, вы обо мне услышите, — пророкотала Марлин и выскочила из комнаты.
Когда она захлопнула за собой дверь, Джеральдина Вудс громко протяжно вздохнула:
— Как же я благодарна вам за то, что вы появились в нашей жизни и избавили нас от этой дамы.
— Я этого вовсе не хотела.
— Я это знаю, поверьте. И Стоктон Хендерсон тоже это знает. Но вы просто потрясающе держались, когда наш председатель отпустил свое бесчеловечное замечание. К сожалению, боюсь, это его стиль.
— Вы забыли, что какое-то время мне довелось провести в мире бизнеса.
— О, я знаю, насколько вы многогранный и разносторонний человек, Джейн. Благодаря этому продвижению ваше жалованье отныне тридцать восемь тысяч в год. К тому же, если мы получим от властей эти полмиллиона, я хотела бы обнародовать вашу инициативу по улучшению наших фондов.
— Только не упоминайте меня, пожалуйста, — попросила я.
— Но для нас так важно, чтобы вы — автор книги, серьезный ученый, наша сотрудница — стали публичным лицом этого нового проекта.
— Простите, но я не могу… я не соглашусь на это.
— Не торопитесь с ответом, подумайте хоть пару деньков, хорошо?
— Я с радостью буду заниматься всей подготовкой, подбором книг, всеми переговорами и закупками… и выполнять обязанности заведующей отделом комплектования фондов. Только не надо заставлять меня делать это публично. Я уверена, что вы найдете достойного человека, который сможет быть лицом проекта.
Когда миссис Вудс сообщила Стоктону Хендерсону о моем отказе общаться с прессой в качестве руководителя отдела комплектования, это вызвало его недовольство, но только до тех пор, пока она не предложила ему взять это на себя и самому объявить о «новой инициативе», объяснив, что библиотека сотрудничает с многочисленными экспертами по редким изданиям, которые дают рекомендации о том, как наиболее эффективно распорядиться средствами, но окончательное решение он принимает сам.
Стоктону Хендерсону, человеку тщеславному и любящему покрасоваться на публике, предложение показалось привлекательным. В последующие два месяца он действительно добился от Законодательного собрания выделения библиотеке еще пятисот тысяч долларов на формирование нового фонда редких изданий.
— Там заседают такие низколобые тупицы, — заметила Рут Фаулер, когда деньги пришли, — что решение о дополнительном финансировании культуры способен продавить лишь точно такой же болван, вроде Хендерсона.
— Мне не на что жаловаться, — отвечала я, поскольку теперь, вместе с этим вторым грантом, у меня был почти миллион долларов, чтобы потратить их на книги.
И уж я их потратила! Во-первых, я учла все рекомендации и пожелания руководителей секторов по поводу того, какие «лакуны» необходимо заполнить в основных фондах. В секторе художественной литературы у нас работал на полставки аспирант из университета Калгари — очень неглупый парнишка по имени Рон. Он оказался настоящим докой, когда дело коснулось выявления «дыр» в наших фондах. Ему я поручила заняться пополнением фонда художественной литературы, выделив на это бюджет в пятьдесят тысяч. Рон был похож на ребенка в кондитерском магазине. Через две недели он явился с ворохом идей и предложений: целые разделы были посвящены литературе бит-поколения, квебекским писателям (на французском и в переводах), забытым романистам Альберты, французскому направлению «нового романа».
Миссис Вудс приходилось отстаивать многие из этих приобретений на заседаниях попечительского совета, члены которого, под влиянием разжигавших страсти писем от Марлин Такер (со мной она после понижения вообще не разговаривала), возмущались тем, что деньги «добросовестных налогоплательщиков» расходуются на «этих битников» и «франкоязычных», а также на книги, «которые никто никогда не будет читать» (именно так, дословно, и говорилось на заседаниях). Миссис Вудс проявила дальновидность и заблаговременно побеседовала с журналистами из обеих крупных городских газет, инициировав хвалебную кампанию: в каждом из изданий появились восторженные публикации об улучшении состояния Центральной публичной библиотеки Калгари и о вкладе в это благое дело попечительского совета, который «поддержал инициативу пополнения фондов библиотеки такими произведениями, которые, придав собранию книг глубину и разнообразие, могут сделать ЦПБ одной из лучших библиотек Канады».
Лесть пришлась по душе членам совета, а Джеральдина Вудс пригрозила миссис Такер увольнением, в случае, если та будет продолжать писать свои грязные письма. Но больше всех кампанией в прессе наслаждался Стоктон Хендерсон. Когда я добыла редчайшее издание «Домби и сын» Диккенса, выторговав его у книготорговца в Лондоне за четырнадцать тысяч долларов, и подписанный экземпляр первого издания «Улисса» Джеймса Джойса, изд. «Шекспир и К°», всего за пятьдесят восемь тысяч, Хендерсон пригласил в библиотеку журналистов, чтобы продемонстрировать им находки. Он поведал, что сам вышел на след этих сокровищ. Потом он, должно быть, наслаждался, читая панегирики журналистов, а те восхваляли его на все лады, восхищаясь тем, что юрист нефтяной компании оказался библиофилом и знатоком раритетов.
— Боже, я чуть не подавилась, когда это прочла, — заявила на другой день Рут. — Этот парень возомнил, что он Медичи, ни дать ни взять папа-меценат, Борджиа провинциального канадского разлива. «Библиофил и знаток раритетов»! Ах да, он еще и Пьер Трюдо.
Я лишь чуть улыбнулась, слушая ее. Рут это приметила:
— Как вы себя чувствуете, Джейн?
— Все прекрасно.
— Уверены?
— Разумеется, уверена. С чего бы мне не быть в этом уверенной?
Это прозвучало неубедительно, потому что я почувствовала: Она знает.
— Вам не нужно было приходить сегодня на службу, Джейн.
— Но я хотела прийти. Мне необходимо было прийти на работу.
— Ну и ладно, если так вам лучше.
Какое там лучше! Как мне может быть лучше в первую годовщину смерти моего ребенка?
— Знаете, если вы почувствуете, что вам трудно здесь оставаться, — продолжала Рут, — просто идите домой. Все поймут.
— Вот в этом вы ошибаетесь, Рут. Никто никогда не сможет этого понять. Да я этого ни от кого и не жду. А теперь простите, мне нужно идти работать.
Я заперлась в кабинете и просидела так до конца рабочего дня. Рут была права. Не следовало мне приходить сюда. Я уже давно с ужасом ждала наступления этого дня. Все говорят, что первая годовщина тяжелой утраты особенно мучительна, и не только из-за осознания того, что прошел уже целый год с тех пор, как рухнул твой мир, но и потому, что время — никакой не лекарь. Итак, я заперлась в кабинете и пялилась на экран компьютера, пытаясь сосредоточиться на первом издании «Алой буквы». Мне удалось разыскать торговца в Кейптауне (ближе ничего не нашлось), предлагавшего один экземпляр. Но он запрашивал заоблачную цену — тридцать тысяч долларов. Теперь я пыталась выяснить рыночные цены, чтобы решить, стоит ли тратить столько денег на эту книгу (решила, что не стоит), в глубине души прекрасно понимая, что эти детективные расследования — лишь хитроумная уловка, позволяющая на несколько минут отвлечься от того кошмара, который и теперь, двенадцать месяцев спустя, наполняет собой каждый день и каждый час.
Наконец рабочий день подошел к концу, и в шесть часов я надела пуховик, шапку, шарф, перчатки — все, что необходимо для защиты от мороза в зимнем Калгари, — и, покинув свое убежище, вышла в темноту.
Вечер был морозный — ртутный столбик опустился ниже десяти градусов, с неба сыпал снег. В кинотеатре неподалеку шли два фильма, которые я хотела посмотреть. От библиотеки туда было минут двадцать ходьбы по Восьмой авеню. Я собиралась сначала заглянуть в соседний с кинотеатром бар под названием Escoba,[108] заказать порцию пасты, выпить пару бокалов какого-нибудь красного, согревающего, вина, а потом нырнуть в кинотеатр и убивать вечер, уставившись на экран в темном зале. Но, выйдя из библиотеки, я повела себя довольно странно. Я просто уселась на мостовую прямо у входа — и так сидела, не обращая внимания на холод, снег, прохожих, которые поглядывали на меня, словно я сошла с ума… и они были, очевидно, правы.
Подошел полицейский — средних лет, в теплой меховой шапке с ушами и приколотым к ней значком полиции Калгари:
— С вами все в порядке, мэм?
Я не стала с ним разговаривать, а отвернулась и уставилась на водосточный желоб.
Он присел рядом с мной на корточки:
— Мэм, я задал вам вопрос. С вами все в порядке?
— Со мной уже никогда не будет все в порядке, — услышала я собственный голос.
— Мэм, вы попали в аварию? Вы ранены?
— Так уже было в прошлом году.
— Что было, мэм?
— В тот вечер, когда погибла моя доченька, я сидела вот так же на мостовой.
— Что-то я не пойму…
— Я пришла на то место, где все случилось, и сидела на мостовой… и не могла встать, пока не приехала полиция и меня не…
— Мэм, могу я узнать ваше имя?
Я отвернулась. И почувствовала на плече его руку в перчатке.
— Мэм, у вас есть при себе удостоверение личности?
Я по-прежнему отказывалась посмотреть на него.
— Ладно, мэм. Я звоню в участок, чтобы вас устроили на ночь куда-нибудь в безопасное место.
Но когда он уже достал свою рацию, у меня над головой раздался мужской голос.
— Я ее знаю, — обратился мужчина к полицейскому.
Подняв голову, я увидела Верна Берна. Он тоже опустился перед мной на корточки:
— Что-то случилось, Джейн?
— Год назад…
— Я знаю, знаю, — тихо сказал он.
— Откуда вам известна эта женщина? — спросил коп.
— Мы вместе работаем.
— Она всегда такая?
Верн постучал его по плечу. Они отошли и несколько минут переговаривались тихими голосами. Затем полисмен снова нагнулся ко мне:
— Ваш коллега поручился за вас, он сказал, что вы сейчас встанете и отправитесь домой. Он подтвердил, что то, что вы рассказали про дочь, это правда. Да, это правда тяжело, я искренне сочувствую. Но предупреждаю, если я опять вас найду вот так на улице, то буду вынужден позвонить в психиатрическую больницу Футхилс… хотя, поверьте, никакого удовольствия мне это не доставит.
— Это больше не повторится, — произнес Верн.
— Ладно, — согласился коп, — но вы обещаете, что доставите ее домой?
— Честное слово.
Коп отстал. Верн помог мне подняться и обнял за талию, поддерживая:
— Позвольте мне проводить вас домой.
— Я не хочу домой.
— Нужно идти домой. Вы же слышали, что сказал офицер.
— Я не пойду домой.
Тело мое напряглось. Я уперлась, решив вдруг, что буду стоять на одном месте неподвижно.
— Прошу вас, Джейн, — прошептал Верн. — Если офицер вернется и застанет нас здесь…
— Выпить, — сказала я.
— Что?
— Идемте туда, где можно выпить.
Глава шестая
Верн потащил меня в ближайший бар, расположенный через дорогу по диагонали от Центральной публичной библиотеки. Дул обжигающий, резкий ветер, валил густой снег, так что вокруг ничего не было видно. Верн сжимал мою левую руку отчаянно и сильно, как спасатель, вытягивающий тонущего из воды. Наконец мы ввалились в бар.
— Ни фига себе, — выдохнул, оглядываясь, запыхавшийся Верн. — А здесь шикарно.
Бар — назывался он «Джуллиард» — оказался роскошным, как ресторан. Зал был поделен на отсеки. Верн втолкнул меня в один из них. Подлетела официантка, сияя улыбкой:
— Похоже, молодые люди, вас требуется разморозить! Как будем это делать?
— Что вам угодно? — галантно обратился ко мне Верн.
Я только пожала плечами.