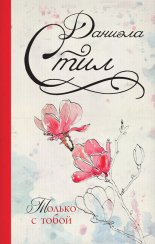Пламя любви Картленд Барбара
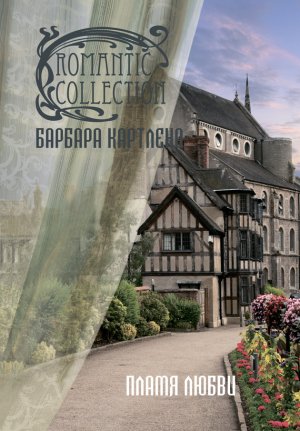
— И не надо спорить, Чар, — продолжала она. — Это ни к чему не приведет. Я приняла решение и его не изменю. Утром ты позвонишь Джарвису Леккеру, попросишь его поужинать с тобой в Лондоне и там ему все объяснишь.
Слова эти звучали вполне однозначно, и Чар бросила на Мону свирепый взгляд.
— Значит, меня ты тоже выставляешь за дверь?
— Не то чтобы выставляю, однако, сама видишь, нам сейчас тяжело так долго принимать гостей. Няня стареет, ей все труднее работать, а каждый новый человек в доме — это много дополнительного труда.
— Ты не имеешь права так со мной поступать! — завопила Чар, вцепившись обеими руками в подлокотники кресла.
— Чар, не будь ребенком! — взмолилась Мона. — Я вернулась домой, чтобы отдохнуть и побыть с матерью. Спасибо, что решила обо мне позаботиться, но, честное слово, мне сейчас не нужны ни кавалеры, ни мужья. Все, что мне нужно, — одиночество и покой.
Чар вдруг вскочила на ноги. Мона увидела, что глаза ее полны слез.
— Я такую уйму времени убила! — проговорила она. — Думала уже, что все на мази, что в кои-то веки мне повезло, — и тут ты все рушишь! Как же так, Мона? Я верила в тебя, верила, что ты принесешь мне удачу!
— Я всегда тебе говорила, что это просто суеверие, — ответила Мона. — Ну же, Чар, приободрись. Может быть, совсем скоро удача тебе улыбнется. Только не от меня: я сама сейчас несчастна и никому другому счастья не принесу.
— С твоим-то лицом, с твоей фигурой — и несчастна! — горько откликнулась Чар. — Откуда тебе знать, что такое настоящее несчастье? Знаешь, что это такое — когда тебе ничто никогда не дается даром? Когда за все, чего хочешь, надо бороться, цепляться, выпытывать, лгать и обманывать? Тебе легко: стоит мило улыбнуться и сказать «пожалуйста» — и любой готов тебе достать луну с неба! А никогда не задумывалась, каково жить женщине с таким лицом, как у меня? Ничего, ничегошеньки в этой распроклятой жизни мне не доставалось, вечно я получала только пинки, толчки и насмешки… А почему? Потому что добрый боженька подарил мне такую рожу! Я никогда не могла, как ты, прямо подойти к человеку и попросить о том, что мне нужно, — мне приходилось на коленях ползать, башмаки лизать и быть довольной, если мне кидали объедки со стола! Но где тебе это понять — ты-то родилась с хорошеньким личиком и с фигуркой, от которой мужчины с ума сходят! Говорят, жизнь справедлива — только не для меня! Мне-то не надо заливать о справедливости!
Она дрожала, как в лихорадке. Мона обняла ее за плечи и усадила в кресло.
— Не надо, Чар, — проговорила она. — Не расстраивай себя понапрасну. Подожди, я схожу принесу тебе что-нибудь выпить.
Тихо отворив дверь, она спустилась в столовую. Здесь нашла виски и сифон с содовой и, взяв их под мышку, поспешила наверх.
Ей и раньше случалось видеть Чар в таком настроении: как правило, жалеть себя она принималась, перебрав виски или джина. Единственное лекарство заключалось в новой дозе выпивки — иначе Чар жаловалась на свои беды, пока слушатели не разбегались.
Однако слезы ее были искренними, и, несмотря на усталость и отвращение к этой женщине, Мона чувствовала к ней сострадание. Хоть бы одно что-нибудь, думала она устало; но как можно быть отвратительной и жалкой одновременно?
Так всегда получалось с Чар: к ней трудно было отнестись однозначно. Она вызывала неприязнь, но рядом уживались и жалость, и даже какое-то понимание.
— А вот и я! — бодро проговорила Мона, возвращаясь в спальню. — Выпей, и тебе сразу станет лучше.
Чар сидела на краешке кресла, упершись локтями в колени и положив подбородок на руки.
«Точь-в-точь больная обезьяна», — подумала Мона и припомнила, как однажды ей уже приходила та же мысль.
Ей живо вспомнилось то плавание по Нилу — то болото тоски и унижения, в которое затянула ее Чар. Нет, с этой женщиной невозможно иметь дело! Она словно распространяет вокруг себя заразу, с ней опасно даже дышать одним воздухом.
Мона протянула Чар стакан и проговорила ласково:
— Ты же сама говорила, что терпеть не можешь деревню. В Лондоне тебе сразу станет легче. Поезжай домой, а в конце недели я постараюсь выбраться в город и с тобой пообедать.
Она от души надеялась, что Чар проглотит эту кость и оставит ее в покое. Чар медленно поднесла стакан к губам.
— Если я уеду, — проговорила она, — то тебе придется мне помочь. Из-за тебя я потеряла Джарвиса Леккера — придется тебе это загладить.
— Что значит «загладить»?
В глазах Чар больше не было слез, и голос звучал как-то особенно резко и скрипуче. Выпрямившись в кресле, она пронзительно взглянула на Мону.
— Что, вправду не понимаешь, о чем я?
— Извини, — ответила Мона. — Может быть, я дура, но в самом деле не понимаю, что ты хочешь сказать.
Чар зло рассмеялась.
— Ну конечно! «Мисс воплощенная невинность» — твоя любимая роль! — ядовито проскрипела она. — Но я прекрасно помню, как в Каире ты уходила от ответа всякий раз, когда у тебя спрашивали, зачем ты приехала и когда уезжаешь. Ты очень умело это проделывала!
Жуткое ощущение надвигающейся катастрофы охватило Мону. Она еще не понимала, куда клонит Чар, но ясно видела: та готовит что-то страшное.
— Я по-прежнему тебя не понимаю.
— Что ж, тогда скажу прямо, — ответила Чар. — Говоря попросту, если бы мне удалось выдать тебя за Джарвиса, он отвалил бы мне кучу денег. Он был бы мне благодарен, а у таких людей — я-то их хорошо знаю — благодарность всегда выражается в денежных знаках. Дайте ему то, чего он хочет, — и не будете больше знать нужды, подведете его — и можете умереть у него на пороге, он на вас больше и не взглянет! Теперь я его подвела — точнее, это ты, Мона, подвела меня!
— Не многовато ли ты от меня требуешь? — пробормотала Мона. Несмотря на всю серьезность ситуации, от такой наглости она невольно улыбнулась.
— Я еще не кончила! — рявкнула Чар. — Мне надо на что-то жить. На Джарвиса Леккера теперь можно не рассчитывать. Что ж, он свое дело сделал — по крайней мере, эти три месяца я прожила безбедно.
— А теперь хочешь, чтобы тебе помогла я?
— Ну наконец-то дошло!
Мона поморщилась.
— Но, Чар, я не могу дать много. Откровенно говоря, собственных денег у меня практически нет. Я надеюсь найти себе какую-нибудь работу, а пока живу за счет матери…
— Повезло тебе — есть мать, готовая тебя кормить!
— Я знаю.
— И твоя матушка тебя просто обожает, верно? Восхищается, считает тебя совершенством во всем…
Мона быстро взглянула на свою собеседницу. Кажется, она начинала понимать, к чему клонит Чар.
— Жаль будет, — протянула Чар, и голос ее стал опасно-вкрадчивым, словно шуршание змеи в траве, — очень, очень будет жаль, если ее любовь, ее вера в тебя обернутся… ужасом и омерзением.
— О чем ты говоришь?!
Чар вытащила изо рта сигаретный мундштук и стряхнула пепел.
— Мне нужно не меньше тысячи фунтов.
Мона застыла словно парализованная.
— Это невозможно, — проговорила она несколько секунд спустя.
Чар подняла брови:
— Драгоценности сейчас в цене. Повезло тебе — твой кузен Лайонел отлично умел выбирать изумруды и бриллианты!
Мона сжала кулаки, борясь с желанием ударить Чар.
Эта женщина осмелилась поганить своим грязным ртом подарки Лайонела! Подарки, драгоценные не своей стоимостью, а теми воспоминаниями, с которыми они были связаны. Минуты счастья, запечатленные в драгоценных камнях и сохраненные для вечности, в устах Чар превратились во что-то мерзкое, вроде оплаты содержанке.
И как унизительно, как невыносимо думать о том, чтобы продать эти подарки и заплатить Чар за молчание! Невыносима сама мысль о том, чтобы воплощение ее любви — бескорыстной, самоотверженной, любви наперекор житейской мудрости и всем житейским расчетам — переплавить в звонкую монету.
— Шантаж? Грязное слово, Чар.
— Совершенно с тобой согласна, — благодушно отозвалась Чар. — Поэтому никогда его и не использую. Для меня это просто бизнес.
Наступило долгое молчание.
— Допустим… — заговорила наконец Мона, — допустим… я дам тебе деньги. Где гарантия, что в будущем ты не явишься снова и не потребуешь еще?
— Придется тебе поверить моему честному слову, — с усмешкой гаргульи объявила Чар.
«Я в ловушке! — в отчаянии думала Мона. — Чар загнала меня в капкан — и знает это».
Она отчаянно пыталась найти хоть какой-то выход, но выхода не было. Впереди простиралось беспросветное будущее, полное страха и отчаяния, — будущее, в котором она станет марионеткой в руках чудовища в женском облике, жалкого и страшного одновременно. Вот оно сидит у нее в спальне, скорчившись словно больная обезьяна; рот искривился в триумфальной усмешке, глаза горят огнем алчности и злобного торжества.
Глава пятнадцатая
Вдруг дверь отворилась, и обе женщины привстали в испуге. В комнату вошла миссис Вейл.
— Что-то случилось, милая? — спросила она. — Я слышала, как кто-то спускался вниз.
— Ничего, мамочка, все в порядке, — быстро ответила Мона. — Просто Чар захотела выпить, а я ей принесла.
Миссис Вейл взглянула на Чар, затем снова перевела взгляд на дочь.
— Понятно. А я что-то вдруг забеспокоилась — как глупо с моей стороны!
— Извини, что мы тебя разбудили.
— А я и не спала, — ответила ей мать. — Кашель не дает мне заснуть. Ну как, повеселились? Не ожидала вас так рано.
— Да, Майкл устроил грандиозный праздник, — ответила Мона, — но, мамочка, я тебе все расскажу утром. А теперь ложись скорее. У нас очень холодно, я не хочу, чтобы ты слегла.
И, приобняв мать за плечи, Мона почти вытолкала ее из комнаты. Чар молчала; все это время она сидела на своем месте у камина, неотрывно глядя в огонь.
Мона задумалась о том, успела ли мать расслышать что-то из их спора, ведь говорили они на повышенных тонах и голоса, должно быть, разносились по всему холлу. Однако спрашивать об этом, конечно, не стала. Она уложила миссис Вейл в постель и укрыла одеялом.
— Может быть, хочешь горячего молока? — спросила она. — Я схожу вниз и принесу.
— Ничего не хочу, спасибо, милая, — ответила мать.
Но Мона чувствовала, что мать смотрит на нее с любопытством.
— А теперь — спать! — скомандовала она и, наклонившись, поцеловала миссис Вейл в морщинистую щеку.
В просторной двуспальной кровати ее мать выглядела совсем маленькой и хрупкой; волосы ее были почти так же белы, как подушка под головой.
«Все, что угодно, — отчаянно думала Мона, — все, что угодно, лишь бы не разбить ей сердце!»
Она вдруг осознала, что мать осталась единственным человеком на свете, кого она по-настоящему любит и кто по-настоящему любит ее. Странно подумать, но всех мужчин, когда-то столь много для нее значивших, больше нет.
Многие любили ее, но лишь одна любовь прошла сквозь годы, все такая же чистая и беззаветная: любовь матери.
— Спокойной ночи, мама, — попрощалась она с порога, — и благослови тебя Бог.
Сама она не знала, почему ей пришли на ум такие слова, но произнесла их с искренним чувством. Всем сердцем и душой Мона желала, чтобы Бог благословил ее мать, столько лет хранившую нерушимую любовь и верность дочери.
Вернувшись к себе, она обнаружила, что Чар все сидит у камина, а перед ней стоит новый стакан виски с содовой. Недолго думая, Мона взяла бутылку и сифон и выставила их за дверь.
— Сейчас, ночью, мы ничего не решим, — сказала она, — а кроме того, наши разговоры беспокоят маму. Свое решение я сообщу тебе утром.
— Ладно. — Чар встала на ноги. Направилась было к двери, но у порога остановилась. — Послушай, Мона, я не хочу терять твою дружбу…
Мона горько рассмеялась:
— У нас с тобой разные представления о дружбе, Чар.
Чар обиженно надула губы — это ее выражение Моне было хорошо знакомо.
— Ты забываешь, что мне надо на что-то жить! Мне очень жаль, что до такого дошло. Конечно, я предпочла бы получить деньги от Джарвиса Леккера.
Не будь все так серьезно, Мона бы расхохоталась. Конечно, для Чар все это «просто бизнес»: деньги деньгами, дружба дружбой, и она не понимает, почему одно должно мешать другому.
Странное сочетание коварства и простодушия в этой женщине не переставало поражать Мону. Вот и сейчас, глядя на ее нелепую фигуру, она почувствовала укол жалости. Но лишь на мгновение.
— Спокойной ночи, — резко сказала она.
Беспомощно махнув рукой, словно жалуясь на свою вековечную злую судьбу, Чар исчезла за дверью.
Когда она ушла, Мона заперла дверь, бросилась на кровать лицом вниз и лежала так очень долго.
Догорел и погас камин; в комнате становилось все холоднее. С усилием Мона встала, сняла халат и забралась под одеяло.
Однако о сне и речи не было. Она лежала, глядя в темноту; в уме ее снова и снова прокручивались сцены сегодняшнего вечера. Вот объяснение с Джарвисом Леккером; вот Майкл везет ее домой; а вот и последнее — разговор с Чар.
История подошла к развязке — за неделю Чар удалось опутать ее своей паутиной, и теперь она в ловушке. Бежать некуда.
— И разумеется, это только начало! — пробормотала она.
Мона понимала: тысяча фунтов мгновенно утекут у Чар сквозь пальцы. Получив деньги, она тут же отправится за карточный стол. В Лондоне немало злачных мест, готовых открыть ей двери; Чар начнет играть в своей обычной манере — безрассудно, повышая ставки, пытаясь сорвать крупный куш, — и очень скоро потеряет все. А затем явится за следующей порцией.
На какое-то время Мону могут спасти драгоценности. Подарки Лайонела, выбранные им с такой заботой и любовью, — каждый совершенен, каждый драгоценен, ибо в нем запечатлен какой-то из счастливых моментов их тайной общей жизни… Но и им скоро настанет конец.
Уйдут изумруды, уйдут и бриллианты. Что останется? Несколько вещиц попроще: цирконовый браслет, что он подарил ей в Вене, сказав, что камни цвета морской волны удивительно подходят к ее глазам… рубиновые серьги и такое же колечко — дар после чудесной недели, проведенной вместе в Александрии… жемчужное ожерелье, которое она носит не снимая, — его последний подарок, полученный всего за две недели до смерти.
Все это уйдет. Потом можно продать меха. А после них… что тогда?
Рано или поздно ее средства иссякнут — решится ли тогда Чар исполнить свою угрозу? Или удовлетворится тем, что получила от своей жертвы?
Но нет, невозможно себе представить, чтобы Чар чем-то удовлетворилась. Услышав, что у Моны кончились деньги, она попытается использовать ее как-то иначе. Например, подыщет ей нового Джарвиса Леккера…
Мона вздрогнула.
Все это похоже на какой-то кошмар. Нигде, никогда ей теперь не скрыться от жадных щупалец Чар!
«Что же мне делать? — мысленно восклицала она. — Что же делать?»
Она села в кровати и закрыла лицо руками. Где-то вдалеке церковные часы пробили четыре. Совсем скоро — так показалось ей — бой часов повторился. Но ее разум не находил решения.
Текли ночные часы, а воображение Моны лишь запугивало ее все новыми и новыми ужасами вместо того, чтобы искать выход.
«Будь я посмелее, — думала Мона, — я бы просто велела Чар убираться ко всем чертям — и будь что будет!»
Но знала: никогда она не осмелится рискнуть счастьем своей матери.
А счастье миссис Вейл полностью зависит от веры в свою дочь и гордости за нее. Мона не вправе отнимать у нее эту единственную отраду — мать ее и без того слишком много страдала.
Муж ее — отец Моны — умер от рака. Умирал он долго и мучительно; врачи ничего не могли сделать, ибо опухоль обнаружили слишком поздно, когда операция была уже невозможна.
А до того, когда Моне было всего шесть лет, семью постигло еще одно несчастье. Брат ее родился мертвым; миссис Вейл долго пробыла между жизнью и смертью, а когда оправилась, врачи сказали, что детей у нее больше не будет.
С тех пор вся ее радость, весь интерес в жизни сосредоточился в единственном ребенке; а когда умер муж, она привязалась к Моне еще сильнее.
Мона никогда не забудет, с каким мужеством переносила мама все испытания в последние месяцы жизни отца.
А потом, когда он упокоился в семейном склепе Вейлов, мать не пролила ни слезинки; но на лице ее читалось такое безмерное страдание, что страшно было на нее смотреть.
Когда они ехали домой с кладбища, мать взяла маленькую Мону за руку.
— Милая моя, — проговорила она, — вот и остались мы с тобой вдвоем на всем белом свете. Только вдвоем… — И по застывшему лицу ее наконец покатились слезы безутешного горя.
«Она так верила в меня, а я предала ее веру! — думала Мона. — Господи, пожалуйста, пусть она никогда об этом не узнает!»
Жизнь матери всегда казалась ей кристально чистой и ясной. Миссис Вейл никогда не отступала от строгих принципов, ею самой для себя установленных; все, что считала своим долгом, она исполняла безукоризненно и с такой добротой и любовью к людям, что даже самые неприятные задачи в ее руках обращались в радость и удовольствие.
Иной раз казалось, что мать Моны возложила на себя монашеский обет — так самоотверженно и неустанно она приносила свою жизнь в жертву всем, кому нужна была ее помощь.
Если заболевала какая-нибудь женщина в деревне, миссис Вейл приходила к больной и всю ночь дежурила у ее постели. Случались ли у кого-то неприятности с детьми, с деньгами, с пенсией, с чем-нибудь еще — миссис Вейл бросалась на помощь.
В ее благотворительной работе не было ничего помпезного, ничего напоказ; о ней мало кто знал, но Мона догадывалась, что мама не только помогает людям в беде, но и утешает их в горе и успокаивает в тревогах не хуже священника.
Она жила тихой, спокойной деревенской жизнью: возделывала свой сад, следила за домом, обменивалась визитами с соседями и никогда не вмешивалась в чужую жизнь, если только люди сами об этом не просили.
Друзей у нее было множество, однако в глубине души она была одинока.
Она никогда об этом не говорила, но Мона без слов понимала, как мать тоскует по отцу. Семейная жизнь их была тихой, неяркой, без приключений и страстей, но они любили друг друга так, как только могут любить супруги.
Но муж безвременно ее оставил, и вся жизнь миссис Вейл сосредоточилась в том единственном, что осталось от ее семьи, в ее собственной плоти и крови: дочери.
«А я предала ее! — снова и снова повторяла себе Мона. — Ужасно, непростительно предала!»
Как же, должно быть, пуста и уныла была жизнь ее матери все эти годы, пока Мона скиталась за границей, слишком занятая своими делами, чтобы заехать домой хотя бы на несколько недель!
Писала она редко и немного, словно совсем не думая о том, как, должно быть, нелегко было матери объяснять знакомым ее продолжительное отсутствие.
«Она горда — она никогда не позволила бы себе в чем-то меня заподозрить», — думала Мона.
Но понимала: речь не только и не столько о гордости, сколько о любви, безусловном доверии, о вере в свою дочь — вере, которую нельзя разрушать, за которую не жаль отдать любую цену!
И все-таки что же ей делать?
Снова и снова Мона перебирала все возможности, но не видела пути к избавлению. Она в ловушке, и что хуже всего — в ловушке, куда загнала себя сама.
«Я получаю то, что заслужила, — говорила она себе. — Но почему из-за того, что я преступила заповеди, в которых была воспитана, должна страдать моя мать?»
Часы за окном пробили семь, и Мона встала с постели. Надела плотную твидовую юбку и толстый кардиган, сверху накинула бобровую шубу, голову повязала платком на цыганский манер, осторожно отперла дверь и на цыпочках спустилась вниз.
Няня уже возилась на кухне, но в остальном дом молчал. Мона отперла входную дверь и тихо выскользнула наружу.
Близился рассвет. Белая изморозь ложилась под ноги, и в кружеве голых древесных ветвей на фоне бледно-розовеющего неба чернели прошлогодние грачиные гнезда.
Мона перелезла через садовую ограду и пошла прочь от дома, через поля. Ей нужно было скрыться и побыть наедине с собой, подальше от Чар и ее угроз.
Под ногами хрустела мерзлая земля, ломались травинки. Стоял холод, но ветер стих, и весь мир как будто застыл в ожидании наступающего дня.
Мона дошла до своего любимого местечка на берегу озера, там, где земли Аббатства граничили с Парком. Оперлась о стену и задумалась, глядя на озеро. И вдруг… где-то совсем рядом торжествующе зазвенела первая песня птиц, вестниц утра!
Птичье пение как будто пробудило что-то, дремавшее в ней; утомление, отчаяние прошедшей ночи поблекло и отступило — нечто иное, живое и бодрое, поднялось в ее душе, властно рванулось вперед и вверх, навстречу восходящему солнцу.
«Возвращение к жизни», — подумала Мона.
Она чувствовала: так и есть. Энергия нового дня струится сквозь нее, она вновь стала единым целым с бесконечной Вселенной, со всей ее первозданной свежестью и силой.
В миг, когда золотое солнце поднялось над горизонтом, Мону охватило странное чувство. Каким-то внутренним зрением она словно видела целиком весь огромный, необозримый мир и в нем — потоки Жизненной Силы, проницающей все и вся: людей и зверей, одушевленное и неодушевленное, видимое и невидимое.
Видение это, величественное и неописуемое, тут же исчезло, но оставило по себе трепет, восторг и чувство новой, неисчерпаемой силы. Оно придало Моне мужества.
«Я буду бороться! — говорила она себе. — Я не позволю прошлому меня поглотить! Должен быть какой-то путь к искуплению — и я его найду!»
Незаметно для нее самой мысли ее превратились в молитву — молитву о помощи и защите для матери.
Она обращалась к Богу с такой простотой и уверенностью, каких не знала уже очень давно, может быть, с детства, когда перед сном поверяла Ему свои простые желания, не сомневаясь, что Он поймет и рано или поздно исполнит ее просьбу.
Долго ли простояла она у стены, закрыв глаза и сложив руки на груди, Мона не знала; но, открыв глаза, увидела, что к ней шагает через поле военный в длинной шинели и с винтовкой на плече.
«Кто бы это мог быть?» — рассеянно подумала она. Военный подошел ближе, и Мона его узнала: конечно же это Майкл в форме дружинника.
Подойдя к ней, он отдал честь, и Мона улыбнулась.
— Майкл! Не ожидала тебя здесь встретить.
— Иду с ночного дежурства. Этим путем быстрее всего с холма до моего дома.
И он указал на высокий холм, нависающий над долиной вдалеке.
— Похоже, спать тебе сегодня ночью не пришлось.
— Тебе, кажется, тоже.
Мона отвернулась:
— Ты прав, я сегодня плохо спала.
— Почему? — серьезно спросил он, но Мона постаралась, чтобы ответ прозвучал шутливо:
— Совесть нечиста — почему же еще?
Майкл не ответил. Снял с плеча винтовку и прислонил к стене, достал пачку сигарет, жестом предложил одну Моне. Та покачала головой:
— Еще слишком рано.
Он не стал закуривать — убрал сигареты в карман и несколько секунд спустя, словно решившись, задал вопрос:
— Тебя тревожит этот человек?
Сперва Мона не поняла, о чем он.
— Какой человек? — Мысли ее были так заняты Чар, что о Джарвисе Леккере она совсем забыла. Но тут же сообразила, о ком речь. — Нет-нет, — торопливо ответила она, — все в порядке. Просто не хочу больше его видеть — только и всего.
— Хорошо, — ответил Майкл, и в тоне его она почувствовала явное облегчение.
— Я очень рада, — неуверенно проговорила Мона, — что ты не подумал обо мне… ну… то, что мог подумать вчера вечером.
— Тогда я очень разозлился, — признался Майкл, — но сразу сообразил: кто-кто, а ты не из тех женщин, что станут поощрять такого наглеца!
В голосе его прозвучала такая ярость, что Мона удивленно взглянула на него.
— Спасибо, Майкл. Кажется, впервые ты говоришь обо мне нечто такое, что очень приятно слышать.
Он прислонился к стене.
— Ты, наверное, поняла, почему меня это так разозлило?
Она колебалась, и, не дождавшись ответа, он продолжал:
— Видишь ли, я ведь люблю тебя. И всегда любил.
— Майкл!
В возгласе ее прозвучало такое изумление, какое невозможно подделать.
— Я любил тебя всю жизнь, — спокойно и просто продолжал Майкл. — Ждал много лет и готов был ждать еще столько, сколько понадобится, чтобы попросить тебя выйти за меня замуж. Но вчера, когда увидел, как этот тип тебя домогается, меня это просто взбесило. И я подумал: может, хватит ждать? Того гляди, кто-нибудь меня опередит!
— О, Майкл… — беспомощно простонала Мона. — Я… я… не знаю, что сказать.
— А тебе и не нужно ничего говорить. Просто хочу, чтобы ты знала: я тебя люблю. Если когда-нибудь я тебе понадоблюсь — я всегда здесь.
От этих слов, а еще больше от той простоты и спокойствия, с каким они прозвучали, у Моны перехватило горло, задрожали губы, и слезы опасно подступили к глазам. Она попыталась рассмеяться, но из груди вырвался странный звук, больше похожий на сдавленное рыдание.
— Майкл, дорогой! Двадцать пять лет мы знаем друг друга, и ты нашел, где сделать мне предложение: на капустном поле!
— Разве так важно где? — спросил он.
И снова она не знала, что ответить, — лишь отвела взгляд и уставилась на озеро, борясь со слезами. Наступило молчание; но она знала, что Майкл ждет ответа.
— Майкл, я не смогу стать тебе хорошей женой, — проговорила она наконец дрогнувшим голосом.
— Об этом уж мне судить. А тебе решать, будешь ли ты со мной счастлива.
— Не знаю. Мне кажется, я утратила способность быть счастливой. Может быть, навсегда.
Майкл взял ее за плечи и осторожно развернул лицом к себе. Он стоял так, глядя на нее, на лице его в ласковом свете зари читались сила, целеустремленность и вместе с тем поразительная нежность.
— Что-то случилось? — спросил он. — У тебя какое-то несчастье? Что бы это ни было, расскажи мне.
Он коснулся больного места; Мона вздрогнула и попыталась высвободиться.
— Нет, ничего, — быстро ответила она. — Ты все равно не сможешь мне помочь.
— Почему? — Она не отвечала, и он спросил: — Мона, ты боишься меня?
— Немного.
— Почему?
— Ты мне кажешься почти сверхчеловеком. У всех у нас есть свои слабости, ошибки, но ты, Майкл, — тебе все это как будто незнакомо. Я не смогу соответствовать твоим стандартам.
— Глупенькая! Зачем тебе чему-то соответствовать? Неужели не понимаешь, как ты хороша такая, какая есть?
Он отпустил ее плечи, но в следующую секунду заключил ее в объятия и, чуть помедлив, склонил голову и прижался губами к ее губам.
На этот раз его поцелуй не был ни требовательным, ни грубым. Он целовал ее нежно, легко, как ребенка, и все же от этого ласкового прикосновения слезы защипали ей глаза и двумя ручейками побежали по щекам.