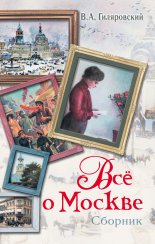Счастливая девочка растет Шнирман Нина

Око за око
Воскресенье, мы обедаем — я так люблю, когда мы все вшестером за столом — Мамочка, Бабуся, Папа, Ёлка, Анночка и я. Сидим и разговариваем. А Мишенька — ему пять месяцев — спит в коляске в столовой, с нами, за буфетом между роялем и родительской кроватью — мы это место называем спальней.
Война закончилась две недели назад, и у меня сейчас совсем другие мысли: завтра Папа уезжает в Германию демонтировать там какие-то заводы и ещё что-то. Он объяснил нам, что такое демонтировать. Я тогда спрашиваю:
— А зачем у них всё это забирать? Почему?
Мамочка говорит, что раз они на нас напали, столько городов разбомбили, разрушили, столько заводов и фабрик уничтожили — значит, сейчас, после нашей победы, мы имеем право у них что-то отобрать — всё равно это не заменит «наших потерь»!
— Вот именно, не заменит! — говорит Ёлка и делает кривую голову.
Бабушка вдруг говорит громко и грозно:
— Око за око, зуб за зуб! — И как стукнет кулаком по столу.
Мы с Анночкой немножко испугались, потому что Бабушка так никогда не делает.
— Мама! — говорит наша Мама немножко строго. — Ты Мишеньку разбудишь и напугаешь!
— Да! Око за око и зуб за зуб! — повторяет Бабушка тихо, но грозно.
Мне так в груди стало неприятно и даже холодно. Я не понимаю: Бабушка такая добрая… Даже зуб, по-моему, у человека отнять нельзя, а уж глаз вынуть — просто ужас какой-то!
— Ну Бабушка, — говорю, — как же можно у человека глаз вынимать?!
— А ты что хочешь? — спрашивает меня Бабушка, и совсем недобро спрашивает. — Тебя по одной щеке ударят, а ты другую подставишь?
Ёлка хмурится и опускает голову — она всегда так думает.
Я рассердилась — не нравится мне этот разговор — и говорю:
— Не подставлю! Но я, Бабушка, око у человека вынимать не буду! И зуб не буду!
— А тебе, Мартышка, — Папа говорит неожиданно весело, — недавно зуб вынули и отобрали.
— Не отобрали! — сержусь я. — Мне его выдрали, потому что он молочный и качался. Мама меня послала в поликлинику — мне его щипцами… раз… положили на ладошку, и доктор сказал: «Маме отнеси!» Я отнесла!
— Нинуша! — смеётся Мамочка. — Это же всё в переносном смысле — всё, что Бабушка говорит, всё это не имеет прямого смысла.
Я знаю, что такое «в переносном смысле», но всё равно у меня какая-то получилась картинка в голове, и она не уходит — это про «око за око», — и мурашки по спине. Анка сидит и глазами моргает, Ёлка хмурится.
Бабушка вдруг встаёт с кресла, делает так сильно рукой по воздуху, как будто она хочет его замесить, и говорит опять тихо, но грозно:
— Терпеть я не могу всю эту толстовщину! — И уходит из комнаты.
— Это ваш Дедушка был толстовцем! — смеётся Мама.
— Но ведь Бабушка Дедушку любила, тогда почему?.. — удивляюсь я.
— Любила, — кивает головой Мамочка, смотрит в окно и говорит как будто никому: — Стоял у нас на рояле… нет, рояля тогда ещё не было… стоял у нас на пианино маленький бюст Толстого — вы знаете, что такое бюст? — Это она у меня и Анночки спрашивает.
— Ну Мама! — Я даже удивилась, ведь мы уже большие — мне восемь, Анночке шесть.
— Конечно знаете! — Она кивает головой и продолжает: — И вот стоял он, стоял и вдруг… раз — упал и разбился!
— Ой! — сказала Анночка.
— Кто-то пыль вытирал и случайно его столкнул, — говорю, — потому что пыль бывает очень неудобная — когда много всего стоит, а вытирать надо.
— Да-а, — улыбается Мама, — пыль надо вытирать, — смеётся и продолжает: — Папа мой, ваш Дедушка, купил новый бюстик, поставил на то же место… и через месяц он тоже разбился!
— Вот и понятно! — Я радуюсь, что догадалась. — Наверное, место у него было неудобное.
— Очень неудобное — три бюста разбилось! — Мама смеётся, смеётся, потом машет рукой, как будто сама себе машет, и говорит: — Все могут выйти из-за стола, а я пойду Мишеньку кормить. — И уходит за буфет.
Ёлка вдруг странно улыбается — она иногда улыбается совсем непонятной улыбкой.
Анночка встаёт и спрашивает меня:
— Мы будем в «эвакуацию» играть?
— Будем-будем! — говорю. — Иди, сейчас приду.
Она кивает головой и уходит в детскую.
Папа встаёт из-за стола и садится за свой письменный стол. Он вынимает из ящика какие-то «инструменты», раскладывает их, поднимает голову и улыбается мне. Я очень люблю смотреть на Папины глаза — они такие добрые, красивые, и ещё кажется, что там, внутри, за ними есть какая-то удивительная жизнь.
— Пап, — спрашиваю, — ты в Германии долго будешь?
— Недолго, — говорит Папа, — не больше месяца.
Ну, думаю, ничего себе — недолго! Месяц — это очень долго! Это ужасно долго! А я очень люблю с Папой разговаривать!
Я улыбаюсь Папе и иду в детскую — будем с Анкой в «эвакуацию» играть. А Ёлка никуда не идёт и всё улыбается непонятной улыбкой. Из коридора вижу Бабушку на кухне — стоит неподвижно, наверное, задумалась.
И я вспоминаю: пыль-то я совсем неправильно вытираю! Столько красивых вещей — я их люблю, а ведь могу случайно и столкнуть! Надо сначала всё снять, пыль вытереть, потом всё на место поставить. Да!
Но это всё-таки лень!
Надо подумать!
Дворец
Мы с Бабушкой на трамвае приехали в Останкинский дворец, а он закрыт — входная дверь заперта! Рядом с дверью стоит маленькая худенькая пожилая женщина и говорит:
— Для посетителей и экскурсий дворец закрыт.
Я не понимаю, как дворец может быть закрыт — он должен быть всегда открыт, там ведь никто сейчас не живёт, а всем хочется посмотреть, по-моему, это какая-то глупость.
Ёлка ворчит:
— Я говорила, я говорила! — И отходит от двери.
Мы с Анкой идём за ней, я расстраиваюсь и сержусь, потому что очень не люблю, когда хочу что-то сделать, а мне мешают, и даже не просто мешают, а не дают это сделать.
— Давайте посмотрим его снаружи! — говорю, потому что я никогда не видела дворец — только на картинках.
Немножко отходим от него и разглядываем — мне кажется, что на картинках в книжках дворцы как-то… волшебнее и роскошнее, а это просто красивое здание. Оно очень красивое, но не очень-то дворцовое.
— Дети, идите сюда! — зовёт нас Бабушка. — Сейчас для вас откроют дворец! — И у неё очень торжественный голос.
Прибегаем к входу, маленькая женщина вынимает из кармана ключ, отпирает дверь, распахивает и говорит тоже торжественно:
— Проходите, пожалуйста!
Мы кричим:
— Спасибо! — И заходим внутрь.
Ой! Ой! Мы все просто остолбенели от восторга — там так красиво, такой простор, такая высота… а пол, он совершенно удивительно красивый!
— Какая прекрасная зала! — говорит Бабушка.
Мы с Ёлкой вздрагиваем, таращимся друг на друга, потом, не сговариваясь, хватаем Анку, бежим к стене, делаем вид, что разглядываем её, и хохочем.
— Почему зала?! — хохочу я и остановиться не могу.
— Да откуда я знаю? — хохочет Ёлка.
Анка вдруг перестаёт хохотать и говорит:
— Какой красивый дворец!
И мы начинаем ходить по залу и всё разглядывать — так всё красиво и необыкновенно, это действительно настоящий прекрасный дворец! Подходим к Бабушке с пожилой женщиной, Эллочка спрашивает:
— А для чего этот зал?
— Для приёмов, танцев и театральных представлений! — гордо говорит пожилая женщина.
— Для танцев, — повторяет Ёлка задумчиво… И вдруг отбегает от нас, выпрямляется, разводит руки в стороны, как будто собирается улететь, и начинает кружиться, но она не просто кружится — я чётко чувствую ритм, который в ней звучит, и вижу по движениям: она танцует вальс.
Мы недавно по книжке все втроём — Ёлка была главной — научились танцевать вальс. Мамочка посмотрела и доучила то, что м делали плохо. А потом сказала:
— Девочки, в вальсе особенно важна прямая спина, радость внутри вас и чувство, что с каждым витком вы взлетаете всё выше и выше!
Я хватаю Анночку — когда мы с ней танцуем, я танцую за мужчину — и говорю:
– «На сопках Маньчжурии»!
И мы поём и танцуем вальс под собственное пение. И с каждым витком мне кажется, что мы становимся легче и легче и вот-вот взлетим.
Мы опять ходим и всё разглядываем, очень долго разглядываем удивительный пол. Вдруг Ёлка меня спрашивает:
— А ты бы могла здесь жить?
Какой странный вопрос! Я думаю, думаю и говорю:
— Могла бы!
— А я бы не могла, — говорит Ёлка, — здесь такое огромное пространство, такой высокий потолок, ужасно неуютно — я бы не смогла здесь жить!
— Огромное пространство — разве плохо? — удивляюсь я.
— А помните, — говорит Анночка, — Мама рассказывала, что у неё в детской была ширма с очень красивыми китайскими рисунками? — И она ведёт нас в правый угол зала. — Вот здесь, — говорит, — можно поставить две большие ширмы — и получится наша детская.
Ёлка хмыкает, пожимает плечами и спрашивает:
— А куда ты денешь этот высоченный потолок?
— Я никуда его не буду девать, пусть остаётся, — отвечает Анночка.
Я поражаюсь: какая она иногда бывает умная, ведь ей всего шесть лет! Мы-то с Ёлкой взрослые — мне восемь, Ёлке одиннадцать.
К нам подходят Бабушка с пожилой женщиной.
— А здесь ещё есть другие комнаты? — спрашивает Анночка у женщины.
— Да! — радуется женщина. — Здесь ещё много комнат: столовые, гостиные, спальни, но они пока все заперты — даже я не могу их отпереть.
Я думаю: а где сейчас те люди, которые здесь жили, ели, спали?
— Дети, нам пора уходить! — говорит Бабушка. — Вам понравился дворец?
— Очень! — не сговариваясь, говорим мы хором пожилой женщине. — Большое спасибо!
Женщина улыбается и говорит:
— Для вас и ваших внучек дворец всегда открыт!
И мне кажется, что она уже не такая пожилая и не такая худенькая.
Мы едем домой на трамвае, я сижу с Ёлкой. Ёлка молчит-молчит, а потом вдруг говорит:
— Конечно, у нас маленькая квартира, но она очень-очень уютная!
— Что-о? — Я даже подскочила на сиденье. — У нас «маленькая квартира»?!
— А ты что считаешь? — Ёлка делает кривую голову и тонкие глаза. — Тридцать шесть квадратных метров жилой площади — это много? Ведь нас семь человек!
— Ничего не знаю про… квадратные метры, — говорю, — но у нас очень много замечательных и красивых вещей и везде можно пройти!
— А как ты пройдёшь в столовой к окну, если кто-то на рояле играет? — спрашивает Ёлка очень ехидно.
Я расстраиваюсь и сержусь — не знаю, что сказать, как ответить, потому что там действительно не пройти к окну, если кто-то играет на рояле.
— Ну ведь не обязательно к окну идти, если кто-то играет на рояле! — говорю.
— Нинуша! — Ёлка так бывает похожа на Маму, когда говорит «Нинуша». — Мы называем эту комнату столовой, а там на самом деле на двадцати квадратных метрах три комнаты — столовая, папин кабинет и родительская спальня. Да ещё рояль! Мама мне сказала, что только такой замечательный конструктор, как Папа, мог втиснуть в эту комнату столько вещей.
Я чего-то не понимаю, не знаю, что сказать, и поэтому молчу. Ёлка тоже молчит и смотрит в окно. А я думаю: сейчас приедем домой и я всё у Мамы расспрошу, как это Папа взял всё и втиснул в одну комнату, если Ёлка говорит, что это три комнаты?
Думаю о дворце: это так замечательно, что мы сможем туда ходить!
И ещё я думаю о Ёлкином странном вопросе — могла бы я там жить или нет? Я очень люблю нашу квартиру — она большая и замечательная, я бы хотела жить в ней! А дворец можно было бы оставить, как свою дачу… ну так… понарошку.
Когда Папа был маленький, у них была своя дача в Мустомяках.
Но потом она почему-то сгорела!
Папа приехал из Германии
Входит Мама и говорит торжественно: «Сюрприз!» И мы бежим в столовую. А там стол совсем к левой стенке сдвинули — на полу около рояля и Папиного стола огромная куча каких-то коробок и вещей, Папа рядом стоит и улыбается сюрпризной улыбкой. Мы все втроём бросаемся на него, он обнимает нас, а потом здоровается с Бабушкой, почему-то за руку, — потом спрошу у Мамы.
— Мышка, ты с чего начнёшь… смотреть? — спрашивает Папа у Мамы.
Мамочка быстро, но внимательно осматривает кучу и показывает на вторую коробку сверху.
— Вот с этого, — говорит.
— Начинай, — кивает Папа, и улыбка у него становится такая сюрпризная, что я уже просто терпеть не могу.
— Мама, Мамочка! — кричу я. — Открывай скорей!
Мама берёт коробку, ставит её на кресло, открывает, вынимает и говорит тихо и медленно:
— Чер-но-бур-ка!
Бабушка хлопает в ладоши, качается и говорит, по-моему, со слезами, но, может, мне кажется:
— Вавочка, милая, теперь тебе зимой будет всегда тепло!
— И красиво! — добавляет Элл очка.
Вдруг я вижу — а раньше не видела, не заметила — у самой стенки, то есть у стенного шкафа, задвинутое столом, стоит что-то большое. Я подхожу — ой, ой, ой! — это же большой, очень красивый велосипед, но немножко не похож на Папин.
— Папа! — кричу. — Почему он такой… красивый?
— Верхней перекладины нет, — смеётся Папа. — Это дамский велосипед!
И тут же открывает одну из коробок и говорит:
— Девочки! Вам я привёз по два нарядных платья — для зимы и для лета, немножко белья и по паре нарядных туфель. У Мартышки и Анки зимние платья одинаковые — я думаю, они вам понравятся. И ещё, — тут Папа делает загадочное лицо, — есть маленький сюрприз, но этот сюрприз на троих!
Анночка вдруг спрашивает:
— Папочка! А где он?
— Пошли в ванную! — зовет Папа. Он вынимает откуда-то небольшую коробочку — такие бывают из-под шоколадных конфет, у Мамочки есть, — берёт из кучи большую картонку и смеётся: — Пошли!
В ванной Папа часто занимается фотографией, у него есть для этого несколько деревянных досок, он кладёт их на ванну рядом — получается как стол, и на этот «стол» он кладёт картонку — ух, как темно и здорово, сейчас сюрприз будет! — и велит нам:
— Закройте глаза! — Мы закрываем глаза, что-то шуршит, и Папа говорит: — Открывайте!
Ой, ой!!! Мы обалдели все втроём! На картонке лежит очень много разных фигурок — и все они светятся! Мы наклоняемся и разглядываем их: вот это кошка… вот это ягодка… какой-то человечек… жучок… а это… не может быть… я как закричу:
— Па-ро-ход!!!
— Папочка, что это? — умоляет Анночка.
— Это брошки вам на троих, общие, — будете носить, когда захотите, и вечером, в темноте, они будут светиться.
У Папы такой голос, хоть он немножко и притворяется, что ему всё равно, но я слышу — он ужасно радуется!
— А как же их носить? — удивляется Ёлка.
— Сзади у каждой брошки булавка, — объясняет Папа, — открываешь булавку и прикрепляешь куда хочешь.
— Девочки! — прошу я. — Можно, я немножко сейчас пароход поношу, потом вы?
— Можно, можно! — разрешает Ёлка. — А я поношу этого человечка! — Ёлка берёт человечка в руки, разглядывает и говорит торжественно: — Это матрос!
— Папочка! — просит Анночка. — Прикрепи мне, пожалуйста, вот этого жучка! — И она берёт жучка в руки. — Он очень красивый!
Папа прикрепляет слева на груди на платье Анке жучка, мне — пароход, а Ёлке — матроса. Мы смотрим друг на друга — брошки так ярко светятся в темноте! — и мы кричим «ура!». Хохочем и опять кричим «ура!».
Папа открывает дверь и говорит:
— Идите, пусть Мама и Бабушка посмотрят!
Вбегаем в столовую. Бабушка сидит на кресле, Мамочка рядом с ней на стуле, они обе, глядя на нас, ну… на наши брошки, сначала охают, а потом хлопают в ладоши. Входит Папа, он сдерживает улыбку, но она не сдерживается.
— Жоржик, милый! — Мама смотрит на Папу и улыбается, у неё есть такая улыбка и качание головой — только для Папы. — Ты замечательно придумал!
— Вавочка, а теперь ты сделай нам сюрприз, — просит Бабуся и руки к груди прижимает. — В Палате мер и весов в Ленинграде, где мы жили, где работал ваш дедушка, — объясняет она, — мне все говорили: «Надежда Ивановна! Вавочка у вас просто как статуэтка!»
Мамочка смеётся и говорит:
— Девочки, вот вам ваша коробка — идите в детскую, примеряйте, радуйтесь, и ты, Мамочка, с ними, а я пока тут что-нибудь придумаю и позову.
В детской мы раскладываем на Ёлкиной атаманке всё, что Папа нам привёз. Я никогда не видела столько красивых вещей. Вообще-то я никогда не обращала внимания на вещи, особенно на свои, — мне как-то это было неинтересно, и всё казалось одинаковым. Когда меня спрашивали: а какое на ней было платье? — я не могла ответить, не помнила. Потому что мне неинтересно, во что одет человек, а вот что он говорит, мне интересно! Я могу запомнить любое количество текста с одного раза, любое количество музыкального «текста», любой самый длинный разговор — не хочу, но запоминаю. А вот, во что одет человек, не помню — неинтересно. Кроме Мамочки — я знаю и могу подробно рассказать все её платья, туфли, бусы, шляпы, их немного, но они все очень красивые — я ни у кого таких не видела! А Бабушка говорит: ваша Мама украсит любое платье!
И сейчас я разглядываю все эти прекрасные платья, туфли, шёлковые рубашечки и удивляюсь: как я раньше могла не замечать вещи? А Ёлка как будто подслушала мои мысли и говорит:
— Никогда у нас не было таких красивых вещей! Никогда! Только до войны у меня были шёлковые трусики, но они были одноцветные!
Совсем недавно я случайно услышала, Бабушка сказала Мамочке:
— Вавочка, у Ниночки осталась только одна ночная рубашка! Это невозможно, когда воспаление лёгких, она в одной лежит, а другая сохнет. Я из своей ей рубашку перешью.
— Но у тебя одна ночная рубашка! — говорит Мама.
— Посплю пока в старом сарафане — он уже весь как сито, ходить в нём нельзя!
И совсем недавно у нас было только по одному платью.
Когда я очень удивляюсь, я забываю дышать, и сейчас я не дышу — в самом низу моей стопки лежат шёлковые трусики, они в каких-то чудных цветочках, цветных разводах — я даже представить себе не могла, что трусики могут быть прекрасными! Я начинаю дышать, быстро снимаю свои трусики и надеваю эти, прекрасные! Ёлка смотрит на меня, хмурится, потом тоже быстро снимает свои трусики и надевает подарочные — они у неё тоже прекрасные!
Бабушка хлопает в ладоши, прижимает руки к груди, она смеётся, но, как всегда, непонятно — она плачет или смеётся, хотя она, как и все мы, хохотушка.
— А ты почему не надеваешь? — спрашиваю у Анки.
— Я их поберегу! — объясняет Анночка.
— Для чего их беречь? — Ёлка делает кривую голову и тонкие глаза. — Смешно!
— Вот будет праздник — я их надену! — Она так спокойно и уверенно говорит, как взрослая.
— Мамочка! Девочки! — зовёт Мама из столовой.
Мы вбегаем в столовую. Между обеденным столом и Папиным «письменным» стоит Мамочка — я никогда не видела её такой прекрасной!
На ней большая белая, с волнистыми полями и чёрной лентой блестящая шляпа, она как будто сплетена из белых и немножко чёрных лент, моё любимое платье, на шее белые новые бусы, на руках новые длинные белые шёлковые перчатки с чёрными пуговками, левая рука согнута — на ней висит новая чёрная кожаная (так Бабушка сказала) сумка, на ногах новые замшевые туфли на блестящем каблуке, и весь носок у них как будто обсыпан конфетти! Все хлопают в ладоши, я тоже, но я ничего не могу сказать, хочу, но не могу — потому что я не могу найти слов, правильных слов, для моей любви и восхищения!
Мы ложимся спать. Я сижу в ночной рубашке на своей кровати и разглядываю трусики и брошку-пароход, они рядом на стуле. Не буду ложиться, если лягу, сразу засну, а мне ещё хочется всё вспомнить и посмотреть на свои трусики и пароход!
Взрослые часто говорят, что у них что-то не помещается в голове, у меня всегда в голове всё помещается! И сегодня Папка привёз такой замечательный сюрприз — он весь поместился у меня в голове, я сижу и всё вспоминаю.
Входит Бабушка, у неё мокрые глаза и руки прижаты к груди.
— Жоржик! — Она говорит очень серьёзно, ласково, и мне опять кажется, что ей трудно не плакать. — У меня лет тридцать не было таких красивых, удобных, мягких туфель! Большое вам спасибо! И они мне удивительно по ноге!
— Я рад, Надежда Ивановна. — Папа кивает головой и немножко смущается.
— Посмотри, Мышка, я думаю, тебе понравится! — И Папа что-то протягивает Маме.
Мама не просто охает, а прижимает «это» к лицу, и я вдруг вспоминаю: война, Свердловск, сорок третий год, лето, Мамин день рождения, Папин подарок, который дарит Ёлка, и что-то блестящее, прекрасное, лёгкое, жёлтое летит над столом — крепдешиновая косынка! И сейчас и тогда Мама прижимает «это» к лицу. Потом она ставит «это» на рояль, я вздрагиваю — Мамочка очень бережёт рояль. Мы все — нас трое и Бабушка — подходим к роялю и видим: на рояле стоят игрушечные, волшебные, маленькие-маленькие ярко-жёлтые босоножки.
— Это Мишке на следующее лето, — объясняет Папа.
— Правда, они похожи на сыроежки?! — У Мамы немножко хриплый голос.
Два радиоприёмника, большой и поменьше, пишущая машинка с русскими буквами и пишущая машинка с английскими буквами, машинка для точки карандашей, чемодан с «отрезами материалов»… Папа говорит:
— Мышка, только что открылось академическое ателье, может, ты сошьёшь себе там несколько платьев, а то ведь у тебя уже совсем ничего нет!
Мамочка открывает следующую коробку… а там шёлковые перчатки — длинные, короткие, белые, чёрные, жёлтые, коричневые, с полосками, с дырочками, с пуговками, с кнопками. Мама охает! И шёлковые чулки. Мама опять охает, а под чулками коробочка — Мамочка её открывает и говорит:
— Жоржик, милый, ну как ты догадался?!
В коробке бусы — это называется «бижутерия», — они все три одинаковые по форме, но разные по цвету — белые, нежно-голубые и нежно-зелёные.
Лучше всего — Мамочка между столами в Папиных сюрпризах и босоножки-сыроежки. Они стоят сейчас на рояле — это чудо, как Мишенькины пальчики и брошка-пароход!
Я думаю: на свете нет брошки лучше!
Потому что это па-ро-ход!
Мальчик Алёша
Мы ужинаем, Бабушка вдруг говорит:
— Дети, завтра пойдём в Ботанический сад.
Анночка спрашивает:
— А можно, Алёша с нами пойдёт?
Бабушка говорит, что нельзя, потому что Алёшина бабушка разрешает ему без неё быть только во дворе с Анночкой или у нас дома.
Наши соседи по лестнице очень странные люди — они похожи на засохшие растения, но почему-то их совсем не жалко, и когда о них думаешь, то о них совсем нечего подумать — они ни с кем не разговаривают, не улыбаются, не смотрят в глаза, а когда с ними поздороваешься, тихо и безразлично говорят: «Здравствуй».
Зимой, когда ещё была война, к ним приехал внук Алёша — и он оказался весёлый, добрый, хороший и даже красивый — совсем-совсем на них не похож! Он на несколько месяцев младше Анночки и немножко ниже её, но они оба красивые — только Анночка беленькая, а он чёрненький. Бабушка их скоро познакомила, они так подружились и стали почти всё свободное время проводить вместе. В школу-то они ещё не ходят!
Я увидела их первый раз вдвоём зимой во дворе. Они стояли рядом: пальто, и валенки, и шапки — всё белое — и смеялись — в снегу же поваляться — это так здорово! Подхожу к ним и спрашиваю:
— Хорошо повалялись?
Алёша вдруг сделал такой небольшой шаг вперёд и в сторону — получается, перед Анночкой, — это было странно — он выпрямляется, вскидывает голову и смотрит мне прямо в глаза, спокойно смотрит, но я сразу понимаю: он заслоняет Анночку от меня, он защищает её… от меня!
И в груди у меня что-то закололо!
Мамочка уже покормила Мишеньку и ужинает с нами — это так хорошо, без неё всё мне кажется немножко ненастоящим.
— Бабушка сказала, что вы теперь с Алёшей в шахматы играете? — спрашивает Мамочка Анку. — Нравится тебе?
— Очень! — радуется Анночка.
— Могу себе представить их шахматы! — Ёлка хмыкает и пожимает плечами.