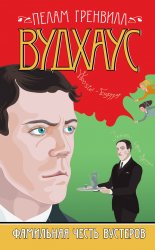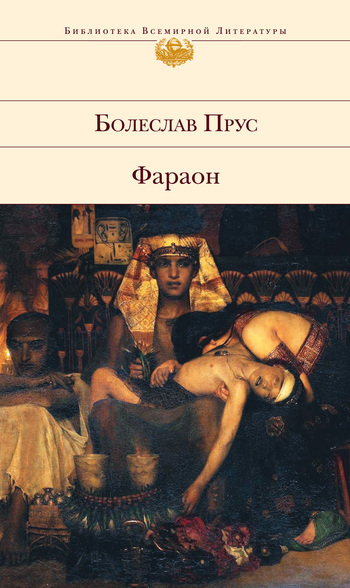Сибирская жуть Бушков Александр
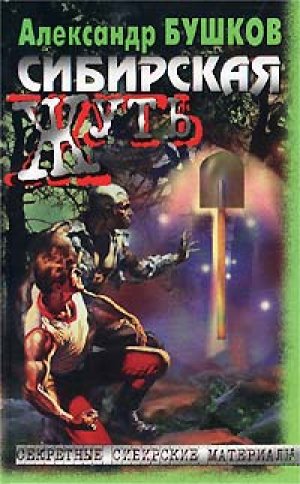
А в середине этого полного шумом цикад и кузнечиков, пронизанного светом дня, протекавшего в умных беседах, появились братья Мараловы. Не нужно было быть пророком, чтобы понять главное: беда! На черных, осунувшихся физиономиях это очень явственно читалось. Парни еле поздоровались, присели на крыльце, не решаясь начать разговор.
— Ребята, вы давайте прямо… Что-то с Павлом?
— Оба они пропали… Ирина и Павел… они ушли в боковой ход…
— Что будем делать?
— Надо искать… Динихтиса надо, он умеет…
— Ну, ищите Динихтиса, — пожевал губами Михалыч с видом крайнего сомнения. — Я, пожалуй, поищу другого человека.
Михалыч действительно оделся, невзирая на жару, и отправился искать кого-то. И что характерно, нашел.
ГЛАВА 22
Думать, как жить
16 — 17 августа 1999 года
— Что, мужики? Думайте, обчеством думайте!
— На сто рядов уже продумано! И уходить нельзя, и оставаться нельзя! Оставаться… Почему это нельзя нам оставаться? Нет, ты не прав, Сидор Карпович. Оставаться нельзя, это правда. Железа мало, а которое и есть — качество работы исчезает.
— А что, без железа нельзя?! Можно и камнем. Чем тебе стрела плоха из камня?
— Не одни стрелы нужны. Те же иголки.
— А ты спроси у бабы… Может, ей костяные иголки еще и больше нравятся? Одним бабам — железные, другим как раз из кости…
— А ножи?! А топоры?! Нет, Карпович, никак нам без железа не прожить…
— Так ножи, топоры… лопаты… Их-то мы выковать можем. Можем, Федор Тимофеевич!
— Можем, да качество хуже… Вот, сравни старинный у меня и свой новой работы…
Федор Тимофеевич взял нож у Карповича; тот вздыхал, не спешил отдавать — прекрасно знал, чем демонстрация окончится.
— Смотри, Фома неверующий.
Федор Тимофеевич провел по боку нового ножа, выкованного сельским кузнецом, лезвием старинного, заводской работы двадцатых годов, оставил явственную полосу.
— Вот, видели?! Не железо это, а… оно! И с каждым годом — все хуже.
Одни кивали, разводили руками, другие прятали глаза, словно искали что-то на полу. Однако нравились его слова или нет, а никто не стал возражать. Многие уже давно сравнивали качество своего железа, сваренного в самодельных домницах, и старинного, унесенного из той еще жизни. Ничего нового не сказал Федор Тимофеевич, еще раз ткнул пальцем в больное.
— Прав Федька… — просипел дед Борис из угла, — и с железом прав, и вообще. Выходить надо… Разведчиков послать, и если правда, кончилось… Если не будет погрома, то выходить.
— Ишь, рассудил! А с чего ты взял — не будет погрома?! Забыл, как на Ключах Старых Осередние остались?! Мало тебе смерти ихней лютой?!
— С того взял, что мужиков снизу видел… И ты их видел, Егор Иванович. Ведь видел же? Что, похожи они на вралей?! Или, может, похожи на этих… на чекистов?!
— Не похожи… — чесал дед Егор в затылке, вынужден был согласиться. — А все равно как хочешь, Борис… как хочешь, а ты все равно не прав. Там, может быть, такая хитрость, какой тебе и в голову не придет. Думаешь, не может так быть?!
И замолкала сходка, слушала, потому что сумел дед Егор сунуть палец в затаенное, в больное. Потомки дважды бежавших, жители деревни были еще и потомками русских крестьян, слишком часто, слишком легко обманутых. И правительством, и купцами, и всяческим начальством, от генерала до исправника. В их подсознании жила не только обида, но и готовность не верить. Подсознательно люди ждали — когда обманут и на чем? И сейчас гасли улыбки, подтягивались тела. Напряженно, внимательно следила и слушала сходка.
— Я так понимаю, что про железо все равно Федор Тимофеич сказал правильно… А я и про одежду скажу: у нас тут есть хоть кто-то, на ком шкуры выделанной нету?
Заулыбались — таких не было.
— А ты попробуй натки столько! — крикнул Никодим Прохорович, и опять улыбалась сходка крику мужа очень ленивой, неряшливой женщины.
— Я и пробовать не буду! — выкрикивал под смех сходки. — Ведь смешно — мужик прясть, ткать и не может. Так же не может, как рожать, — хорошо пошутил Сергей Никодимыч, а он продолжает, гнет свою линию: — А вот те, кто бежали… На них ни одной шкуры не было, ни на одном… Дичаем, мужики, дичаем! Хлеб едим все реже, верно? Еще двадцать лет в лесу просидим непролазном — хлеб у нас будет к большим праздникам.
— На просфоры! — выкрикнул кто-то из молодых.
— На просфоры хватит… А чтоб обычно есть — не хватит.
— А ты без хлеба и не можешь?! Мясо ешь! Вон тебе тайга! А в тайге еда на четырех ногах взад-вперед бегает весь год.
Опять заулыбалась сходка, и опять одни закачали головами — ишь, придумали, хлеба не есть! А другие потупили очи — может, и правда лучше так, без хлеба? Спокойнее так, без проблем. Лес, полный мяса, всяческой еды… Проживем!
— Мясо есть можно… Из камня, из кости все делать, можно… В шкуры одеваться — тоже можно. А к чему идет, соображаете? — веско говорил Кузьма Сергеевич, в который раз стирая с лиц улыбки.
— Я уже молчу о том, что никто из нас Руси-то и не видывал… «Русские мы, русские!» А какие мы русские, когда не то что Москвы… А даже Минусинска никто и никогда из нас не видел? В Старых Ключах небось знали!
— Врешь! — бешено метнулся дед Егор. — Кто из Ключей в Москву ездил?! Ну кто?!
— Макарины ездили. Сидоровы ездили, с бабами и детишками. Фотографии-то ихние ты помнишь? Или попросить, пусть принесут?
И опять потупили головы почтенные мужики — так неправ оказался очень почтенный человек. А дед Егор рванул ворот рубахи, с хрипом уселся в дальний угол. И понимал: прижал его Борис.
— Про Минусинск уже молчу… Все ездили. А предки — даже и в Москву… Мы-то откуда знаем, какие в Москве храмы есть? Из картинок, верно? Из тех, которые от старины… А у нас у самих ничего нет, — обвел сходку глазами Борис, искал, кто на него посмотрит, кто согласен.
— И люди, боюсь, мельчать начнут… — поддержал неожиданно Пахом Евгеньевич, — не телом измельчают, а здоровьем… Старики — нет, а молодежь — почти все родственники, верно? Людей мало, до многоженства доходит.
— Ну, до многоженства — это всего раз… Случайность приключилась… С тех пор сколько парней народилось… — нестройно возражала сходка.
— Случайность? Верно… А если снова такая случайность? Мало нас… И правда, родственники все. Выходить надо, мужики. Может, не сразу. Может, думать, как выйти, когда… Но выходить надо… Погибнем.
— Нельзя выходить… Истинную околесицу несешь, Борис Николаевич… Борис… Ты не прав, Борис… Обманут нас.
И видя — слушают внимательно, дед Егор добивал, словно вколачивал тупой гвоздь:
— Обманут, точно я вам говорю. Нутром чую, не будут с нами они говорить эти… городские из долины. Мы для них кто? Мы, мужики, для них как звери. Они на машинах, у них книги, у них вон всего сколько… А мы что?! Мы так… с боку припека. Может, с ними и того… Скажем, может быть, у них больше покупать надо всякого. Но деревню не показывать, сюда не пускать. И самим не выходить ближе к другим.
И видя, что сходка внимательно слушает, что еще немного, и совсем повернется к нему деревня, решит ни в мир не выходить, ни к себе других людей не пускать, добавляет:
— Ну, что решать будем, мужики?!
Сходка мялась, сопела, шуршала одеждой, возила ногами под лавкой.
Трудно было сказать что-то первому… Что-то такое, что может быть, уже и готовы проговорить все, но ведь страшно, первому всегда страшно…
— У всех спросили… А у Бога не спросили. Как мужики, будем спрашивать?
Спокойный голос сельского попа, Андрея Стародубцева. Третий уже поп в роду. Второй, рукоположенный отцом.
— Что, мужики, может, высшую силу послушаем?
Молчание. Это понравилось всем… ведь каждая сторона верит, что высшая сила — за них. Кому-то нравится еще и потому, что как ни решай, а решать надо не сейчас… отсрочка! А отсрочка — это ведь всегда удобно. Да и решаем, получается, не мы сами, а какие-то высшие силы, и можно больше ни о чем не думать. Все понимали, кому нравится какой момент — и потому, что знали по-соседски друг друга; всего-то в избу набилось человек до тридцати — все мужики деревни. Невозможно было не узнать. И лица все открытые, наивные, ясные. Живя вот так, общиной из ста человек, забывают люди хитрость и закрытость. Этого просто не нужно.
— Надо… Нет, мужики… правда, надо… Как хотите, а ведь гады мы… Бога забыли…
И практический вопрос:
— Андрюша… камлать собираешься?
— Посмотреть хочешь? — усмехнулся священник. — Нет, не до камлания, это в другой раз. Я думаю… к Шару сходить.
Все стихли. Вытянулись лица. Последний раз в Пещеру поп ходил, дай Бог памяти, лет двадцать назад… Тогда Володька убежал, и с концами. Ушел зимой в гольцы, пропал. Не нашли — значит, мог и уйти. Старый поп, еще отец Андрея Стародубцева ходил, уже старик. Вернулся, сказал — переселяться не надо, никаких не будет неприятностей. И не было, не соврал Шар. Да, Шар — это сила… При такой важности дела и правда у него надо бы спрашивать. Но и страшно…
Андрей встал, потянулся. Еще молодой, сильный, гибкий, но уже и морщинки на физиономии, уже и первые седые волоски. Кое-кто уже уронил про него, уже назвал Андреем Ивановичем.
— Значит так, мужики… Выйду я завтра с утра. Идти до Пещеры — весь день. День — там. Обратно — тоже день. Значит, снова сходку — на четвертый день… Правильно мыслю?
— Правильно… На четвертый день и надо… Утром бы, да утром — дело. Вечером надо… — жужжали голоса односельчан.
— Значит, так: завтра ухожу. Через четыре дня…
— До свидания, батюшка.
— До свидания.
Андрей Иванович вышел в душистый горный вечер; светлый ветер нес аромат горных трав, ледников, только что прошел теплый дождь, трава была особенно зеленой. Колыхался полог облаков, по сиянию за одной из серо-сизо-матовых, летучих гряд было понятно, где солнце.
Бесшумной походкой охотника двигался домой священник. Заглянул в избу, сказал вполголоса жене: завтра ухожу… на три дня. Пелагея наклонила голову, не отрываясь от ткацкого станка. Дело обычное — быт. Завтра Андрей Иваныч возьмет котомку, наденет ее на плечо. Он не проверит, что лежит в котомке, не спросит у жены, что положила. Он будет совершенно точно знать, что там — все нужное для трех дней пути. Что жена не забудет нужного и не положит лишнего. Андрей Иванович знал и то, что жена знает, почему он только заглянул и тут же ушел на весь вечер. Надо же получить отпуск.
Если человек уходит в лес надолго, надо договориться с Хозяином. Не Хозяин дает имена, не он дает души людям, не он сотворил лес, воду и человека. Но он и не враг того, кто дал все это. Он — другой. Он хозяин в лесу, и никто не пройдет леса без его позволения. Чтобы Хозяин позволил, надо от чего-то отказаться, дать обет. Например: «не знать крови» — не убивать. Если идешь по грибы или пасти стадо — это самое лучшее. Или «не знать бабы». Тоже не худшее, когда идешь надолго в лес. И Хозяина посвящаешь во что-то важное… То ли ты живешь один и чувствуешь себя немного обездоленным, то ли это у тебя такой обет, и потому все как раз правильно. Андрей Иванович поневоле знал человеческую природу… может быть, даже слишком уж хорошо. Годится и «не трогать волоса», особенно если идешь охотиться или рыбачить — ведь в таких случаях никак нельзя давать обета «не знать крови». Или вот «не знать рыбы и мяса» — тоже хорошо. Летом и не так уж нужны ряба и мясо, а обет вполне серьезный, Хозяин его признает. С таким обетом отпускает, куда надо, и не мешает делать в лесу, что угодно. Можно и охотиться, и ловить рыбу… только добытого — не есть.
Парфеныч знает и другие отпуска, покруче. С теми, о которых была речь, любой житель должен идти в лес, и мало кто пойдет без отпуска. А есть отпуски и посерьезнее, далеко не на каждый случай жизни. Андрей Иваныч помнил, как пропала корова. И медведь ее вроде не трогал, и место было удобное для скота, без обрывов и ям в земле. Корова пропала, как растворилась.
Тогда Парфеныч долго обсуждал, как быть, с хозяином коровы, с пастухом. Каждый взял себе свои обеты, а Парфеныч еще прочитал свои статьи отпуска, тайно. Сперва перед лесом, где пропала корова, стояли все вместе — Парфеныч, хозяин, пастух, Андрей Иванович, чтобы в случае чего был бы священник. Парфеныч прочитал весь отпуск: что готовы сделать людям, чтобы Хозяин возвратил корову.
Прочитал, глянул на спутников, скосил жуткий глаз:
— Гм…
И три мужика, не последние люди в деревне, послушно двинулись назад, через луг, оставляя Парфеныча перед стеной березняка. Там, за спиной, опять бубнил Парфеныч, не разобрать что.
Сначала было очень слышно, когда Парфеныч перестал бубнить, тоже пошел через луг. Слышны были шаги, свистела трава об Парфеныча. А потом ничего нельзя было разобрать, потому что сзади возник, нарастал шум и вой. Словно невероятной силы ураган обрушился на лес, клонил деревья, ломал ветки, выл, поднимая силу звука до невероятного, заставляющего пригнутся, рева. Пришла в голову мысль, что человек не может переносить такие звуки. Только огромным усилием воли Андрей тогда не обернулся, хоть твердо знал, что нельзя.
А потом звук исчез, словно его обрезало ножом. Разумеется, ни одна веточка, ни один листок не были повреждены в лесу. Деревья стояли, как будто не только страшный ураган — даже легчайший ветерок никогда не касался их крон. Ни одна травинка не согнулась, не была примята на лугу — кроме тех, по которым прошли люди. А под кедром лежала пропавшая корова, и все четверо пошли прямо к ней. Животное лежало на боку, словно кто-то принес ее сюда и положил, как маленького ребенка или домашнюю кошку. Андрей навсегда запомнил озадаченное выражение на морде коровы и уже тогда подумал, что жаль — невозможно спросить, где была корова и что видела. Корова и встала через несколько минут с таким же озадаченным, удивленным выражением, и оно сохранялось у животного до тех пор, пока ее не привели в деревню и не поставили в хлев. И даже там еще было у нее некоторое удивление всем окружающим — до первой дойки. Корова, кстати, оказалась насухо подоена, и снова доить ее привелось очень не скоро.
И все пять лет с этого случая Буренка оставалась самой обычной животиной… но трудно ждать, чтобы хозяин не помнил этой всей истории и не испытывал бы… трудно сказать, чего именно. Например, он вряд ли стал бы бить Буренку или отдал бы ее кому-то. Неведомая сила вручила корову ему — и хозяин относился к событию с должным благоговением, и уж конечно, безо всякого легкомыслия. При том, что все попытки выяснять у Парфеныча, что теперь можно делать с коровой, отвечал только пожатием плеча. Мол, ты обет принимал? Принимал. Выполнил ты обет? Выполнил, тому я сам свидетель. Чего тебе еще? И от тебя — чего еще? Вернули тебе корову — пользуйся, как всякой другой живой тварью. Но Андрей Иваныч был уверен — Буренке суждена долгая жизнь, уж что-что, а зарезать на мясо ее хозяин не решится никогда.
Андрей Иванович и сегодня шел к Парфенычу — так уж повелось, что отпуск брали у него перед дорогой. Вообще-то отпускать должен был тот, кто еще сам ходит в лес… Но три года, как Парфеныч обезножил, а другого подходящего старика не оказалось в деревне. И уже лет пятнадцать, как забылось его настоящее имя. Все «Парфеныч» и «Парфеныч», так и привыкли. Отец Андрей сто раз собирался спросить, чтобы в случае чего, правильно отпеть новопреставленного. И забывал, по легкомыслию, не слишком простительному для пастыря.
И еще об одном никак не мог спросить Андрей Иваныч… Парфеныч еще помнил те, самые Первые Ключи. Должен был и знать, что приключилось в тех Первых Ключах с оперуполномоченным. Андрей Иванович раза два уже хотел задать вопрос и два раза словно запнулся об эти карие глазищи без зрачков. Парфеныч сам поворачивался к нему и упирался глазами в глаза, ждал. То ли чувствовал, то ли кто-то подсказывал ему… То ли просто был он очень опытен и хорошо чувствовал людей. Во всяком случае, задать вопрос Андрей Иванович так и не смог, а жаль — если Парфеныч помрет, то уже и некого спросить.
— Здравствуй, батюшка.
— Здравствуйте, Олимпиада Силовна.
Жена Парфеныча моложе, не помнила Первых Ключей. Но кажется старше, чем муж.
Андрей Иванович неторопливо минул заросший травой дворик. Старики могли бы прополоть, не хотели — любили, чтоб больше травы. Взошел на серое крыльцо, отворил дверь, неторопливо поклонился образам.
— Здравствуй, батюшка. Уходишь?
— Здравствуй, Парфеныч. Ухожу на три дня.
Священник присел на лавку, напротив грузного, массивного Парфеныча. Мерцала лампадка, освещая правый бок старика: иссеченную морщинами щеку, массивное ухо среди разноцветных волос: Парфеныч до конца не поседел, волос был и черный, и седой. Другую сторону Парфеныча освещал тусклый вечерний свет из узенького низкого окошка.
— На три дня… Не охотиться. Не грибничать… Все верно?
— В Пещеру иду, к Шару.
И на мгновение прикрылись веки. Закрыв глаза, Парфеныч посидел с полминутки, подумал.
— Что, так и не знает народ, выходить ему в мир или нет?
— Не знает, Парфеныч, и я тоже не знаю.
— А Шар, значит, думаешь, знает… Ну ладно. Значит, обет тебе нужно такой: не знать крови, не знать гриба, не знать мяса… Тут большой обет нужен, для такого дела. А волоса не стричь — тут ты всегда и так…
— Не знать крови — хорошо. Только я же далеко пойду. Вдруг зверь?
— В августе зверь?
— А если?
— А «если» — на кедр полезай. Подумай сам — перед Шаром, когда спросить надо — и меньший взять обет… Можно ли?
— Прав ты, Парфеныч, нельзя. А «не знать бабы» — давать ли?
— Нужды нет… На три дня — таким отпуском Хозяина гневить… Ну, с богом?
— С богом.
Парфеныч потянул сложенный втрое, пожелтелый листок из-за иконы Богоматери. Трещала лампадка, меркнул вечерний свет в окошке. Не от заката — еще рано. Солнце перемещалось, уходя от узости окна.
Спешить, конечно, было некуда и незачем. Парфеныч бубнил с бумажки, Андрей Иваныч повторял. Свету стало еще меньше, когда бумажка ушла обратно, за оклад образа.
И что-то вдруг кольнуло отца Андрея в сердце, когда бумажка исчезла, остался маленький желтый треугольничек, уголок сложенного; вот и решилось. Вот он и идет туда, где что-то высшее скажет ему, а тем самым всей деревне — что делать. Что-то должно произойти.
— Парфеныч…
На этот раз отец Андрей не готовился. Парфеныч повернулся к нему, но без всегдашнего ожидания, делавшего невозможным вопрос.
— Парфеныч… Тебя крестили, вроде бы, Василием? А второе имя-то какое?
Парфеныч молчал с полминуты.
— Второе? А зачем тебе второе? Вроде, к Богу с первым я пойду, с крестильным…
— Сам знаешь… И второе нужно, когда буду тебя отпевать.
— Смотри-ка… Не забоялся сказать, — ухмыльнулся Парфеныч как-то очень хорошо, по доброму. — Константином меня нарекли… вторым именем. Только его не записывай!
— Не запишу… Не запишу, Парфеныч, ты не думай. Ну, до свидания тебе. Счастливо оставаться.
— И тебе — счастливого пути.
Назавтра около шести утра Андрей Иванович, отец Андрей, бесшумно шел через туман. Будь здесь обычная русская деревня в средней полосе или на юге, Андрей повстречал бы полдеревни, пока не вышел за околицу. Здесь же попались ему от силы два-три односельчанина.
В местах, где производят хлеб, встают очень рано, потому что днем — жарко, и чем раньше начнешь работу, тем лучше. А август — это еще летний месяц. Но отец Андрей и остальные жители Ключей только слышали, что бывают такие деревни — в стране, где когда-то жили они… вернее, их предки. Наверное, предки и вставали с первым светом, но вот в деревне, в темнохвойной тайге, вставать рано не имело особого смысла, потому что утром в Сибири всегда холодно и сыро, а вот вечера — гораздо теплее и суше.
Отец Андрей шел себе и шел, и уже к полудню вышел за пределы протоптанных людьми тропинок. К Пещере он ходил еще ребенком, но хоть и примерно — а все-таки помнил дорогу. К тому же были и приметы. Отец Андрей шел, как будто не тридцать лет назад показал ему эту дорогу отец-покойник. Словно три месяца назад он ходил по звериной тропке, пока горный хребет не станет виден под другим углом, сворачивал возле кедра, сплетенного вершинами с пихтой, выходил в долину ручейка и шел по течению, пока справа не показывался перевал, похожий на седло. Увидев перевал, отец Андрей искал подходящую тропку, пересекал вброд ручей и уходил на перевал.
У горожанина за четверть века набежала бы тьма новых впечатлений, даже помимо его воли. Мало грохочущего транспорта, мало напряженных до истерии отношений людей, мало множества мелких событий, неизбежно происходящих каждый день: всех этих мимолетных встреч, забираний в трамвай, подниманий по лестницам, прихода в незнакомые помещения и так далее, и тому подобное. У горожанина еще множество дополнительных впечатлений: читает газеты (о чем читал, не помнит через несколько часов), смотрит телевизор, который и создан специально для того, чтобы отнимать у людей время и давать им совершенно ненужные, тут же вылетающие из головы имена, факты и события.
За четверть века крысиных гонок голова оказывается набита жизнью соседей, делами героев мексиканского телесериала и деталями автобусных маршрутов, а то и вовсе какими-то обрывками, невосстановимыми, не связанными в систему обломками информации. А то, что было в его собственной судьбе десять, двадцать лет назад, горожанин не помнит. Не сможет пройти по тропинке, по которой шел пятнадцать лет назад, не узнает излучины реки, с которой расстался десять лет назад.
Отец Андрей прожил совсем другую жизнь: не имея ни малейшего представления о телевизоре и прочитав, кроме Евангелия, только две книги: «Войну и мир» и «Похождения Ивана Путилина». Сама мысль, что существуют люди, забывающие дороги или приметы лесных троп, казалась ему абсурдом и чем-то совершенно невообразимым.
И под вечер, давно спустившись с перевала, отец Андрей шел пружинистой легкой походкой, словно было ему двадцать, а не тридцать пять. Котомка весила не больше пуда, а это не вес для мужчины. Андрей Иваныч шел легко, не оберегаясь. Единственная мера предосторожности — все время он свистел, напевал, громко разговаривал сам с собой. Оружия священник не взял, и было бы неразумно внезапно появиться возле сильного, уверенного в себе и вдруг напуганного зверя. Опять же — одна мысль, что в лесу без оружия идти опасно, показалась бы отцу Андрею дикой. Не вооружаемся же мы, чтобы поехать на дачу?
К вечеру отец Андрей уже видел скалу, похожую на барсука. Ясно виден был нос, округлое ухо… Через какое-то время скала стала видна под другим углом и сделалась похожей уже не на барсука, а на кабана, и отец Андрей начал искать сосну с раздвоенной вершиной.
Колоссальная сосна в два обхвата, и на ней очень ясно видные насечки, густо затянутые смолой. Их сделал отец, Иван Гермогенович, на глазах у Андрея Ивановича, почти двадцать пять лет назад.
Отец Андрей покричал, подходя к дереву, несколько раз стукнул палкой по стволу. Только потом обошел ствол, подтянулся на руках, встал на сук… Нет, в дупле никто не поселился. Пол дупла был покрыт трухой, сверху тоже сыпалась труха, и пахло прелью. Но было сухо и тепло, и места было на троих как минимум.
Тогда отец Андрей стал громко молиться, благодарить Бога за дупло. Быстро приготовил все нужное для костерка. Костер ему был в общем-то, сам по себе совсем не нужен, нужно было, чтобы место пропахло дымом, и чтобы всем зверям стало бы ясно: тут поселился человек.
С полчаса отец Андрей сидел у живого огня, прислоняясь к стволу сосны спиной, подставляя сухому теплу то один, то другой бок, и долго ел положенное в котомку Пелагеей. В деревянной баклажке нашелся квас. Потом священник взял подходящий сук и ловко расколол его на множество тонких лучинок. В темноте пещеры можно идти и без огня, если глаза привыкнут к темноте… а он знает, как сделать, чтоб привыкли. Но ведь и факелы нужны, на всякий случай… Отец Андрей не хотел додумывать, на какой случай, при чьем появлении в пещере необходим станет живой огонь.
Потом отец Андрей набросал в костер гнилья и шишек, пока не повалил удушливый серо-черный дым, пополз в тайгу, а сам лег спать и проспал около двух часов, пока на западе в тучи не начало заваливаться солнце. Вот оно коснулось края тучи, нырнуло в нее. Отец Андрей встал лицом на восток и молился. Там, на востоке, небо было темно-синим, дымчатым, а стволики молодых кедров, их кроны высились неподвижно, как изваяния. Только плясали поденки вокруг веток.
Как всегда, красота мира помогала почувствовать благо и могущество той силы, которая создала мир, и самого отца Андрея. Не только силу и могущество, но и благость, и доброту Творца. Тот, кто сделал такой хороший, такой добрый и красивый мир, не мог не помочь тому, кто замыслил благо и кто исполняет волю всей сходки односельчан. В душу Андрея Ивановича сходило ощущения покоя и уверенности в том, что он — под высшей защитой, и ему должно быть дано все, чего он хочет.
А потом отец Андрей сложил все в дупло и особенно старательно замотал съестное — чтоб не пахло и не нашли звери. В костер он набросал еще гнилья и шишек, а сам сделал первые шаги.
Пока он стоял лицом на восток, небо изменилось. Туча отошла от края сопки, и лучи садящегося солнца брызнули веером по небосклону, поджигая нижние края нависших туч. Тучи как бы плыли в сторону отца Андрея, серо-черные сверху, желто-огненные, розовые, красные в огне небесного пожарища. «Добрый знак», — уверенно думал священник.
Метрах в ста от сосны начиналось узкое ущельице, сначала совсем неглубокое. Шагов триста — и уже крутыми стали склоны, не выбраться. Потемнело. Еще триста шагов, и впереди уже совсем темно, а сверху появился потолок. Ну вот он уже и в пещере. Отец Андрей знал, где надо надавить возле глаз и потом на голове, чтобы видеть в любой темноте. Он постоял немного, привыкая, и дальше двинулся по коридору. Теперь он видел примерно так же, как каждый человек может видеть в густых сумерках, и чувствовал себя вполне уверенно.
Отец Андрей не боялся пещер. Он вообще мало чего боялся, убежденный — священнику помогает сам Бог. И пока он хороший священник, пока он делает, как надо, — ему благо. Отец Андрей не мог сравнить себя с другими священниками, но он старался изо всех сил и был уверен, Бог отметит его усердие.
К тому же отец испытал его, как учили камасинские инородцы, кочевавшие в горной тайге, знакомые еще жителям Первых Ключей. У камасинских инородцев был обычай… Если парень хочет быть шаманом, то пожалуйста! Только пусть сначала проведет ночь в одной пещере… Если он правда шаман — духи это поймут, и парень вернется, обогащенный замечательным опытом. А если парня поутру найдут обезумевшего, с перекошенным ртом, из которого рвется крик и вой, — значит, он не настоящий шаман, и ему не помогали духи. Камасинцы не уважали русских попов, потому что они не проходили посвящения, и камасинцы не знали, настоящие они шаманы или нет. Дед Андрея, Гермоген Иванович, был первым, кто прошел испытание в пещере, уже рукоположенным священником; Андрей не видел этого, а вот отец рассказывал, как благоговели перед ним камасинские инородцы, в том числе и шаманы.
Что до пещеры… Очень была обычная пещера — просто длинная дыра, сделанная водой, треугольник входа, в два человеческих роста, глыбы на полу, шагов шестьдесят — все уже и теснее коридор. Там, почти в самом конце, где почти нет света дня — кострище, еще от камасинцев.
Будущий шаман может придти сюда с кем угодно. Любое число людей может ходить по пещере днем. Испытание в том, чтобы ночью парень был один, а все его спутники — за три километра отсюда, у урочища.
Правило можно нарушить. Можно заночевать в пещере хоть впятером, хоть вдесятером. Пожалуйста! Можно посадить парня внутри, а самим сделать засаду снаружи. Пожалуйста! Но только тогда никакого испытания не будет. Ничего не произойдет в пещере. И если парень хочет испытания, он останется в пещере один.
Все уйдут, затихнут их голоса в гулком неровном пространстве. Не будет никого вокруг, и даже звезд и луны не будет в треугольнике входа — в том его огрызке, который виден из самой глубины пещеры. И тогда появляется Голос. Костер трещит, освещая коридор пещеры на несколько метров вперед. Если юноша хочет, он может взять с собой оружие — топор, копье, двустволку, карабин… хоть пушку. Но в кого он будет стрелять?! Никого нет, никто не появляется в освещенном пределе. Никаких звуков движения. Никакого колыхания воздуха. Только потрескивает огонь, и звучит Голос. И все. И больше совсем ничего.
Голос глухой, негромкий, но выговаривает четко, слышно каждое слово. С Голосом нельзя спорить, нельзя ему отвечать. Откуда это известно, трудно сказать. Андрей Иванович не слыхал про человека, который захотел бы проверить что будет, провести маленький эксперимент. Голос спрашивает человека о себе: как зовут, кто родственники, зачем пришел? Но Голос и так знает всех.
У Андрея Голос спрашивал:
— Где Гермоген?
Голос пытался вести спор:
— Разве ты из Ключей?! Я знаю всех в Ключах, но тебя не знаю. Наверное, ты из другой деревни! Ты только притворяешься ключевским!
Голос провоцировал на действия:
— А ты сумеешь поднять этот камень? Думаю, не сможешь! А тот, который возле входа? Где тебе!
И рано или поздно Голос начинал уговаривать выйти:
— А ты выйди, парень, выйди! Так и быть, ничего тебе плохого не сделаю!
— Что, боишься?! — дразнился, обзывался Голос. — Поджилки трясутся, да?! Где уж тебе быть шаманом, глупая девчонка!
Всякий знал, что говорить с Голосом нельзя, ничего делать нельзя, а уж тем более нельзя выходить. Все, кто собирался в пещеру, видели тех, кто нарушил правила: безумцев с пустыми глазами и дико перекошенным ртом, из которого течет слюна. Все знали, что поутру придут те, кто ждет в трех верстах, в удобном месте, у источника. Все знали, что надо петь песни, вести разговоры с невидимым собеседником (не с Голосом). Но выдерживали-то не все…
После той пещеры-испытания, здесь все уже казалось чепухой. В темноте, приспособив глаза, Андрей Иванович шел, как по тайге, — по приметам, как велено отцом. Третий коридор… зал с падающей водой…
Нужное место все ближе.
ГЛАВА 23
Поиски пропавших
18 августа 1999 года
Надо отдать должное Динихтису — он был очень деловым человеком, тут спору нет. И конечно же, он не мог не заметить обезумевшего вида Стекляшкиных, вломившихся в его ограду. Посетителей пошатывало после жуткой дороги; измотанные лица, синяки под глазами, одежда в небрежности. Что-то неуловимое в облике давало понять, что им плохо не только физически.
А Динихтис как раз обтесывал плашку, чтобы починить забор, в его желудке плескался литр борща, а юная жена пропалывала огород под бдительным оком супруга.
Цвел лимонно-розовый закат. Динихтис находился дома, посреди необозримых просторов своего хозяйства, и ни в ком и ни в чем не нуждался. А эти двое явились неизвестно зачем за тридевять земель, и им зачем-то нужен был Динихтис — второй раз за шестой день. Уже из этого одного со всей очевидностью вытекало, что Динихтис главнее этих людей, что они от него зависят, и что если вести себя умно, то от Стекляшкиных много чего можно получить. А вести себя умно Динихтис умел, и даже непревзойденно.
Стекляшкины вломились в ограду, и Динихтис, опустив топор, посмотрел на них приветливо, но и с некоторым изумлением — как на людей, нарушающих правила вежливости. Хоть бы спросили, можно ли войти! Им не до того?! А ему вот очень до того, и значит, он-то и главнее.
— Сергей Владимирович… Беда. Дочка у нас пропала.
С видимой неохотой, с мукой даже Динихтис опустил топор.
— Ну может быть, еще придет… Где она пропала-то?! В лесу?
— Хуже, Сергей Владимирович… Ирина пропала в пещере.
— Пропала… — пожевал губами Динихтис. Он все время сохранял такое выражение, что вот-вот заговорит, и тем не давал никому вставить слово, тянул время и тянул. — А как она туда попала?
— Ирина… Моя деточка… — начала было Ревмира истерически, но Владимир сделал неуловимое движение рукой, и Ревмира, к собственному изумлению, заткнулась.
— Наша дочь Ирина приехала от нас тайком. Она сразу же пошла к Мараловым, и они с другом отправились в пещеру. Как я понимаю, они там искали одну вещь…
— Какую вещь? Отделочный камень? В Пещере нет отделочного камня. Хороший отделочный камень есть в ста верстах отсюда, в Пчелиной пещере, годится и на могилки, и на панели для кафе, и вообще для всего.
Видно были, что Динихтис может трепаться бесконечно.
— Сергей Владимирович, они искали не поделочный камень…
— А что же? Яшму? Нефрит? Жадеит? Но и этого там тоже нету. Жадеит — это надо идти в Улий грот. Если нефрит, то по течению Черного ключа есть целые глыбы…
— Нет, они не искали нефрит, — перебил Владимир Павлович, уже откровенно невежливо, — да не важно, что ни искали. Важно, что дочка пропала, ушла в боковой ход, и не вернулась.
Динихтис разводил руками. Динихтис даже притопнул от удивления. Динихтис раза два начинал говорить и был не в силах слово молвить:
— А как же Мараловы отпустили ее в этот самый… в боковой проход?!
— Она была здесь вместе со своим парнем, — тяжело вздохнул Владимир Павлович. — Они шли вместе по пещере, вместе свернули не туда.
— Может быть, они как раз увидели то, чего искали? — проявил любопытство Динихтис.
— Не думаю… Сергей Владимирович, вы бы не взялись нам помочь?
— Но я ведь даже не знаю, что они искали… Как же я смогу найти?
Стекляшкин опустил глаза — чтобы не смотреть в светло-невинные, ангельски непонимающие гляделки Динихтиса. Только сейчас он понял, что Динихтис играет, и начал понимать, какой будет ставка в игре.
— Сергей Владимирович, надо искать людей… Вы же прекрасно знаете, что в пещере они могут жить только очень недолго. Надо спасать, а у нас нет ни снаряжения, ни оборудования, чтобы искать. И я, откровенно говоря, в пещерах разбираюсь мало и ходить по пещерам совсем не умею.
Стекляшкин прервался на мгновение, сделал паузу. Динихтис таращился непонимающе.
— Мы очень просим вас помочь… — подвякнула Ревмира где-то сбоку, и Стекляшкин пережил приступ строго желания придушить неверную супругу. «Еще и дура…» — мелькнуло, и вполне несправедливо. Вслух же Стекляшкин поморщился и произнес, раз уж Ревмира начала:
— Конечно, мы просим вас быть проводником.
— Но не могу же я бросить хозяйство, — обвел руками двор Динихтис. — Август месяц… Я даже за нефритом не ходил. Не время… Ну совсем не время…
Динихтис тяжело вздохнул.
— Мы заплатим, — пискнула Ревмира. В глазах Динихтиса полыхнул хищных блеск, а Стекляшкин повернулся к ней всем телом. Минуты полторы было совсем тихо. Динихтис прилично вздыхал, потупившись долу. Ревмира открывала и закрывала рот, молча уставившись в лицо супруга. Стекляшкин смотрел задумчиво, грустно.
— Давай я буду вести переговоры.
Сказано было тихо, вежливо, но Ревмира окончательно заткнулась. И уже Динихтису, так же вежливо и тихо, сам не понимая, откуда он берет такие изысканные выражения:
— Сергей Владимирович… Примерно какую сумму вы потеряете, если в течение дня или двух будете моим проводником в пещере? Я готов, без сомнения, и восстановить ущерб, и оплатить ваш труд.
— Но ведь кабачки могут погибнуть… — прошептал в ужасе Динихтис.
— Кабачки мне предлагали вот такие (Стекляшкин показал, какие ему предлагали кабачки) по три рубля самый большой. Триста рублей за кабачки хватит? Только за кабачки?
Динихтис мотал головой.
— Кабачки — никакие не деньги… Кабачки — моя жизнь… Это еда… Их поливать (Динихтис стал загибать пальцы), их пропалывать, их собирать, их — на икру! Вот сколько дела, чтобы зимой была еда, видите?
Динихтис загибал пальцы с видом некоторой скорбной отрешенности, свойственной полоумным, и Стекляшкин временами почти принимал все это за чистую монету.
— Вы купите эту еду… Здесь же купите, в деревне… Или, хотите, я вам куплю?
— Там еще картошка! — бешено взвизгнул Динихтис. — Там картошка! Еда для моего живота! Еда для моей бедной женушки! Если я не соберу картошки, моя жена умрет с голоду!
«Бедная женушка» давно уже вылезла из огорода, как была — в жутко грязной ночной рубашке из простынного полотна, ноги по колено и руки по локоть в земле. Она стояла тут же, слушала и с громким чавканьем грызла немытую морковку.
— Хорошо, Сергей Владимирович, давайте я куплю для вас картошки.
Стекляшкин вспомнил формулу из какого-то итальянского фильма:
— Если Вы решите мои проблемы, я возьму на себя все ваши.
— А помидоры?! — взвыл Динихтис голосом флейты, отчаянно заламывая руки. — Я пойду спасать в пещеру вашу дочку. Может быть, я ее и спасу… Через день, может быть, через два… А мои помидоры так и будут стоять неполитые! Их некому будет полить… Никто не положит под них навозцу, никто не капнет водички под них, под мои помидорчики! Под красненькие, под милые помидорчики! Они будут стоять неполитые, неухоженные… Некому будет даже сказать им ласковое слово, и они все завянут! О, мои помидорчики!
Динихтис выл и причитал, и его глаза наполнялись самой натуральной, вовсе не придуманной, слезой.
— У нас еще репа есть… и капуста, — сообщила вдруг жена Динихтиса и снова сунула в рот морковку.
— Капуста! Капусты тоже полный огород! — подтвердил Динихтис, и глаза его опять полыхнули желтым фанатическим огнем, а голос лязгнул, как у крокодила.
С полминуты Стекляшкин молча созерцал уходящие за горизонт бесчисленные рядки капусты, укропа, репы, помидоров, огурцов, салата, картошки, свеклы, моркови.