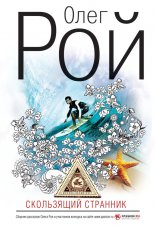58-я. Неизъятое Артемьева Анна

Герои этой книги — люди, которые были в ГУЛАГе, том, сталинском, которым мы все сейчас друг друга пугаем. Одни из них сидели там по политической 58-й статье («Антисоветская агитация»). Другие там работали — охраняли, лечили, конвоировали.
Среди наших героев есть пианистка, которую посадили в день начала войны за «исполнение фашистского гимна» (это был Бах), и художник, осужденный за «попытку прорыть тоннель из Ленинграда под мавзолей Ленина».
Есть рассказ священника про первый религиозный экстаз и литовского партизана — про первого убитого им чекиста.
Есть профессора МГУ, выедающие перловую крупу из чужого дерьма, и инструктор служебного пса по кличке Сынок, который учил его ловить людей и подавать лапу. Есть девушки, накручивающие волосы на папильотки, чтобы ночью вылезти через колючую проволоку на свидание, и лагерная медсестра, уволенная за любовь к зэку.
В этой книге вообще много любви. И смерти. Доходяг, объедающих грязь со стола в столовой, красоты музыки Чайковского в лагерном репродукторе, тяжести кусков урана на тачке, вкуса первого купленного на воле пряника. И боли, и света, и крови, и смеха, и страсти жить.
Мы начали собирать эти рассказы для «Новой газеты», четыре года назад. Всем нашим героям было от 80-ти до ста лет. Они пускали нас в свои дома, наливали чай или водку, и не столько вспоминали, сколько прислушивались к себе, заново воссоздавали собственную жизнь, в последний раз сталкивались с собой, своей болью, страхом, от которого всю жизнь бежали или с которым свыклись. Рассказы звучали, как завещания, как последняя попытка понять, зачем это было — и с этим знанием уйти.
В Печоре, в доме окнами на бывшие лагерные бараки, удивительно красивая украинка Ольга Гончарук, плача и не закрывая лица, говорила про исковерканную лагерем жизнь, а ее немолодой уже сын смотрел на мать с ужасом и любовью: все это он слышал впервые.
В подмосковном поселке Клязьма пианистка Вера Геккер легко касалась клавиш рояля. Длинные тени падали на ее длинное платье, поскрипывали деревянные половицы, медленно лились аккорды Чайковского — и невозможно было представить, что пять лет Вера провела в лагерях в Средней Азии, и еще пять рояль был с ней в ссылке в Караганде.
Где-то на окраине Питера крепкий, высокий 101-летний Павел Галицкий весело вспоминал, как видел в Магадане американского президента Генри Уоллеса, как бежал по обледеневшей зимней дороге под Сусуманом встречать жену, спустя 18 лет приехавшую к нему в ссылку, как учил трех бывших профессоров работать кайлом. Глубокий низкий голос разносился по всей квартире, старик громко отхлебывал чай — и вдруг закричал: «Перемерли они! Все на Колыме перемерли…»
* * *
Вскоре оказалось, что большинство бывших заключенных никогда в жизни не говорили про лагерь. Многие до сих пор боятся нарушить подписку о неразглашении, данную в 1950-х годах, не разделяют СССР и нынешнюю Россию и не считают лагерное прошлое — прошлым. В каждом доме нам первым делом показывали справку о реабилитации — словно оправдание потерянных в лагере лет.
Большинству было больно вспоминать, кто-то замолкал посередине рассказа. Многие плакали. Но не тогда, когда говорили про голод или близкую смерть — а когда вспоминали надзирателя, просунувшего через кормушку камеры немного махорки; медсестру, носившую письма зэков на почту; жену, которая ждала 10 лет.
Мы решили: об этих проявлениях человеческого и нужно спрашивать. Не только про то, как били и унижали, но как выживали, поддерживали друг друга и держались. На что надеялись, чего ждали, чему радовались, что понимали о себе и людях. Как потом, после освобождения, вспоминали про лагерь, какие видели сны.
Почти всех героев этой книги мы спрашивали про самое страшное и самое радостное воспоминание жизни. Самыми страшными оказались первые дни в тюрьме, позже — лагерная повседневность, одинаковость дней, ощущение неизменности и безнадежности, которое накатывало через несколько лет.
Радости отличались. Неожиданно мы заметили, что много смеемся во время интервью, много слышим ярких, наполненных жизнью историй: как женщины вышивали на лагерных номерах цветочки, шили платья из наволочек и перебрасывали любовные письма через забор мужской зоны. Как бывший московский студент полюбил работу на шахте («Шахта затягивает, как море. Уголь в луче света очень красив»), убежденный атеист из Ярославля стал католическим священником, а юная тбилисская журналистка, член подпольной организации «Смерть Берии», встретила в Минлаге своего будущего мужа, литовского партизана: «Солнце, а он в курточке с молниями, они блестят… Когда нас сажали, молнии еще не придумали. Я ему говорю: «Юзеф, ну ты просто елочная игрушка!».
Мы узнавали, как лагерь ломал, корежил жизнь человека, рушил все его ценности — и создавал их заново. Сусанна Печуро, 18-летней девочкой осужденная на 25 лет лагерей, рассказывала, что навсегда поняла: нельзя выжить по принципу «ты умри сегодня, чтобы я — завтра». Выжить можно, только если есть о ком думать: «лучше я умру сегодня, чтобы ты прожил еще один день». Нас учили, как уцелеть в лагере: заботиться о ближних, не думать о будущем, не бояться смерти, не позволять себе опуститься физически…
Кажется, эти уроки были не про лагерь — про жизнь вообще.
* * *
В каждом интервью нам обязательно рассказывали про охрану. Чаще — с ненавистью, реже — с сочувствием. Вспоминали, как заключенные Минлага прятали в своем строю пьяных солдат, чтобы тех не наказало начальство, и сами подкармливали злую конвоиршу, дети которой тоже голодали. Как пожилой надзиратель ночью выпустил заключенную девочку из холодного карцера, накормил хлебом и разрешил греться на своем месте до утра.
Стало понятно: нельзя говорить только о тех, кто сидел. Следователи, конвоиры, надзиратели, цензоры писем, охранники на вышке, инструкторы служебных собак, лагерные врачи — что происходило с ними? Что они думали о своей работе, стране, о тех, кого стерегли? Мы приходили к ним так же, как к заключенным: не осуждать, не вешать ярлык, но выслушать и понять.
Репрессии разделили поколение наших дедов колючей проволокой, но объединили ощущением несвободы и собственной уязвимости, бедностью, голодом, страхом. Общее ощущение беды не ушло с годами, но схоронилось где-то глубоко в памяти. Так же, как на дне шкафов наших героев сохранились не изъятые при шмонах лагерные бушлаты, кружки, открытки, книжки. Нож, подаренный уголовниками на Колыме, лифчик, вышитый рыбной косточкой в калужской тюрьме. Фотографии и истории этих вещей тоже здесь есть.
Мы не хотим, чтобы эта книга превратилась в хронику насилия и страдания. Мы надеемся, что из рассказов людей сложится история времени и поколения, людей и их ценностей, идеалов и отношений с властью. История любви, дружбы и взаимопомощи там, где все направлено на уничтожение. Ненормальной, часто невыносимой, но всё же жизни.
Анна Артемьева
Елена Рачева
P. S.: Спасибо историкам «Мемориала» Ирине Островской, Алене Козловой, Светлане Фадеевой и Алексею Макарову за помощь в поиске бывших заключенных и главному хранителю фондов Центрального музея ФСИН России, полковнику Николаю Суслову за контакты сотрудников Службы исполнения наказаний.
Спасибо редактору Владимиру Яковлеву, фотографу Сергею Максимишину и психологу Нане Оганесян — за советы и идеи. Спасибо нашему соавтору Евгению Казакову за макет книги и дизайн обложки, Веронике Цоцко — за верстку. Спасибо издательству АСТ и Илье Данишевскому, без которых этой книги бы не было. Спасибо «Новой газете», Нугзару Микеладзе и Дмитрию Муратову, без которых не было бы нас.
Антонина Васильевна Асюнькина
«Не ощущала, что нужно еще покушать, потому что знала, что больше не дадут»
1923
Родилась на хуторе Комарово Россошанского района Воронежской губернии в семье последователей религиозного движения федоровцев, катакомбных старообрядцевбеспоповцев. Движение возникло в начале 1920-х годов под Воронежем вокруг юродивого Федора Рыбалкина. К 1930-м активные члены движения были расстреляны, большинство остальных раскулачены и отправлены в ссылку.
ФЕВРАЛЬ 1930
Семья Антонины выслана «как имеющая кулацкое хозяйство и принадлежащая к контрреволюционной секте федоровцев».
Родители Антонины, бабушка, дедушка, три ее дяди и четверо братьев и сестер этапом через Архангельск и Котлас доставлены в Заонекеевский лагерь ОГПУ Вологодской области, созданный в помещении бывшего монастыря.
21 ИЮНЯ 1931
Отец Антонины Василий Береговой арестован вологодским полномочным представительством ОГПУ «за распространение ложных слухов о Советской власти».
27 НОЯБРЯ 1931
Постановлением «тройки» Василий Береговой осужден на три года лишения свободы и отправлен в Печорлаг. Его близких как семью «врага народа» отправили в ссылку в Кожвинский район Коми АСССР.
1933
Cемье Антонины разрешают вольное поселение в Печорском районе. Василий Береговой получает еще один срок за антисоветскую агитацию в лагере и освобождается только в 1937-м.
Работала кассиром, бухгалтером, заведующей детскими яслями.
Живет в поселке Красный Яг под городом Печора.
Папа мой был мужчина божественный, раскулачили его за Христа и выслали.
Мама была неграмотная, а отец — развитой, грамотный, все знал. И столярничал, и лошадей мог подковать, и на гармошке играл. Молодец был отец! Никогда не унывал. Как и я.
Сами мы с Воронежской области, с хутора Комарово. Там была церковь, мама с папой ходили молиться, они были люди набожные, федоровцы. Был один такой Федоров, и мы вроде в его подчинении.
Как стали разрушать эту церковь, отец пошел, начал им говорить: «Чего вы делаете! Такую красоту сносите!» Друг его один говорит: «Молчи, Василий, а то поедешь туда, где Макар телят не пас». Ну и через два дня начали люди говорить, что тех, кто у церкви был, возмущался, станут раскулачивать и забирать. Дед тоже ходил шуметь — его выслали. А дядя Ваня не ходил — его все равно раскулачили.
«Два года мы в церкви жили»
Погрузили нас на три подводы. Меня привязали. Я ведь хотела убежать, не хотела ехать. Думала, что от родителей хотят меня увезти. А родители что, они молчат. И мне опять: «Не языкай. А то мы в одну сторону ту-ту поедем, а ты в другую». Испугалася я!..
Сначала нас в церковь привезли, и два года мы в той церкви жили. Там много людей было, и мужчин и женщин, все — с Воронежской области. Сначала — кого за религию выслали, потом кулаков пригнали.
Нары стояли трехэтажные, на них спали. Сначала даже в туалет не водили, но мы не могли в туалет в церкви ходить, поганить церковь. Начали ругаться, возмущаться. Тогда стали под конвоем два раза в день выводить.
Антонина во время ссылки. Коми, начало 1940-х
Два раза в день давали баланду, кипяточек и все. Мама крошечку хлеба даст, маленькую, как просвирочка. Я кричу: «Мама-а, дай кусок хлеба!» «Вот тебе просвирочка. Ты скушаешь — и будешь здорова».
Мы там пели псалмы божественные! Охранники приходили, ругалися, а взрослые говорят: мол, раз вы не слышите, Бог услышит и нам поможет.
Мы все вместе сидели: мама, папа, дедушка, дядя Коля, тетя Шура, дядя Миша. Потом мужчин забрали. Папу взяли на лесоповал, старший брат пошел в пастухи, дедушка — печки ремонтировать. На ночь закрывали на засов, утром отпускали на работу под конвоем.
Потом очень много стали умирать дети. У одной бабушки Христи было трое детей, и все померли. А я не болела, я боевая была. Могла из грязи что-то найти и скушать.
Посидели месяц, полтора… Конвой же видит, что мы голодаем! Разрешили детей на веревке спускать в окна церкви, чтобы они ходили, милостиню просили. Я не ходила, а братиков спускали. Подавали им мало.
Потом начали выпускать и старух, и женщин, чтобы они побиралися. Бабушка рассказывала: ходили, крестили людей, молились. Кто-то двери не открывал, кто-то пускал, кормил. Мама ходила по деревням, белила дома, ремонтировала. Но никогда об этом потом не рассказывала.
«Крестики»
Сначала мы были кулаки высланные, а потом уже за веру арестованные. Прямо там, в церкви, арестовали и отправили в Печору, в Республику Коми. И Василенковых отправили, и Парубаевых, и бабу Христю…
До Кожвы везли на барж, в трюме, куда, не сказали. Когда вышли, увидали оленей и отец сказал: «Ничего, скот живет — и мы проживем».
Привезли нас в Песчанку (поселок спецпереселенцев в 22 км от города Печора. — Авт.). Отца не было, его забрали в тюрьму, а мы с мамой и с бабушкой остались. Жили в бараках. Комнаты такие большие, с нарами. Помню, чего-то горячее в кружечку наливали, ну и хлеба кусочек, это мы кушали. Голодали… Как вам сказать… Не ощущали, что нужно еще покушать, потому что знали, что больше не дадут.
Потом отца — он уже осжденный был — отправили на лесозаготовку в Кедровый шор, килметров 50 от нас. Мы с братом и сестрой ходили к нему пешком. Измозолил ноги — все равно идешь. Потом ак-кли-ма-ти-зировались, а отца отпустили к семье, в Песчанку.
Я до этого не училась, а как в Коми приехали, пошла в первый класс. Как в школу заходили, нам, детям, давали рыбий жир по ложке и настойку хвои. Тем и были живы.
Нам, федоровцам, положено белую, светлую одежду носить. На ней всюду были крестики или вышиты, или нашиты. Нас и называли «крестиками». Свой нательный крестик я на рубашечку привязывала и прятала на теле. Иногда приходили обыскивать и крестики отбирали.
Кто? А, молодые такие, непонятные! Я драться лезла, не отдавала. Нас ощупывают, крестик кожу царапает, и я царапаюсь. Один раз за руку схватила и тяну кусать! Я боевая росла! И сейчас боевая.
Семья Береговых в ссылке. Коми, 1948
* * *
В 34-м нас с мамой выпустили. Дали одежду и сказали: идите на все четыре стороны.
Сначала жили в Кожве, у частной бабушки Матрены, бесплатно. В одной комнате с ней спали, за одним столом кушали. Что кушали? Да что приготовят! Главное дело — чай был и хлеб. На хлеб сахара насыпали: вот тебе норма, ешь и не спрашивай. Голодно было, а все равно бегали, играли… По лугам бегали, дикий лук, чеснок собирали, ягоды. Лебеду толкли… Го-осподя! Лебеда — она горькая-я. Но ничего. Хуже, шо не соленая.
«Когда все прошло…»
Папу судили три раза, а в 37-м выпустили и уже не сажали. Пришел он худой, по всему телу волдыри. Он веселый был, общительный, его уважали очень. Когда умер, люди шли толпой, прямо как на демонстрации.
У родителей лампадка, икона была, они утром и вечером молились. И никогда сильно не разговаривали. Побаивались. И мне не велели. Когда умирали вожди, они плакали, жалели. Не злодействовали, не радовались. Не злобились, не говорили, что советская власть плохая. Когда все прошло, мама устроилась в колхоз дояркой, папа конюхом, мы в интернате учились. А как время подошло, родители пенсию не получили и дае не пытались. Сказали: дети есть, руки-ноги есть, заработаем сами. Ни копейки никогда не брали у советской власти.
Муж мой тоже был ссыльный, из Пензы, а за что он ссыльный, не знаю. Он жил в Печоре в землянке. В 46-м году я вышла в эту землянку замуж и так десять лет в ней прожила.
Нет, вернуться в Воронеж я не думала. А чего: землю забрали, дома нету. Что я, руки слжу и поеду туда умирать? Не-е. Не ездила даже ни разу. Не тянуло. Какая-то злоба в душе была, что не дали нам жить там, выгнали нас… Да и некогда мне было ездить, я детей рожала. И сейчас некогда, я Богу молюсь.
У меня еще с церкви одно ухо застуженное. То болело, теперь не слышит и все время гуди-ит, гуди-ит. Хочу пойти в больницу, чтобы они мне его заткнули. А так ничего, живу, здравствую. Не пила, не курила, питалась скромно, чужого не брала. Родители всегда говорили: «Смотри, живи по закону. Не зарься на деньги. Языком не болтай». Вот я и работала, и ничего у меня никогда не было. Вот так вт, слава тебе Господи, и живу. Долго, 85 с лишним лет.
ИКОНКА БАБЫ ХРИСТИ
«Трое детей были у бабы Христи, все умерли, она осталась. Как стали нас из лагеря выпускать, ходила по людям нянчить. Потом одна женщина забрала ее к себе. Она высланная была. Верующая, но скрывала. А нам сказала: я умру, а вы эту иконку себе заберите. Так она у нас и висит».
Юрий Львович Фидельгольц
«Место в лагере надо завоевывать зубами»
1927
Родился в 1927 году в Москве.
3 АПРЕЛЯ 1948
Во время учебы в театральном институте арестован вместе с двумя друзьями по подозрению в организации антисоветской группы. При обыске в доме Фидельгольца нашли его дневники, которые стали основой обвинения.
1948 … 1951
21 октября 1948-го — приговор военного трибунала Московского гарнизона: 10 лет лагерей, 5 лет поражения в правах.
1948–1951 — этапирован в Озерлаг под Тайшетом. Все время заключения провел только на общих работах.
1951-й — этапирован в Магадан, затем в Берлаг (колымский особый лагерь «Береговой»). Морозы, голод.
1952 … 1954
Весна 1952-го … май 1954-го — этапирован в лагерь при руднике Аляскитовый (Якутская АССР), где работал на обогатительной фабрике. Отправлен в инвалидный лагерь из-за начавшегося туберкулеза.
Май 1954-го — решением Военной коллегии Верховного суда СССР десятилетний срок заключения снижен до пяти лет, и Фидельгольц, отсидевший уже шесть, был освобожден.
1954 … 1956
1954–1956 — отправлен в бессрочную ссылку в Караганду.
1956-й — судимость Фидельгольца снята, он вернулся в Москву.
3 ОКТЯБРЯ 1962
Полностью реабилитирован.
Работал инженером, конструктором-проектировщиком. Выпустил шесть книг стихов и прозы.
Живет в Москве.
Меня посадили за антисоветскую группу, у нас группа была. То есть какая группа, трое друзей: Соколов, Левятов и я. Встретились, побрехали и разошлись. Но когда Соколова арестовали за стихи — ну, как бы антисоветские — он почему-то об этом рассказал. Меня взяли как свидетеля, решили обыскать. А у меня были дневники, семь или восемь тетрадей. О том, как я ходил в церковь и как там хорошо и приятно: «Почему так относятся к религии? Надо было бы ввести в школах Закон Божий». Или: «Вышел на улицу, голодные рабочие едят из грязных мисок. Что за скотская жизнь!» Под это сразу подложили антисоветизм.
В тюрьме я первое время, конечно, подумывал о самоубийстве. Я был советский человек и жить с клеймом врага народа не мог. Следователь доказывал мне: «Ты выродок. Все советские люди работают, учатся, а вы, бездельники, думали власть свергнуть, Сталина убить… Знаешь, почему мы тебя изолируем? Потому что если мы тебя выпустим, народ тебя растерзает». И я думал: может, он прав? Выйду — и на меня сразу набросятся: вот он, враг…
Группа у нас получилась несолидная, даже следователи это понимали и смеялись между собой: «Ну и карикатура». Однако же следователь капитан Демурин получил майора. Майор Максимов — подполковника. А мы, мальчишки, — по 10 лет.
* * *
На следствии я много хулиганил. Молодой был, не понимал, что держаться надо потише. Опытные зэки вели себя смирно и не выделялись, а я буянил, так что меня сразу за шиворот — и в холодное. Потом это большую роль сыграло в моей судьбе несчастливой. В деле написали, что я злостный нарушитель тюремного режима и брать меня можно только на самую тяжелую физическую работу. Сколько я ни пытался устроиться в санчасть или куда-то еще, не брали, вышвыривали.
Не знаю, как я выжил. Чудом.
Десятиклассник Юра Фидельгольц
* * *
Сидели сплошь одни четвертаки: за измену родине, за контрреволюционную деятельность, за болтовню. Блатные спрашивали: «Ты контрик? По какой статье? А пункт какой?» «58–10», — говорю. «А, балалайка!» Это на их языке значило, что языком молол. Даже уголовники относились к этой статье несерьезно. Однако же за убийство давали 10 лет, а за «балалайку» — до 25.
«Я тебя убью»
Меня спасало вот что. Мальчишкой я рос среди усачевской шпаны. Двор был из бедноты, рабочая обстановка. Отсидевших там уважали. Дрались, корпус на корпус. Жестокость, авторитеты, судьи — все как в воровском мире.
Когда я вышел из лагеря, пришлось изображать блатного, иначе было не выжить. Магадан был наполнен бандами, если выглядишь интеллигентиком, последнее могут снять.
Да и в лагере тоже. Там иногда надо было быть отчаянным, таким, чтобы прямо зубами человека загрызть. Иначе прохода не дадут, в скотину превратят, чтобы под нарами сидел и не вылезал. Место себе надо было завоевывать по Джеку Лондону: зубами. Показывать, что ты не то чтобы сильнее… просто что ты готов на все.
Я, доходяга, мог даже к сильному подойти и сказать:
— Я тебя убью.
Он меня избивал до полусмерти, я очухивался, подходил:
— Я тебя убью.
Он меня снова бил, но в него уже вползал страх. А вдруг я, пусть и слабенький, подойду, когда он спит, резану по горлу?.. И позиция уже менялась:
— Ты — меня? Ну ладно, иди сюда на нары…
Он мне уступал.
«Мама, почему у тебя нет другого ребенка?»
Когда мама пришла хлопотать обо мне в органы, ее встретил целый полковник КГБ и сказал:
— Да вы не беспокойтесь! Ваш сын в замечательных условиях. Кормят, поят, одежду дают. У них комнаты вроде купе, как у солдат. Поработает, поспит… И не надо ему ничего посылать, у него все есть. И ехать не надо.
Купе!
Не знаю как, но родители все-таки получили разрешение на свидание. Поехали к Тайшету. И наткнулись на начальника моего лагеря Касимова.
Касимов сам по себе — с точки зрения морали человеческой — был неплохой человек. Бывший фронтовик, чем-то проштрафился и попал начальником в лагерь. А там — и виновные, и невиновные, но все с номерами. Как их отличить?
И когда мои родители приехали и стали с ним разговаривать, он по-человечески понял, что я не враг, что я попавший в мясорубку случайный человек, и решил помочь.
* * *
Первое свидание было очень строгое. Лейтенант режима сказал маме: «У вас 15 минут. Вот часы». Не прикасаться, е подходить друг к другу — такие условия.
Меня вызвал Касимов:
— Фидельгольц, вы москвич? А вам знакома в Москве женщина такая, ну, пожилая… Приехала сюда, спрашивает вас. Вы ее знаете?
— Какая женщина? — говорю.
— Да мамаша твоя приехала. Ну, беги!
И я, как был: немытый, рожа опухла от гнуса, ватник заплатан, штаны прожжены — являюсь туда.
Гляжу на мать:
— Мама… — а потом не знаю, что и сказать.
И она растерялась.
— Юрочка, вот я принесла корзинку. Там твое любимое миндальное печенье…
Принесла она конфетки, леденцы, батон за рубль сорок.
«Свеженький», — говорит. Совершенно не понимала, куда я попал. Подвигает мне корзинку… а я не выдерживаю, хватаю ее, начинаю целовать… Да. Такая вот вещь…
Я только об одном думал: «Мама, почему у тебя нет другого ребенка? Тебе было бы легче». О чем она думала, я не знаю.
* * *
Расстались, выхожу с маминой корзинкой в зону. Народу-у! Весь лагерь высыпал, две тысячи человек. «Юрка, Юрка, к тебе мать приехала!» Все — с восторгом: и власовцы, и бандеровцы. Все сияют, как будто своя семья. Ну, думаю, надо что-то ребятам дать пожрать. Вытаскиваю батон, разламываю. «Нет, нет, это материно, сам ешь».
Все было цело из этой корзинки, никто не позарился, хотя все голодные были и доходяги.
«Ты почему, сволочь, писем не пишешь?»
Через пару дней посылают меня разгружать щебенку. Работаем, вдруг подходит ко мне начальник конвоя: «Ты! Слезай!»
Слезаю, конвойный мне автомат в спину — и ведет. Сам сибиряк, рожа добродушная, широкая, как тарелка. И все приговаривает: «Иди-иди! К лесу. А теперь — стой». Думаю: «Ну, сейчас пальнет…»
И вижу — навстречу они. Мать и отец. Увидели меня, расстилают на кочке салфеточку, припасы достают, манят:
— А этот, как его зовут? Ты тоже иди, — конвоиру.
Хотели его угостить. Он смутился, аж за дерево спрятался.
Поели, выпили по стакан, начали говорить: как, что. Отец, правда, молчал. Ни слова, наверное, не сказал…
В следующий раз мы увиделись уже в Москве, через пять лет.
* * *
Нет, официально такое свидание, конечно, было невозможно. Но родители, оказывается, наладили с Касимовым связь. Отец отрекомендовался, что он преподаватель, член партии. Тот проникся к нему уважением. Не знаю, какой у них разговор был, но когда они уехали, с тяжелых работ меня сняли и по приказу Касимова устроили санитаром в санчасть.
Но у нас же везде стукачи! Вернулся оперуполномоченный, узнал: такой-то переведен в санчасть. Начал копать и решил создать дело против начальника лагеря, уличая того в связях с врагом народа, то есть со мной.
Меня моментально сняли с легкой работы, поместили в карцер и начали пытать, чтобы я признался, что мои родители с этим начальником встречались. Я все отрицал и, помню, еще увещевал их — ой, я такой дурак был: «Чего ж вы топите его, он же фронтовик, хороший человек? Товарищи, это не по-советски…»
Они — ха-ха-ха, и по морде. Поместили в бокс, где можно было только стоять — и я двое суток под снегом стоял, потом били. Все отбили, меня изувечили. Но начальника снять не смогли.
В присланном родителями «вольном» шарфе. Якутия, 1954
* * *
После пыток меня положили в санчасть, а потом тихо отправили на новое место. Начальником там был Климович. Он слышал об этой истории и мне явно симпатизировал.
В первые же дни он устроил мне разгон. Так это артистически сделал!
Вызывает в кабинет, сажает за стол. И давай кулаками стучать, кричать, подонком меня называть. Я не пойму, в чем дело.
И вдруг он кричит:
— Ты почему, подлец, сволочь фашистская, писем не пишешь? Ни матери, ни отцу, сука такая!
— Так два раза в год письма положены…
— Какие два раза, сука! У тебя родители — советские люди, а ты — фашист…
А сам бесшумно кладет на стол письма от моей матери. Видно, там, за дверьми, надзиратель подслушивает. И вот Климович надо мной бушует — а я читаю эти письма, захлебываясь в слезах.
Встретились мы с ним и еще раз… Однажды, встретив меня на лесоповале, он незаметно схватил у меня письмо и сунул в унты. Вы понимаете, что он сделал?! Начальник лагпункта, да.
Когда я вышел, родители рассказали, что, оказывается, жена Касимова потом приезжала к нам, обращалась к отцу за консультацией как к врачу.
«А я все старался себя расходовать…»
В 54-м с работы меня списали и положили в барак для умирающих — у меня был туберкулез. Врачей там не было, надзиратели кидали на нары пайку, а оттуда крючьями стаскивали трупы. А я все равно блаженствовал: на развод не гонят, работать не надо… Лежишь, как… знаете, как в утробе матери.
И вот приходит надзиратель, кричит: «Фидельгольц! С вещами на вахту». Ну, думаю, на этап. Не дай бог в другой лагерь, где надо работать. И вдруг на вахте сообщают: статья такая-то, указ такой-то, военная коллегия рассмотрела… срок с десяти лет заменяется на пять (отсидел я шесть). А я не понимаю даже, о чем речь идет. Тут ребята мои набежали, давай в решетку ломиться: «Юрка, ты же освобождаешься! Письма передай!» — и давай мне под ноги письма кидать. Надзиратель меня отпихивает, конверты сапогами — в снег, в снег. А я стою и не верю: неужели свобода?
Посадили меня на открытый грузовик. Весна, конец мая. В лужах утки плещутся. Офицер сопровождающий берет пистолет и давай палить по уткам — и все мимо, все мимо. Матерится-я!
Привезли нас на прииск. Там — чайная, в вазе пряники лежат. Купил один пряник, мне гроши какие-то выдали, грызу его… И такое это наслаждение! Черствый он был как камень, зато свой.
* * *
Вышел на свободу — и набросился на нее как голодный. Хотелось все охватить, хоть день — да мой. Упивался тем, что я свободен, что можно купить батон — и весь съесть, встретиться с девушкой — и сблизиться, хотя бы в постели. А я все старался себя расходовать: и в отношениях с женщинами, и в отношениях с жизнью.
Скоро наступила неудовлетворенность. Надо было учиться, но получалось плохо, ведь я был болен. В театральный уже не вернулся. Сцена требует хорошей физической формы, а мне тяжело было даже дышать.
Приехав в ссылку в Караганду, решил почитать «Тихий Дон» Шолохова. В день мог осилить одну-две странички. Соображать было тяжело. Лагерь высасывает мозги, отнимает все возможности, чтобы размышлять. Радио у нас не было, газеты не поступали, самодеятельность была примитивная и наивная, цензура пропускала только народные песни. Но такое было у меня желание учиться, что я себя переборол и поступил.
В Караганде подал документы в медицинский. «Таких, как вы, не берем», — сказали мне. Пошел в горный техникум, на единственное отделение, после которого можно было работать на поверхности. Его и закончил.
Про лагерь я особенно не рассказывал, когда вышел, это уже было немодно. Модно стало говорить: наша прекрасная советская власть дала возможность людям выйти из лагерей. Помню, приходили родственники, говорили: «Ну ты, Юрка, все-таки что-то сказал. Видно, виноват был перед советской властью. Так просто у нас не сажают». Даже мама мне говорила: «Благодари, что тебя выпустили». Кончались 50-е, но они так ничего и не понимали.
С отцом. Караганда, 1955 год
ЧЕМОДАН С КОЛЫМЫ
«Чемодан я выменял на сахар, мне мама килограмм прислала на Колыму. До того у меня был рюкзак, но его со всеми вещами свистнули. Магадан был наполнен бандами, если выглядишь интеллигентиком — последнее могли снять. Пришлось изображать блатного».
АННА КРИКУН 1922, СЕВАСТОПОЛЬ
В 1943 году вместе с матерью арестована по обвинению в связи с немцами на оккупированной территории. Еще до вынесения приговора этапирована в Вятский лагерь, где попала на общие работы. В 1945-м арестована вторично по обвинению в шпионаже и антисоветской агитации.
Приговор — 15 лет каторжных работ. Из них 12 провела в Воркуте, работая на шахтах, отсыпке дорог, укладке рельсов и шпал. В 1956 году освобождена по амнистии. В 1970-х реабилитирована. Живет в поселке Воргашор под Воркутой.
ТЕЛЕЖКА-ОДНОТОНКА
Шахтная тележка-однотонка из воркутинской шахты, где Анна Крикун три года возила уголь
“ Три с половиной года я работала под землей. И на навалке, и на проходке, и лаву крепила… День прожит — и слава богу. С шахты живой вышел — тоже хорошо. Рука у меня с 48-го года не движется. Между бревен попала. Зато на шахте у нас всегда звезда горела! Было такое положение: если шахта выполнила план за сутки — на крыше правления загорается красная звезда. А у нас звезда не гасла. И уголь шел!
Иван Савельевич Гайдук
«И Бог был со мной»
1925
Родился в городе Славянск Краснодарского края.
ОКТЯБРЬ 1943
Был призван на фронт.
1946 … 1947
Октябрь 1946-го — после войны Ивана направили проходить срочную военную службу в конвойных войсках МВД.
1947-й — вместе с пятьюдесятью другими солдатами оставлен на службе в Печорлаге. Первые полгода работал охранником, затем прошел обучение на должность инструктора служебной собаки.
1948 … 1954
1948–1954 — работал с одной и той же немецкой овчаркой: сопровождал колонны заключенных, занимался поимкой сбежавших.
1954-й — после начала кампании по реабилитации заключенных уволился из Печорлага, поступил на курсы водителей и начал работать шофером.
1957 … 1958
Вновь призван на срочную службу, вернулся к работе инструктором служебной собаки в Печорлаге. Через год уволен в запас по сокращению штатов.
Работал шофером.
Живет в Печоре.
Я с Кубани, когда война началась, мне 17 с половиной лет было, а вот нужно для родины, и пошел на войну.
Ростом я был метр 35, весом 32 килограмма. Винтовка выше, чем я. Какое мне оружие давать? Дали автомат. Пол-Украины прошел. Меня бьют, убивают, а я целый. Наверное, что малый. Шустрый, шустрее, чем пуля летит. Войну я кончил в Германии, город Вальденбург.
После войны наш полк расформировали, нас назад отогнали, на родину. Меня оставили в армии. Рассказали: так и так, вы будете сопровождать эшелон арестованных. Конвойные войска.
Сырая собака
Посадили нас 50 человек в поезд с заключенными. Едем, едем… На третий день спрашиваю: куда везете? «В Печору, куда!» Заключенных взяли на пересыльный пункт, нас оставили в вагонах жить. Потом приходят офицеры, говорят: так и так, по распоряжению начальства вы остаетесь в Печоре служить.
Ну, служить так служить. И отправился я в Печору: первый взвод, 14-й карьер.
Поставили меня на вышку. Четыре часа стоишь, мерзнешь, чечетку отплясываешь. Послужил я полгода, думаю: о, это дело дурное, ну его. А тут приезжает с Печоры инструктор сэ-рэ-сэ, служебно-разыскной собаки. Я посмотрел, как он… Сам себе хозяин, собакой занимается, никому ничего не подчинен, с заключенными общается, ловит за побег. Мне понравилась эта служба. И я пошел в собачные начальники.
* * *
Учили меня девять месяцев в Княж-Погосте. Дали собаку Салют, сырую. Когда собаке девять месяцев, считается, что она взрослая, а раньше — сырая. Мы как-то сдружились с ним.
Иван Гайдук, 1945