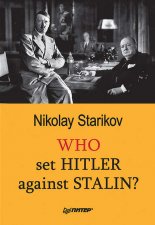Лингво. Языковой пейзаж Европы Доррен Гастон
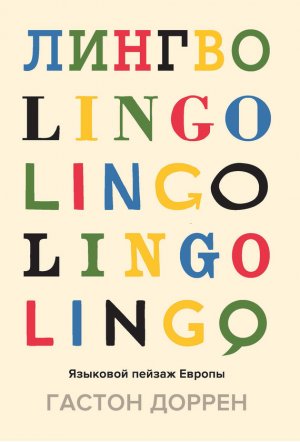
Сорбы стесняются своих артиклей: им кажется, что в порядочном славянском языке не место таким противным словечкам, как the или a. Честно говоря, славянскому – да и неславянскому – миру до этого нет особого дела. Мало кому известно, что около пятидесяти тысяч жителей юго-восточного закоулка бывшей ГДР говорит не на немецком, а на языке, похожем на чешский и польский и называющемся сорбским. Однако для самих сорбов это важный вопрос самоидентификации.
Стиснутые со всех сторон немцами, сорбы хотели бы, чтобы их язык звучал так же, как языки их славянских братьев. А в чешском и польском артиклей нет. И все-таки чешский и польский часто используют слова jeden (один) и ten (тот). Строго говоря, это не артикли. Один – это числительное, а тот – указательное местоимение. Но числительные и указательные местоимения – это как раз такие слова, которые с течением времени могут превратиться в артикли. Английский артикль the начал свою жизнь как указательное местоимение мужского рода (that было его близнецом среднего рода), а старым обозначением для слова one (один) было слово an, которое произносилось так, что рифмовалось со словом rain, но уже смахивало на артикль, в который оно позже и превратилось. Аналогично во многих романских языках неопределенный артикль мужского рода un произошел от латинского числительного unus (один), а определенный артикль женского рода la произошел от латинского указательного местоимения illa (та). Даже в наше время артикли не всегда легко опознать. Une maison (французский), una casa (итальянский и испанский), ein Haus (немецкий): все это может значить и (некий)дом и один дом – в зависимости от контекста. Аналогично, das Haus – это не только (конкретный) дом, но и тот дом, хотя в последнем случае скорее скажут das Haus da (этот дом там). Коротко говоря: границы размыты.
В Восточной Германии сорбская культура и язык были возрождены после многих лет притеснений во времена фашизма.
Числительное или местоимение не превращается в артикль в одночасье. Проходят столетия, в течение которых слово постепенно становится все больше похожим на артикль. В английском, французском и многих других западноевропейских языках этот процесс уже завершился. А в чешском и польском – нет. В этих языках слова один и тот употребляются намного чаще, чем в русском (еще один славянский язык), но реже, чем артикли в английском, немецком и французском. Причем в чешском и польском эти слова обычно можно опустить, и предложение от этого не станет неправильным. В языках с настоящими артиклями, например в английском, артикли обязательны. Так что словам один и тот в чешском и польском еще только предстоит превратиться в настоящие артикли.
А в сорбском? Зависит от обстоятельств. В книгах, переведенных столетия назад, всюду, где в немецком стоял определенный артикль, писали ton (тот). В те времена это звучало совершенно нормально. И в современной разговорной речи это по-прежнему так. Другими словами, сорбское указательное местоимение тот находится на пути к превращению в артикль. Более того, если нынешние сорбы хотят использовать тот как указательное местоимение, они часто говорят: тот там, чтобы отличить такой случай от обычного использования слова тот в качестве артикля. Но официальная точка зрения сорбов заключается в том, что в славянских языках артикли неуместны. В результате культурные сорбы (назовем их «снорбами») на письме избегают артиклей. Про конкретного учителя они говорят ton wuer, но пишут просто wuer, без слова ton.
Самое смешное, что сорбы ошибаются. Неправда, что в славянских языках нет артиклей. Раньше их действительно не было. Две тысячи лет назад их не было почти ни в одном европейском языке – только древние греки, по своему обыкновению, обгоняли время. Но с тех пор многие языки вырастили у себя артикли. Первыми это сделали романские языки, потом, наступая им на пятки, германские, а чуть позже к ним присоединилось и несколько славянских языков: болгарский, македонский и, по-видимому, сорбский. С этой точки зрения сорбский на шаг впереди польского, чешского и русского. Артикли – признак прогресса! Сорбам пора отбросить смущение и с гордостью представить свои артикли на всеобщее обозрение.
Слово quark – для обозначения творога – пришло из немецкого, который заимствовал его из сорбского. То же самое слово для обозначения элементарной частицы было придумано американским физиком Марри Гелл-Манном отчасти под влиянием предложения из книги Джеймса Джойса «Поминки по Финнегану», а отчасти – как предполагается – из-за его значения сыр, поскольку его родители были носителями немецкого.
Swjatok – время развлечений, наступающее после конца рабочего дня. Немцы называют его Feierabend (праздничный вечер).
32
От нашего корреспондента из Vaingtona
Латышский
Французский лидер военного времени Sharrl de Goal был большим поклонником знаменитого романа Don Kihotay (автор Megell de Therbahntess), а фашистский военный руководитель Hairmon Gurring предпочитал Daycahmayron (автор Jovannee Bowcahchow). Так мог бы написать десятилетний ребенок, и ему мы бы простили неумение справиться со словами Charles de Gaulle, Hermann Gring, Miguel de Cervantes и Giovanni Boccaccio. От взрослых, не страдающих дислексией, можно ожидать большего, если, конечно, это не составители туристических разговорников, стремящиеся передать звучание иностранных слов. Но в Латвии такого рода написания приняты официально. Латышам хорошо знаком и arls de Golls, и Dons Kihots, и его автор Migels de Servantess. Ими не забыт ни Hermanis Grings, ни его любимая книга Dekamerons, которую написал Dovanni Bokao.
Читая латвийские газеты, можно подумать, что все в мире названо по-латышски. Все названия пишутся по-латышски и снабжаются латышскими суффиксами: у большинства мужских имен на конце добавлено s, а у женских e или a. Даже James Jones пишется Deimss Donss с двойным s, потому что иначе подумают, что его зовут Deim Don (Jame Jone). То же происходит и с географическими названиями: Maskava, Neapole, Minhene вместо Moscow, Naples, Munich. Конечно, во многих языках принято переводить названия известных городов: Moscow, Naples и Munich в своих странах называются Москва, Napoli и Mnchen. Но в латышском это делают с названиями всех городов: Kembrida, Jorka (и ujorka), Oslas, Leipciga, ksanprovansa и т. д. (Cambridge, York, New York, Oslo, Leipzig, Aix-en-Provence). Страшно представить себе, в каком виде появляются в латвийских газетах менее известные названия, такие как Auchinlek, Beaulieu, Tideswell или Ulgham. Будем надеяться, что о них просто не пишут.
Латыши далеко не одиноки в своей привычке все переводить. В соседней с Латвией стране, Литве, язык родствен латышскому, и литовцы делают то же самое, хотя уже не так рьяно, как в прошлом. Сейчас уже вместо Margareta Teer скорее напишут Margaret Thatcher. Но у латышей есть единомышленники и на другом краю Европы: албаноязычные журналисты пишут о Margaret Theer и Xhorxh W. Bush. Чешская Республика и Словакия тоже не чураются подобной практики. Мужские фамилии там не меняют, но иностранкам приделывают те же суффиксы, что и чешкам со словачками: Margaret Thatcherov, J. K. Rowlingov. Только самые известные женщины мира – Britney Spearsov, Jennifer Lopezov и Cline Dionov – иногда могут избежать суффикса -ov.
На самом деле когда-то вся Европа так делала, но постепенно от этой привычки избавились. Вот, например, знаменитый римский поэт Ovidius. По-английски его называют Ovid, а в других местах по-разному: Ovide, Ovidio, ivid, Ovidijus, Ovidiu, Ovidi, Ovidije, Owidiusz и Ovdijs. Имена королей тоже долгое время переводили: Charlemagne в других местах известен под именем Karl den Store, Carlos Magno, Carol cel Mare, Kaarle Suuri и т. п. Или вот деятель XVI в., выходец с севера Франции – Jehan Cauvin. На нормативном французском его стали называть Jean Calvin. В остальной части Европы его имя заменяют местной версией (типа John, Jn, Giovanni, Johannes или Jehannes), а фамилию творчески перерабатывают: Calvino, Calv, Calvijn, Cailvn, Kalvyn, Kalwin, Kalvinas и Kalvinos.
По мере усиления контактов между странами и людьми этот обычай стал отмирать. К концу XVIII в. имена таких людей, как американский президент George Washington, стали локализовать гораздо реже. В немецкой биографии, переведенной с английского в 1817 г., его называли Georg Waschington, но в наше время ни одному немцу не пришло бы в голову так написать. В регионах, где говорят на романских языках, до сих пор можно встретить улицы XIX в., названные в честь Georges, Jorge или Giorgio Washington. В его времена Восточная Европа гораздо меньше контактировала с Западом, чем теперь, поэтому фамилию президента приходилось локализовать: Dord Vaington (по-хорватски), Jerzy Waszyngton (по-польски). В Албании такое практикуется и сейчс: в ее столице есть улица не только Xhorxh Uashington, но и Xhorxh Bush. Литовцы пошли на шаг дальше, добавив суффиксы: Dordas Vaingtonas. Но всех переплюнули латыши: человека зовут Dords Vaingtons, а город, названный в его честь, – Vaingtona. Они просто жить не могут без своих суффиксов.
В английском нет заимствований из латышского.
Aizvakar – латышский – один из многих языков, где есть специальное слово со значением «позавчера» (в английском раньше тоже было такое слово ‘ereyesterday’). А вот специальное слово типа «позапозавчера» встречается гораздо реже. В латышском это: aizaizvakar (буквально: до-до-вчера).
33
Эти сладкие и гадкие малышки
Итальянский
По-итальянски женщина – donna. Это легко запомнить, но чаще всего она не просто donna. Она сплошь и рядом украшена еще хвостом из дополнительных букв, превращающих ее в donnina, donnetta или donnicina (это лишь самые распространенные варианты). И если слово от этих суффиксов становится длиннее, то описываемая им женщина часто уменьшается. Хотя иной раз суффиксы делают ее привлекательнее или показывают, что говорящий не принимает ее всерьез или считает безобразной. Если итальянку награждают гирляндой суффиксов, она прекрасно понимает, что это не просто украшение.
Итальянцы тут не составляют исключения, исключительным – по сравнению с их соседями – является их энтузиазм в этом вопросе. Слова типа donnina называются уменьшительными и используются по всей Европе, кроме Скандинавии. В английском, однако, их совсем мало, хотя суффикс -ie и используется для образования уменьшительных типа: Ronnie (Ронни), hottie (милашка), sweetie (дорогуша) и т. п. Кроме того, в английском есть множество старых уменьшительных, таких как kitten (котенок), darling (душечка), towelette (полотенчико) и buttock (маленький зад – точнее, зад половинного размера). Но нет стандартного механизма для порождения новых уменьшительных. А в итальянском таких механизмов тьма.
И это довольно странно. Итальянский явно вырос из латыни – само слово diminutivo (уменьшительное) латинское – но в отличие от современных итальянцев у древних римлян не было такого изобилия уменьшительных. У их слова женщина – femina – было всего одно уменьшительное – femella, от которого произошло английское слово female. Другое слово для обозначения женщины, точнее, дамы, госпожи – domina (источник слова donna) обладало уменьшительным dominula. В латинском языке у каждого существительного было одно уменьшительное – не то что в современном итальянском.
Это сильно осложняет жизнь итальянским лексикографам. Составителям латинских словарей достаточно просто поставить пометку уменьш. – и дело в шляпе, а итальянским лексикографам приходится пускаться в подробные объяснения. Например, слово donnicciuola обозначает – как написано в знаменитом словаре XIX в. Томассео-Беллини – женщину ограниченного ума, а слово donnettaccia отражает презрительное отношение говорящего. Слово donnicciuoluccia, напротив, описывает очень миниатюрную женщину и само по себе не является оскорблением, хотя иной раз и звучит оскорбительно. Эти три последних слова несколько устарели, но формы, упоминавшиеся до этого – donnina, donnetta и тому подобные, – все в ходу, и у каждой свои нюансы. Тем не менее все они просто называются уменьшительными – название, которое никак не отражает ни их изобилие, ни смысловые оттенки.
Bella! Bella! Bellissima! (Красавица-раскрасавица!) Актриса Джина Лоллобриджида в 1960-х
Gina Lollobrigida: Wikimedia.
Помимо вороха уменьшительных (некоторые устаревшие или региональные, другие – живые и широко распространенные) в итальянском имеется и прорва так называемых увеличительных – слов, обратных по смыслу к уменьшительным; они обозначают большую величину или свойства, с ней связанные. Если в английском увеличительные образуются с помощью префиксов, таких как super-, mega-, hyper– и так далее, в итальянском гораздо больший арсенал увеличительных образуется с помощью суффиксов.
Так слова donnona, donnone и donnotta – все обозначают женщину внушительных габаритов, но при этом не являются полными синонимами: donnotta – большая и нескладная, но не обязательно мужеподобная в отличие от donnona и, конечно, не такая массивная, как donnone, которая может иметь и фигуральный вес: солидная дама. Увеличительные – не уникальная особенность итальянского: они встречаются в большинстве романских языков, во многих славянских, а также в греческом. В других языках тоже, конечно, есть способы указать на большие размеры, но нет целой кучи специальных суффиксов.
Помимо уменьшительных и увеличительных в итальянском есть еще dispregiativi (уничижительные) и vezzeggiativi (ласкательные). Трудность в том, что иногда они мало чем отличаются от уменьшительных. Donnetta может быть просто маленькой, но не исключено, что говорящий одновременно хочет этим словом выразить свою к ней нежность или снисходительность. Donnuccia иногда просто мала ростом, а иногда – настоящая заноза. Бывает, что к основе donna– приделывают один за другим целую цепочку суффиксов, при этом один может отражать скромные размеры, а другой – плохой характер. Вот, к примеру, donnettaccia: ett делает ее маленькой, а acci – противной. В других случаях все указывает на неприятности: donnacchera, donnaccia и donnucciaccia – сплошная головная боль.
У всех ли итальянских существительных столько разных форм? Вообще-то нет: для большинства слов в ходу лишь ограниченное количество производных. И это заставляет задуматься: почему языку потребовалось так много разных средств для принижения своих женщин? Обычное (и обычно наилучшее) объяснение любого кажущегося перекоса в языке: это дело случая. Однако достаточно часок посмотреть итальянское телевидение воскресным вечером, чтобы понять: этот случай знает, что делает.
Многие итальянские слова можно опознать с первого взгляда, например: spaghetti (спагетти), libretto (либретто) и portico (портик). Менее очевидные заимствования – это bank (банк), arsenal (арсенал, итальянизированное арабское слово) и manage (управлять).
Ponte – буквально означает мост, но так называют еще понедельничный или пятничный отгул, если он соединяет праздничный день с выходными конца недели.
34
Снежная буря в стакане воды
Саамский
Сколько у саамов[6] слов для обозначения снега?
Одно время ошибочно считалось, что у другого известного северного народа – инуитов – десятки или даже сотни слов для обозначения снега. Такое заявление сделал Бенджамин Ли Уорф – талантливый, хотя и склонный к мистицизму лингвист – в одном из выпусков неакадемического журнала «Обзор технологий» (Technology Review) 1940 г. Он не потрудился указать, о каком именно инуитском языке говорит (был ли это гренландский, инуктитут или еще какой-то?), но в любом случае его открытие было полностью развенчано в 1991 г. в статье Джеффри Пуллема под названием «Великий эскимосский словарный обман». В исследовании Пуллема опровергалась снежная специфика множества эскимосских слов: оказалось, что igluksaq значит не снег для постройки иглу, а просто – строительный материал, аналогично saumavuq – это не пкрытый снегом, а просто – покрытый. И так далее. Согласно Пуллему, «изданный в 1927 г. словарь западногренландского эскимосского языка дает всего два имеющих отношение к делу корня: qanik (со значением снег в воздухе или снежинка) и aput (со значением снег на земле)». В более поздней статье Пуллем указал еще два снежных термина этого языка: piqsirpoq (перемещающийся снег) и qimuqsuq (перемещение снега). Больше пока ничего не нашли.
Ага, можете подумать вы, значит, у людей, живущих в снегу, не больше слов для его обозначения, чем у всех остальных. У инуитов – нет, и у саамов, скорее всего, тоже, ведь у британцев нет десятков слов о дожде, несмотря на их пожизненное тесное сосуществование. Есть, конечно, выражения, связанные с дождем, такие как driving rain (проливной дождь) и его более красочный синоним raining cats and dogs. Но существенно разные слова? Их список практически ограничивается словами: shower (дождь), drizzle (морось), downpour (ливень) и deluge (поток).
Однако опубликованная в 1989 г. книга Эркки Итконена, казалось, опровергала опровержение Пуллема.
Итконен составил словарь инари-саамского языка Inarilappisches Wrterbuch. Этот язык, на котором говорит всего несколько сот людей, содержит около двадцати слов для обозначения различных видов снега. Не подумайте, что я его читал, – моему любопытству есть пределы, – но его прочел авторитетный лингвист Харальд Хаарманн: именно он извлек из словаря Итконена список саамских «снежных» слов.
Двадцать инари-саамских «снежных» слов:
ining – свежевыпавший на голую землю снег, который позволяет отслеживать жизнь дикой природы;
ceeyvi – снег, настолько затвердевший от сильного ветра, что олень не может добывать из-под него пропитание;
cuanguj – заледеневшая корка снега;
earga – тонкий твердый слой снега, образовавшийся в результате того, что ветер сдул верхний слой снега, а лежащий под ним снег уплотнился;
yehi – лежащий непосредственно на земле твердый слой льда, который образовался в результате замерзания осеннего дождя;
kamadoh – твердая корка весеннего снега, которая треснет, если проехать по ней на санях;
kola – твердое и гладкое снежное поле;
lavkke – снег, выпавший поверх наледи, настолько гладкий, что копыта оленей скользят по нему;
muovla – очень мягкий снег, в который проваливаются лыжи;
purga – слабая метель;
rine – толстый слой снега на ветвях деревьев;
seeli – полностью мягкий снег – от самого верхнего слоя до самого низа;
senjes – чистый снег, который стал старым, ломким и крупнозернистым под слоем нового, твердого снега;
sklvi – высокий, твердый, крутой снежный сугроб;
syeyngis – снег, достаточно мягкий для того, чтобы пасущийся олень мог его раскопать;
letta – мокрый, тающий снег;
ohma – жижа поверх льда;
olkka – утоптанный, твердый снег;
vasme – тонкий слой свежего снега;
vocca – свежий снег, настолько рыхлый, что его сносит ветер.
Так что на самом деле? Действительно ли kamodah означает твердую корку весеннего снега или это просто корка, независимо от того, на чем и из чего она образовалась? Аналогично, syeyngis – это действительно мягкий снег или просто любая пастообразная субстанция, будь то грязь или сметана? Короче говоря, являются ли определения Итконена, выписанные Хаарманном, более точными, чем те, что раскритиковал Пуллем?
Чтобы это узнать, нужен специалист по финно-угорским языкам, таким как финский, эстонский, саамский и венгерский. Великий Итконен был как раз таким специалистом, но его больше нет с нами, поэтому я послал запрос по электронной почте его известному ученику Пекке Самалахти из города Оулу, расположенного на севере Финляндии.
В одном отношении Самалахти меня успокоил: все двадцать слов действительно прямо связаны со снегом. Но затем, как и положено специалисту, он начал делать всяческие оговорки:
Какой термин следует считать снежным? Ведь есть бесчисленное базовое множество терминов, описывающих качество снега. Затем есть менее важная группа, которая описывает всяческие снежные образования, третья – снег в движении, четвертая – стадию перехода снега в лед, пятая – стадию перехода в воду и шестая – различные типы поверхностей, покрытых снегом.
Но ведь если так рассуждать, то и в английском куча слов связана с дождем. Например, puddle (лужа), drop (капля) и, возможно, даже mist (туман) и spray (брызги) можно считать дождевыми образованиями, splash (всплеск) и flood (поток) – это дождевая вода в движении, sleet (гололед) – переход дождя в снег, slush (шуга) – переход снега в воду, а pond (пруд), creek (бухта), canal (канал), lake (озеро) и lagoon (лагуна) – это все поверхности, покрытые дождем.
Можно сделать вывод, что существует большое сходство между наборами слов, которыми английский и инари-саамский описывают те явления, с которыми часто сталкиваются их носители. (Возможно, это верно и в отношении инуитских языков, но если вы собрались спорить с Пуллемом – флаг вам в руки.) Разница только в том, что у англичан речь идет о прохладных, мокрых и прозрачных объектах, а у саамов – о замерзших, белых и непрозрачных.
Саамские языки дали миру одно слово – tundra (тундра), его проводником был русский.
Наверное, заимствовать все двадцать саамских снежных слов было бы слишком опрометчиво, хотя лыжники бы обрадовались.
35
Расшифровка языка чисел
Бретонский
В бретонском – кельтском языке, на котором говорят в Бретани, – считать легко. Зато вычислять практически невозможно.
Для счета ведь не нужны реальные числа – нужны просто слова, которые называют числительными: начинаешь со слова один, потом идет два и т. д., пока не дойдешь до несчетного. Во всех европейских языках есть слова для обозначения сотни и тысячи, с которыми можно далеко уйти. Для понятия ноль донаучные языки использовали слова ничего или нисколько, а слово миллион, которое тоже появилось относительно недавно, буквально означает большая тысяча. Оно образовано от итальянского слова mille (тысяча) добавлением суффикса -one (большой). В конце XIII в. рассказ Марко Поло о его путешествиях называли Il Milione, возможно, намекая на склонность автора к преувеличениям. Некоторое время спустя это слово приобрело более точное значение тысячи, умноженной на тысячу. Потом потребовалось слово для описания еще большего числа, и родилось слово миллиард. Затем – триллион и множество других слов, которыми щеголяют ученые. Это был путь в сторону великого несчетного – бесконечности.
Менгиры в Бретани. Считать их лучше на французском, чем на бретонском.
В любом случае числительные – это ведь числа, записанные словами, верно? Три – это просто 3, а девять – 9? И разве в числительных не повторяется логика чисел, устремленных справа налево – от единиц к десяткам, сотням и т. д.? В конце концов, в числе семьдесят восемь явственно видны цифры 7 и 8. Правда, в английском есть исключения: eleven (11) и twelve (12), а слова от thirteen (13) до nineteen (19) вывернуты наизнанку, но в целом числительные полностью соответствуют числам. Однако во многих других языках этого соответствия нет, и числительные звучат совсем не так, как подсказывает их цифровая запись.
Взять хот французский с его пресловутым quatre-vingt-dix-huit (четыре-двадцать-десять-восемь), означающим 98. Или датский с его загадочным otteoghalvfems (восемь-и-половина-пятой), которое нужно интерпретировать как восемь и пять без половины, умноженное на двадцать, чтобы получить 98, вот так: 8 + ((5 – ) 20). Причем это числительное нельзя даже назвать экзотическим – в датском они все такие.
Но из всех европейских языков, где числа и числительные не согласованы, бретонский, должно быть, самый трудный. Начнем с того, что в основе его системы лежат двадцатки: 45 – это не сорок пять, а пять и две двадцатки, а 77 – это семнадцать и три двадцатки. Причем не все так гладко: например, 35 – это просто пять и тридцать, а 50 – половина сотни.
Нам не так-то просто сложить в уме семьдесят семь и пятьдесят девять, но наши числительные, по крайней мере, помогают представить себе их цифровую запись. А бретонцам-то каково! Семнадцать и три двадцатки плюс девять и полсотни! И нельзя сказать, что это самый душераздирающий пример. Если вам захочется как следует помучить бретонца, попросите его сложить семьдесят восемь и пятьдесят девять. По-бретонски первое число – это три-шесть-и-три-двадцать. То есть вы просите бретонца вычислить (3 6 + 3 20) + (9 + 100) в уме без помощи таких чисел, как восемнадцать и шестьдесят, потому что в бретонском их нет. Вот почему в бретонском считать легко, а вычислять трудно.
Интересно сравнить бретонский с его кельтским кузеном – валлийским. В традиционной валлийской системе счета свои хитрости: 77 – это два-на-пятнадцать-и-три-двадцать, 78 – два-девять-и-три-двадцать, а 79 – четыре-двадцать-минус-один. Но в какой-то момент валлийцы приняли мудрое решение использовать эти числительные только для того, для чего они были придуманы: для обозначения чисел. А при вычислениях они используют другие слова. Если попросить валлийца сложить семьдесят семь и семьдесят девять, то он скажет (по-валлийски): семь-десять-семь (7 10 + 7) и семь-десять-девять (7 10 + 9). Логичней этой системы уже ничего не придумаешь. Так даже лучше, чем во втором для валлийцев языке – английском. Достойный пример для подражания. Последуют ли ему бретонцы? Я бы на это не рассчитывал.
Bijou (безделушка) и menhir (менгир) попали в английский из французского, который заимствовал их из бретонского.
Startijenn – всплеск энергии, который получаешь, например, от чашки кофе. Возможно, производное от английского start.
Часть 6
Как по писаному
Языки и их грамматики
Большинство языков в отличие от английского забиты разной грамматической заумью. Почти во всех есть понятие рода, которое может приводить к путанице (нидерландский), и во многих есть падежи (цыганский). Некоторые без конца спрягают глаголы (болгарский), а некоторые страдают от таких недугов, как мутации (валлийский) или эргативность (баскский). Но есть язык, у которого всем остальным стоило бы поучиться: это украинский, имеющий в запасе завидную грамматическую уловку.
36
Половые извращения
Нидерландский
Представьте себе такой диалог: Ze heeft mooie poten. – Ja, heeft-ie. В переводе с нидерландского он звучит так: «У нее хорошие ножки. – Да, мне его ножки нравятся».
Кажется, что собеседники не поняли друг друга. Но если один из них из Бельгии, а другой – из Голландии, то все могло быть именно так, при условии, что они восхищаются ножками не человека, а, допустим, стола.
Причина в том, что нидерландский принадлежит к числу языков, в которых, как выразился один американец, «кажется, что у всех предметов выросли гениталии». Иными словами, у каждого существительного есть род, даже у чашки кофе. Чашка кофе, кстати, имеет в нидерландском разные роды: kop koffie – мужской, маленькая kopje koffie – средний, а употребляемая в основном в Бельгии – tas koffie – женский. Tafel (стол) в Бельгии слово женского рода, а в Нидерландах по большей части мужского. Отсюда мешанина в нашем маленьком диалоге. И в то же время model (модель) в нидерландском всегда имеет средний род, идет ли речь о «ягуаре», Наоми Кэмпбелл или Дэвиде Ганди.
Нидерландская модель Даутцен Крус. По правилам родного языка – существо среднего рода.
Doutzen Kroes: fervent-adepte-de-la-mode/flickr.
У нидерландского существительного есть род – что это значит? Ничего. В данном контексте род – всего лишь грамматическая характеристика, которая, грубо говоря, задает две вещи: выбор определенного артикля и выбор местоимения. В то время как все английские существительные спокойно обходятся одним артиклем the, их нидерландские напарники используют либо de (для мужского и женского рода), либо het (для среднего): de kop, de tas, de tafel, het kopje, het model. В те далекие времена, когда годы еще были трехзначными, древнеанглийские существительные тоже имели род, но для современных англичан все эти половые извращения – лишь досадное препятствие, когда они пытаются выучить нидерландский, французский, немецкий или еще какой-то из множества европейских языков.
Что касается местоимений, то в английском it может относиться почти к любому единичному объекту, который не дышит. Есть некоторое количество исключений, как в предложениях fill her up (налей полный бак) или Britain calls upon her sons (Британия призывает своих сыновей), но это именно исключения. В нидерландском не так: нидерландские местоимения должны соответствовать роду существительного, к которому относятся. Так что одна и та же чашка кофе может стать он, она или оно (hij, zij или het), в зависимости от того, какое существительное удосужился выбрать говорящий (kop, tas или kopje).
Но если носители древнеанглийского соблюдали свою систему с религиозным фанатизмом, а немцы и сейчас так делают, то носители нидерландского не слишком дорожат родами местоимений. В Нидерландах, кажется, царит полная гендерная анархия, хотя к Бельгии и пограничным с ней областям Нидерландов все, что описано ниже, не относится.
Если вы укажете на это в компании нидерландцев, они, скорее всего, возразят, что следуют традиционным правилам, хотя и слегка модифицированным. Они могут признаться, что в отношении женских и мужских моделей используют местоимения она и он, а не оно. А наиболее чуткие в языковых вопросах люди могут даже сказать, что многие слова женского рода – такие как tafel и school – сменили свой пол на мужской. Но анархия? Да ни в коем разе!
В какой-то мере они правы – это не совсем анархия. Суть в том, что нидерландцы полностью отменили старые правила, особенно в устной речи, но они настолько ослеплены тем, что когда-то выучили в школе, что понадобился лингвист иностранного происхождения – Дженни Аудринг, одна из тех, кто участвовал в создании этой книги, – чтобы разобраться в происходящем. Она открыла, что в нидерландском языке произошла настоящая смена пола.
Итак, вот что случилось. Слово она теперь используется применительно к очень узкой категории: это живые существа, в чьей принадлежности к женскому полу говорящий абсолютно уверен. Сюда относятся все женщины и знакомые самки животных: домашние питомцы, лошади или – для фермеров – овцы, коровы и свиньи. В общем-то, почти как в английском.
Но в отличие от того, что происходит в англоязычном мире, у нидерландцев существительные из неживого мира отнесены не к среднему, а к мужскому роду: власть захватило не местоимение оно, а местоимение он. Вопреки традиционным правилам все одиночные объекты теперь именуются он: чака кофе, самолет, атом, планета – все что угодно. Мужчины и все остальные живые существа, которые не продемонстрировали свою женскую суть, тоже отнесены к этой категории – вопиющий факт лингвистического сексизма. Третье же, и последнее, местоимение единственного числа – оно – теперь относится только к так называемым неисчисляемым существительным типа вино, багаж, информация и абстрактным понятиям, таким как радость, честность и снова информация.
Конечно, в любом языке есть некоторое расхождение между тем, что слышно на улицах, и тем, что занесено на скрижали словарей и учебников грамматики. Поскольку все языки находятся в непрерывном движении, так называемые правила никогда полностью не соответствуют реальности. Например, английские грамматисты старой школы скажут вам, что местоимение they – это местоимение третьего лица множественного числа и именно так его всегда надлежит использовать. Однако в устной речи им уже давно заменяют местоимения единственного числа, чтобы избежать указания на пол в таких, например, предложениях: Any English speaker will tell you that they have used “they” in this way (любой носитель английского скажет, что они в этом случае говорят «они») вместо Any English speaker will tell you that he has used “they” in this way (любой носитель английского скажет, что он в этом случае говорит «они»). Со временем такое употребление будет признано официально.
В итоге для нидерландских писателей настали трудные времена. Каждый раз, когда им надо написать он, она или оно, им приходится хорошенько подумать. Как лингвиста меня восхищает наблюдение Дженни Аудринг, что мой родной язык меняется прямо на глазах. Но как писатель я расстроен, потому что я теперь знаю, что в нидерландском языке есть два разных набора правил – одни действуют на улице, другие зафиксированы в словарях, – и каждый раз за письменным столом я вынужден выбирать между ними. Сплошное мученье!
Страны Бенилюкса экспортировали в английский огромное количество слов – триста с гаком – от beleaguer (осаждать), cruise (круиз) и coleslaw (разновидность салата) до plug (пробка), easel (мольберт) и smuggler (контрабандист).
Uitwaaien – отдыхать, отправившись в ветреное, а также часто холодное и дождливое место. Поскольку британцы, как и нидерландцы, склонны именно к такому – весьма своеобразному – отдыху, это слово им бы пригодилось.
37
Падение и взлет падежей
Цыганский
Многим носителям английского изучение иностранных языков особенно трудно дается из-за падежей. Хочу вас обрадовать: конец этих тварей не за горами. Скорость их исчезновения в разных языках различна, но сам факт очевиден, как очевидно, что вода всегда стекает вниз: они отмирают. По крайней мере, в индоевропейской семье.
Рассмотрим некоторые примеры. Для слова волк в латинском языке были падежные формы lupus, lupi, lupo и так далее. Но в его прямом потомке – французском – осталась только одна форма: le loup. В древнегерманском было wulfaz, wulfasa, wulfan и так далее – в общей сложности шесть форм, а в современном немецком осталось только четыре из шести, причем в устной речи используется, как правило, не больше трех (der Wolf, dem Wolf и den Wolf – обратите внимание, как падежное окончание переместилось от существительного к его артиклю), а в некоторых диалектах – всего два. На письме встречается еще вариант des Wolfes (волка, волчий), но в устной речи эта форма (единственная уцелевшая в английском!) напоминает голос с того света.
Цыганский гитарист Жан Рейнхардт (Джанго). На цыганском джанго значит я просыпаюсь, но весьма сомнительно, что это имя имеет цыганские корни.
Django Reinhardt: William P. Gottlieb/US Library of Congress.
К северу, западу и югу от ареала немецкого языка падежи встречаются очень редко. Их сохранила лишь горстка мелких языков на холодном северо-западе Европы: исландский, фарерский, шотландский гэльский и ирландский гэльский, причем в Ирландии они исчезают. Однако к востоку от немецкоговорящих регионов падежи по-прежнему широко распространены. Только болгарскому и македонскому удалось от них (почти) полностью избавиться. Во всех остальных славянских языках, а также в албанском, армянском, латышском и литовском сохраняется по 6–7 падежей, а румынский и греческий цепляются за оставшиеся у них 3–4.
Однако и на востоке видны признаки упадка. Начнем с того, что ни в одном из перечисленных выше языков не сохранились все восемь падежей, которыми кичился праиндоевропейский язык пять тысяч лет назад. Из многих языков уходит вокативный падеж (форма обращения, подобная латинскому amice – что-то вроде Hey man!). А некоторые падежи становится все труднее различать. Допустим, в чешском разные падежные формы часто совпадают: к примеру, слово ndra (вокзал) используется в качестве шести падежных форм единственного числа и четырех множественного. Нельзя сказать, чтобы это добавляло ясности. И хотя в Центральной и Восточной Европе падежи еще живехоньки, поток неуклонно движется в одном, и только в одном, направлении: с падежно-изобильного пика к беспадежному водоему у его подножия. Предсказываю: через двадцать – максимум тридцать – поколений все эти языки достигнут океана беспадежья.
Или это слишком смелый прогноз? Сомневаться в нем заставляет один европейский язык – цыганский, на котором говорят миллионы рома. В начале I в. нашей эры, когда его носители еще жили не в Европе, а в Индии, в нем было семь падежей. В следующие столетия их число уменьшилось до трех, в полном соответствии с нашим «законом текущей воды». Но к тому моменту, как рома потянулись на запад – примерно в районе XI в., – число падежей увеличилось до восьми. И современные цыгане, вообще говоря, сохранили эти восемь падежей.
Почему так случилось? Как бы ни раздражали носителей английского падежи, они не просто обуза. Они оказывают услугу, без которой не может обойтись ни один язык: указывают на роль слова в предложении. Например, если слово стоит в именительном падеже (lupus, der Wolf), то это подлежащее; если в винительном (lupum, den Wolf) – прямое дополнение. В некоторых языках есть специальный падеж для обозначения места (местный падеж, локатив), а есть падеж для обозначения средства (творительный или инструментальный падеж). Конечно, эту задачу можно решать и другими способами: английский, например, для этого использует фиксированный порядок слов и предлоги. В предложении Kim gives Lesley money (Ким дает Лесли деньги) совершенно понятно, кто кому и что дает. Аналогично в предложении The girl played with her ball in the garden (девочка играла с мячом в саду) ясно, с чем играют и где, несмотря на отсутствие падежей.
Но вернемся к цыганскому. Когда он отбросил четыре из семи своих падежей, он сохранил два, которые определяли подлежащее и прямое дополнение (и еще третий, но там другая история). Большинство других падежей заменились словами вроде о, с и в – т. е. предлогами. Или, точнее, послелогами, потому что их ставили после слов, к которым они относились. Так происходит и с некоторыми «предлогами» в английском: посмотрите на положение слова ago в предложении Many centuries ago, the language had three cases (много веков назад в языке было три падежа).
В итоге – и это кульминационный момент – послелоги в цыганском присоединились к существительным. Перестав быть самостоятельными словами, они стали фиксированными окончаниями существительных (т. е. суффиксами). Легко видеть, какие из этих суффиксов старые, а какие новые: три старых падежных формы короткие – phral, phrala, phrales (брат), а новые формы длинные – phraleske, phraleste, phralestar, phralesa и phraleskero. Конечо, иностранец не может понять на слух, суффикс это или отдельное слово, потому что пробелы не произносятся. Но носители языка благодаря определенным грамматическим сигналам слышат разницу между суффиксом и отдельным словом. Ни один носитель английского не подумает, что ago в archipelago (архипелаг) – это отдельное слово или что weeks ago (несколько недель назад) – это одно слово.
Реки никогда не текут вверх. Но языки, по-видимому, могут создавать новые падежи. Так же как вода может подняться в небо: испаряясь, она превращается в облака, которые несет ветер, выпадает в виде дождя, течет вниз, потом поднимается вверх и падает вниз, все снова и снова в бесконечном цикле. И в цыганском цикл продолжается: в некоторых диалектах «новые» падежи уже успели исчезнуть.
Pal (приятель), возможно, было заимствовано из цыганского через англо-цыганский. Тем же путем, вероятно, пришли cove (пещера), chav (гопник), rum (прилагательное странный, а не напиток ром) и lush (в значении пьяница).
Wortacha – партнер по экономической деятельности. Лишено неоднозначности, присущей английскому слову partner (партнер).
38
Долгожданный гибрид
Болгарский-словацкий
С точки зрения большинства посторонних, со всеми славянскими языками – русским, польским, словацким, болгарским и остальными – одна и та же загвоздка: они чертовски сложные. Не для малых деток, конечно, потому что те могут все. А вот для взрослых носителей германских языков вроде меня надежды почти нет.
И не потому, что славяне иначе называют вещи. Нам несложно выучить, что hand – это рука, а to pay – платить. И не в кириллице дело. Не так уж она сложна, да и потом ее использует только половина славянских языков. Нет, беда со славянскими языками – это их грамматика. Они страдают от того же, от чего страдала латынь: каждый глагол и каждое существительное требует целого моря суффиксов. Тот, кто учил латынь в школе, помнит, какая мука все эти склонения и спряжения.
Сами славяне прекрасно знают, что без них вполне можно обойтись. Несколько славянских языков уже нашли частичное решение для борьбы с наростами из суффиксов. Беда в том, что все пошли разными путями. Славянский мир богат хорошими идеями, но скуп на обмен информацией.
Чтобы открыть славянские языки для множества неславян, я попробую ускорить процесс. Здесь под моим руководством мы начнем скрещивать два языка: болгарский и словацкий. Выбор языков, смею вас уверить, довольно произвольный, но не совсем: оба прошли по пути упрощения дальше, чем, допустим, белорусский или сербохорватский. Гибрид назовем слогарским. Стремясь выбрать лучшее из обоих языков, мы включим в него по два полезнейших свойства каждого и получим идеальный славянский язык. Остальные – украинский, словенский и другие – могут последовать этому примеру.
Здесь слогарский пойдет по стопам болгарского. В словацком и почти во всех остальных славянских языках у каждого существительного есть 6–7 различных падежных окончаний в единственном числе и еще 6–7 – во множественном. Если бы даже эти 12–14 окончаний были общими для всех слов, этого уже хватило бы с лихвой. Но на самом деле здесь царит несуразный разнобой: словам мужского, женского и среднего рода требуются разные суффиксы, слова, кончающиеся на одну букву, получают не те суффиксы, что слова, кончающиеся на другую, одушевленные предметы (т. е. названия живых существ) получают иные суффиксы, чем неодушевленные, а еще есть слова, которые не следуют вообще никакому правилу.
А вот болгарский вырвался из этого хаоса столетия назад. О тех страшных временах напоминает лишь его форма обращения – вокативный (звательный) падеж. Зато словацкий, который в целом так же богат падежами, как и другие славянские языки, именно от звательного падежа избавился. Так что и слогарскому нет оснований оставлять звательный падеж. Итак: падежей у нас вовсе не будет!
В словацком и большинстве других славянских языков артиклей нет. Это не катастрофично, но носители германских языков привыкли к артиклям, без этих уютных частиц им все время будет чего-то не хватать. Поэтому в слогарском, с одной стороны, останутся артикли, которые есть в болгарском. Там они стоят после существительных – к этому придется привыкнуть. С другой стороны, в скандинавских языках тоже так, поэтому такое поведение артиклей нельзя назвать совершенно антигерманским.
В болгарском и многих других славянских языках ударение не подчиняется никаким правилам – как в английском, но еще хуже. Например, в слове мъжет (the man, мужчина) ударение на последнем слоге, т. е. на артикле!
Хуже того: слово вълна может значить – в зависимости от ударения – волна или шерсть. Это просто никуда не годится. Разве нельзя обойтись без таких ужасов? Можно. И словацкий тому пример: по основному правилу ударение ставится на первом слоге. Есть еще уточнение в отношении предлогов, но его тоже легко выучить. Вот пусть все так и будет в слогарском.
Здесь слогарский бесспорно должен игнорировать болгарский и следовать правилам словацкого. В этом вопросе словацкий (как и большинство других славянских языков) себя ограничивает: он различает прошедшее, настоящее и будущее время, вот, по сути, и все. Не то что болгарский! Болгарская таблица спряжений выглядит, как медицинская энциклопедия: аорист, перфект, имперфект, плюсквамперфект и т. п. Не говоря уж об эквиденциальности: одна форма глагола используется для передачи того, о чем вы узнали из слухов, другая – для рассказа о том, что вы логически вывели из другой информации, а третья – для выражения сильного сомнения. В английском все то же можно, разумеется, выразить различными способами, но в болгарском все эти времена, наклонения, виды и залоги сопровождаются специальными суффиксами для первого, второго и третьего лица в единственном и множественном числах, а иной раз и для мужского, женского и среднего рода. К чему такие сложности? Не стоит обременять ими слогарский.
Остаются два вопроса. Первый: какой алфавит использовать в слогарском: кириллицу или латиницу? И второй: чью лексику взять? Как человек западной культуры я, конечно, выбираю латиницу. А лексику предлагаю взять русскую, потому что там полно западноевропейских слов, включая английские, типа бизнесмен и менеджер. Но вообще-то алфавит и словарный запас не проблема. Вся трудность была в грамматике, а с ней я уже справился. Всего за один день.
В английском нет заимствований из болгарского за сомнительным исключением названия болгарской валюты – lev, которое в буквальном переводе означает лев.
Мълча – болгарское слово, означающее молчать, ничего не говорить. Это очевидный пробел в английском языке – в большинстве европейских языков есть простое слово для обозначения этого (без) действия.
39
Nghwm начинается на C
Валлийский
Хотя существуют обширные словари валлийского, при изучении языка от них мало прока.
Взять хоть глагол bod. Он имеет форму bm, что не слишком неестественно, но в число его форм входят также basai и byddwch, а еще dydyn, dwyt, doeddet, fasen, fyddan, mae, oeddwn, roeddech, rwyt, rydych, wyt и ydw, и все эти формы не найти в словаре, если не знать, что искать их надо в статье про bod. Но если уже знаешь, что это формыглагола bod, то и в словарь лезть незачем, правда?
Bod – это валлийская форма глагола to be (быть), а этот глагол стандартно имеет нестандартные формы в европейских языках: am, is, were и been тоже не очень-то похожи между собой. Кроме того, перечисленные выше валлийские формы глагола на самом деле не так причудливы, как может показаться. Они подчиняются определенной логике, просто эта логика не очевидна неподготовленному человеку. Но в этом тоже нет ничего уникального. Придет ли, например, в голову неподготовленному человеку посмотреть английское слово ate (ел) в словаре на букву e (где оно входит в статью слова eat – есть)?
Однако нельзя не признать, что ассортимент валлийских словоформ на удивление разнообразен. Вот прочли вы слово nghymoedd. Напрасно вы будете искать его в словаре. Конечно, ведь это множественное число, а у слов во множественном числе не бывает отдельных словарных статей. Последние буквы этого слова -oedd, это довольно типичный для валлийского языка индикатор множественного числа, но в этом случае для формирования множественного числа было недостаточно суффикса – гласную тоже пришлось поменять. В единственном числе гласная была не y, а w (читается oo). Сумасшедший дом? Но погодите, ведь в английском тоже так бывает: man – men (мужчина – мужчины), goose – geese (гусь – гуси).
Ладно. Убрав суффикс -oedd и заменив y на w, мы получим nghwm. Но в словаре и этого слова не видно. Почему? Потому что nghwm надо искать в статье cwm (долина) – со словом nghymoedd одна общая буква. Nghwm и cwm – это разные версии одного и того же слова, и nghymoedd является множественным числом для обеих. Не падайте духом – в скором времени все прояснится. И помните, что валлийский ни в коем случае не уникален по части странностей при образовании множественного числа. Вот русские, например, говорят стулья, а не стулы, как можно было бы ожидать. Аналогично французы в качестве множественного числа для слова oeil (глаз) используют yeux, вместо того чтобы добавить к oeil на конце s. И не будем забывать английский с его mice (мыши) вместо mouses. А в стародавние времена множественное число для слова cow (корова) было kine – вообще ни одной общей буквы!
А вот что типично именно для валлийского, точнее, вообще для кельтских языков, – это изменение согласных в начале слова. Оно носит системный характер: если у существительного или прилагательного меняется начальная согласная, то это происходит по определенным правилам. Слова, которые начинаются с с, все ведут себя в точности как cwm; те, что начинаются с p, следуют примеру pont (мост) и так далее. Но эта система не простая. В единственном числе у cwm есть три мутации (технический термин): мягкая форма gwm, носовая – nghwm и форма с придыханием – chwm. У pont тоже три: bont, mhont и phont. У некоторых слов лишь две мутации, у других – одна, а у некоторых – ни одной. Все зависит от начального звука.
Что насчет гамбургеров, кебабов или пиццы? Не все так сложно в валлийском.
Byrgyrs: Moshe Reuveni/flickr.
Можно было бы ожидать (по крайней мере, я ожидал), что у каждой из этих форм своя определенная функция. Если бы. Например, мягкая форма используется для слов женского рода, если перед ними стоит определенный артикль y. Pont – слово женского рода, поэтому форме the bridge соответствует y bont. Но cwm – слово мужского рода, поэтому форме the valley соответствует y cwm – не мягкая, а базовая форма (как в Pobol y Cwm, валлийской мыльной опере, которая выходит в эфир с 1974 г.). Если перед существительным стоит числительное один, то мягкую форму принимают только слова женского рода, а вот после числительного два так делают слова и женского и мужского рода. После dy (ваш) используется мягкая форма, после fy (мой) – назальная, а после ei – форма с придыханием, если ei означает ее и мягкая форма – если его. (Я только что прочел об этом и тут же записал. И, честно говоря, уже забыл. В голове остался один туман.) Таким образом, различные правила нанизываются одно за другим. А ведь мы еще и не приступали к глаголам, у которых своя цепочка беспорядочного порядка, порождающая все те формы глагола bod, с которых началась эта глава.
Так почему же все выходит так сложно? Как ни парадоксально, но причиной служит рационализация, рационализация и еще немного рационализации, хотя в итоге получается мучительный свод правил.
Первая рационализация связана с тем, что говорящие норовят поменять некоторые звуки, чтобы облегчить произношение. Так происходит постоянно во всех языках. В английском, например, большая часть причастий когда-то произносилась с d, почему мы их до сих пор и пишем с d. Однако в современном произношении многие из этих d оглушаются до t под влиянием предшествующего глухого звука: например, faced теперь рифмуется с waste. И наоборот, в некоторых положениях t может произноситься как d. Это нетипично для британского английского, но является нормой для американского и австралийского, в результате чего десятки пар – таких как metal (метал) и medal (медаль) – звучат идентично.
В валлийском подобная замена произошла очень давно: слово catena, латинское заимствование со значением цепь, превратилось в cadwyn, с буквой d. Древние кельты делали такие превращения, даже пренебрегая границами слов: например, в tabarna teka (честная таверна), глухая t слова teka под влиянием соседних гласных превратилась в звонкое d. (Гласные часто озвончают согласные – вот почему в США и Австралии metal может звучать как medal и почему в валлийском слове catena t превратилось в d.) Конечно, этого не происходит, когда такое слово, как teka, стоит после, например, слова eskopos (епископ), потому что после конечного глухого s нетрудно произнести такое же глухое t: eskopos tekos (окончание -os заменяет -a по грамматическим причинам, примерно как в латыни). Заметьте, что это всего лишь один пример: такого рода изменения происходят и с другими согласными, как мы уже видели в случае cwm и pont.
Затем свой вклад в хаос вносит рационализация номер два: отбрасывание безударных окончаний. Это нам тоже знакомо: именно так происходит и в английском и во французском. Вот всего один пример из многих тысяч: у слова good (хороший) было с десяток форм, включая gode, godne и godum, прежде чем его усекли до самого основания. (И правильно сделали, верно?) А когда из латыни вырос французский, старое слово bonus (с тем же значением – хороший) превратилось в bon – и для французского такое обращение с окончаниями типично. Эти изменения бесспорно упрощали английский и французский, так что рационализация давала существенные преимущества. То же и в валлийском: tabarna и teka потеряли конечные a и превратились в tafarn и teg. Теперь можно было бы ожидать, что раз tafarn кончается на согласную, честная таверна будет теперь обозначаться просто tafarn teg. Но после того, как слово teka столетиями произносилось с d из-за предшествующего a, валлийский привык к этому, и честная таверна превратилось в tafarn deg. Появившись с приливом, d осталась и после отлива. В других же случаях, когда существительное раньше не кончалось на гласную (например, eskopos), у валлийского не было стремления произносить t как d. Теперь, когда от слов оторвались окончания, eskopos tekos превратилось в esgob teg: многое изменилось, но t осталась на месте. И снова это лишь один пример: во множестве разных мест происходили различные мутации.
Финальный лоск навела рационализация номер три: правила сделались более логичными. И снова – так поступают все естественные языки: вспомните, как английский избавился почти от всех «нелогичных» форм множественного числа (eyen, namen, kine), оставив лишь несколько диковинок вроде men (мужчины) и sheep (овцы). Согласно старым, сложным правилам валлийского, глаголы вызывали мутации в одних существительных и не вызывали в других. Теперь же прямое дополнение обычно подвергается мутации, а подлежащее – обычно нет. Это определенно проще, но есть и оборотная сторона: мутации больше не облегчают произношение. И конечно, многие существительные вообще не подвержены мутациям, потому что это зависит от первой буквы (помните?), а часто еще и от рода.
Что за беда, можете сказать вы. Если люди говорят на своем языке, им совсем не обязательно понимать, как устроена его грамматика и почему так вышло. Верно, но суть в том, что последовательная рационализация привела к тому, что грамматика валлийского, насыщенная практически бесполезными правилами, делает его тайной за семью печатями для посторонних.
Последнее слово – будь оно валлийским – могло бы существовать в формах фосторонние, босторонние или мхосторонние. И подумайте о валлийских лексикографах. Вот уж федняги!
Валлийское происхождение слова penguin (пингвин), исходно означавшего большую гагарку, спорно. Coomb (ложбина) и corgi (корги) определенно заимствованы из валлийского, а возможно, что и flannel (фланель).
Cwtch – чулан под лестницей. Примечательно, что это слово означает еще и объятия.
40
Строго эргативный
Баскский
Вода течет, горы – нет. Горы подвергаются эрозии со стороны стекающей по их склонам воды, но никогда не сдвигаются с места. Индоевропейские языки похожи на воду. В течение нескольких тысячелетий они растекались почти по всей Европе (и Южной Азии) и в некоторых местах уже исчезли. За последние несколько столетий они заполонили весь земной шар, и теперь полмира говорит на индоевропейских языках: английском, испанском, португальском, французском и т. п.
А вот баскский подобен горе. Какими бы языками его не заливало – кельтскими, латынью, готским или берберским, – он тысячелетиями стоит непоколебимо. Когда-то давным-давно он, возможно, жил в окружении родственных языков, но все они давно канули в Лету. Теперь баскский – язык-остров (лингвисты называют такие изолятами): гора, выступающая из воды, среди моря индоевропейских языков.
Гора и вода: то и другое состоит из молекул, а молекулы – из атомов, но больше между ними нет ничего общего. Точно так же баскский и индоевропейские языки состоят из слов, а те из фонем, но во всем остальном они полностью различны. Одно из наиболее удивительных свойств баскского языка называется эргативностью. Представьте себе такую картинку: после некоторого колебания я звоню Дженни по телефону. Коротко говоря: I hesitate. I call her. (Я колеблюсь. Я звоню ей.) На баскском эти предложения будут выглядеть несколько иначе: I hesitate. Me calls she. (Я колеблюсь. Мною звонима она.) С какой стати? Дело в том, что в баскском эти два предложения входят в две совершенно разные категории – каждая со своими правилами. Разница – в глаголах. Колеблется всегда один человек – колеблющийся, а для телефонного звонка нужны двое: звонящий и вызываемый.
В предложении с одним действующим лицом нет сомнений, кто выполняет действие, выражаемое глаголом. В предложении Я колеблюсь говорящий и колеблющийся обязаны быть одним и тем же человеком, как в английском, так и в баскском. В терминах английской грамматики я – очевидно, субъект. Но к баскскому, как мы увидим позже, слово субъект неприменимо, поэтому будем использовать термин форма 1.
Как только появляется второй участник, ситуация теряет ясность. В нашем предложении три составляющих: два человека и звонок, который делается. Но кто чем занят? Кто набирает номер, а кто слышит звонок? Носитель английского тут, возможно, не видит трудности: звонящий – субъект, которого мы только что переименовали в форму 1, а вызываемый – объект (назовем его формой 2). Так что все очевидно: я звоню ей. В чем проблема?
В английском ее нет, а в баскском есть. Если в предложении два действующих лица (одно делает что-то с другим), форма 1 используется не для активного участника (называйте его как хотите: субъект, агенс, исполнитель), а для того, над кем производится действие (объект, пациенс, претерпевающий). Поэтому предложение Мною звонима она на баскском выражает то, что по-английски выражается предложением
Я звоню ей.
Важно правильно использовать терминологию. Поскольку в баскском языке эквиваленты формы 1 могут использоваться в качестве субъекта только в тех предложениях, где есть всего один человек или предмет (иными словами с непереходными глаголами), то здесь слова субъект и объект неуместны. Вместо них используют слова агенс и пациенс. И это не формальные поправки: эти слова имеют другое значение, чем субъект и объект. В обоих предложениях, которые мы обсуждаем – Я звоню ей и Я колеблюсь, – есть пациенс: женщина, которой звонят, – это пациенс, но и мужчина, который колеблется, – тоже пациенс. Колебания – считают баски – это не то, что делаете вы, вы их пассивно испытываете, отсюда – пациенс. (Пассивный и пациенс оба происходят от латинского глагола pati, означающего страдать. Так же, как и слово пассия, как ни странно.) А вот агенс присутствует только в предложении о телефонном звонке: им является звонящий.
Это отражено в баскских падежных показателях: все агенсы стоят в одном падеже, а все пациенсы – в другом. Но эти падежи не совпадают с именительным и винительным, используемым во многих других европейских падежах, включая английский: I и she стоят в именительном падеже, а me и her – в винительном. Баскские падежи – другие: это эргативный (для пациенса) и абсолютивный (для агенса). Здесь, как и в немецком, русском и латинском, каждое существительное имеет маркер падежа, но даже немцам и русским трудно въехать в баскский, потому что его падежная логика не имеет ничего общего с их. Так что если вы слегка запутались, не расстраивайтесь: вы не одиноки. К эргативным языкам не сразу привыкаешь.
Баски используют обычную латиницу, но предпочитают собственный скругленный шрифт, в основе которого лежат буквы, высеченные на камне.
Ясно, что английский не является эргативным языком – он аккузативный. Но это не значит, что английский полностью лишен эргативности. В нем есть группа глаголов, называемых эргативными глаголами, чье поведение напоминает модель баскского языка. Один пример – это глагол to break. Если я разобью стакан, то я могу сообщить об этом двумя способами: I broke the glass (я разбил стакан) или The glass broke (стакан разбился). В обоих случаях стакан является пациенсом: сам он ничего не сделал – кто-то что-то сделал с ним. Обычно в английском предложении пациенс является объектом, а не субъектом (кроме пассивных конструкций, но это мы оставим в стороне). Но с break и некоторыми другими глаголами, такими как boil, turn и drive, пациенс является объектом, если агенс упомянут, и субъектом, если нет. Подавляющее большинство английских глаголов ведет себя не так. Предложение I call Jenny (я звоню Дженни) нельзя просто превратить в предложение Jenny calls (Дженни звонит) – у этих двух предложений разный смысл.
Эргативность кажется нам чем-то экзотическим, но это потому, что мы европейцы. В Южной Азии, Новой Гвинее, Австралии, Тихоокеанском регионе и в обеих Америках этот феномен широко распространен. Но мало какие языки так последовательны, как баскский. Например, в некоторых используется английская система для настоящего времени и баскская – для прошедшего. Или английская система для я и ты, но баскская – для третьего лица и всех множественных чисел. Такие смешанные системы называют расщепленной эргативностью.
Строго эргативные языки довольно маргинальны: у них мало носителей (баскский, на котором говорит почти миллион человек, один из самых больших) и они обычно встречаются в изолированных регионах, таких как Кавказ, Гренландия, Новая Гвинея и бассейн Амазонки. Но расщепленная эргативность встречается примерно у 20–25 % языков, включая такие большие, как хинди, бенгали и филиппинский язык тагалог.
Эргативность не только далека от исчезновения – исследования жестовых языков показывают, что она возникает спонтанно. Четыре американских и четыре китайских глухих ребенка слышащих родителей – каждый в отдельности – разработали полноценные жестовые языки, включающие эргативные конструкции. Их матери, однако, не смогли эти системы освоить: они выучили жестовые языки своих детей, но без эргативной составляющей.
Современные баски идут обратным путем: когда они начинают учить испанский (или французский), им приходится осваивать неэргативную систему. Они должны понять, что по-испански нельзя сказать мною звонима она, а надо говорить я звоню ей. Им надо иметь в виду это и кучу других вещей, которые в испанском и баскском совершенно различны: артикли и предлоги, которые ставятся позади существительных, отсутствие рода и многое другое.
Это просто поразительно, как баски умудряются параллельно осваивать «язык воды» и «язык гор». Очевидно, человеческий ум может быть одновременно и пловцом и альпинистом.
Слово anchovy (анчоус) было заимствовано из португальского, но происходить оно может от баскского слова anchu, означающего сушеную рыбу.
Erdaratze – переводить со своего родного языка на иностранный. Противоположное слово euskaratu, означающее «переводить на баскский», было бы гораздо менее полезно британцам. Для переводчиков разница в переводе на свой язык и со своего языка весьма существенна, а для ее отражения требуется очень много слов из-за отсутствия нужного термина.
41
Себе на заметку
Украинский
Можно подумать, что мало слов имеют такое же недвусмысленное значение, как his (его) и her (ее). His: принадлежащий мужчине, только что упомянутому (или который сейчас будет упомянут или просто присутствующему). Her: то же самое для женщин.
Но рассмотрим такое предложение: Mary punched the policewoman in the face, grabbed her bicycle and raced off (Мэри ударила полисменшу по лицу, вскочила на ее велосипед и уехала). Неоднозначно, правда? На чьем велосипеде укатила Мэри? Было ли экологически чистое средство передвижения у нее наготове или она стащила патрульный велосипед злополучной пострадавшей? Конечно, есть способ уточнить, на чьем велосипеде скрылась Мэри, но для этого потребуются дополнительные слова. Например: Mary punched the policewoman in the face, grabbed her own bicycle and raced off (Мэри ударила полисменшу по лицу, схватила свой собственный велосипед и уехала). Отсюда видно, что преступница уехала на своем велосипеде, но при такой формулировке можно подумать, что было несколько велосипедов на выбор. Однако если велосипед принадлежал офицеру полиции, то эту мысль проще всего было бы выразить, заменив слово ее на что-нибудь более точное: Mary punched the policewoman in the face, grabbed the officer’s bicycle and raced off (Мэри ударила полисменшу по лицу, схватила велосипед этой женщины и уехала). Довольно неуклюже, зато все ясно.
Украинский не очень распространен в Британии, однако эта фотография сделана в Дербишире.
Ukrainian sign: Eamon Curry/flickr.
Есть и другие способы пояснить, чей это был велосипед (grabbed the bicycle she’d brought – схватила велосипед, на котором она приехала, grabbed the victim’s bicycle – схватила велосипед жертвы, stole her bicycle – украла ее велосипед, seized the latter’s bike – завладела велосипедом последней и т. п.), я только хочу сказать, что слово her – и то же самое относится к слову his – не так однозначно, как можно подумать. Используя эти местоимения, нужно быть настороже: не возникает ли неоднозначность? И если возникает – принять меры к ее устранению. Полная ясность есть, только если в эпизоде участвуют люди разного пола: ‘The woman punched the man and jumped on his bike’ (женщина ударила мужчину и вскочила на его велосипед) или ‘on her bike’ (на ее велосипед).
Во многих других языках, таких как французский, немецкий и испанский, возникает та же проблема. Но некоторые языки нашли для нее элегантное решение. В этом вопросе славянские и скандинавские языки отличаются от английского. Осмелюсь сказать: в лучшую сторону. В них такая двусмысленность не возникает, потому что в этих языках есть притяжательное местоимение, которого так не хватает английскому.
Возьмем, к примеру, украинский. В нем тоже есть слова, соответствующие his и her: його и її.
Если знать, что беру означает I grab или I take, а велосипед – bike, то смысл следующих предложений понятен: Беру його велосипед (I take his bike) и Беру її велосипед (I take her bike).
Однако если велосипед беру не я, а кто-то другой, то не только форма глагола меняется – бере (he/she grabs), – но и появляется совершенно другое притяжательное местоимение: Бере свій велосипед. Это означает he/she grabs his/her (own) bike. Слово свій не отражает пол действующего лица, зато не оставляет сомнений в связи с субъектом предложения. В приведенном выше английском криминальном отчете Мэри была субъектом, а полисменша – объектом. В зависимости от принадлежности велосипеда в украинском отчете написали бы свій (про велосипед Мэри) или її (про велосипед жертвы).
Скандинавы, чьи языки несильно отличаются от английского, тоже используют возвратные притяжательные местоимения (так они по-научному называются). По-шведски sin cykel может означать his (own) bike или her (own) bike, в зависимости от того, является ли субъектом предложения мужчина или женщина. Скандинавы используют возвратные притяжательные местоимения только в третьем лице, а славяне пошли на шаг дальше и применяют их в первом и втором лице тоже. В результате получается безупречно логичная система, которая тем не менее совершенно сбивает с толку носителей английского. По-украински I grab my bike будет не Беру мій велосипед, хотя мій действительно означает my. Правильнее будет сказать Беру свій велосипед, используя то же самое слово свій, которое выше использовалось в смысле his/her. Когда свій относится к субъекту I, оно автоматически означает my. Следуя той же железной логике, украинцы используют одно слово, себе, для замены целого эшелона английских слов: myself, yourself, herself, himself, itself, oneself, ourselves, yourselves и themselves. Что означает себе в каждом конкретном случае, зависит от субъекта предложения.
Завидная точность и краткость. Жаль, что в английском нет эквивалента украинскому свій и шведскому sin, не говоря уж об универсальном себе. В Cредние века в английский язык проникло множество скандинавских слов, включая такие полезные, как egg (яйцо), they (они) и oaf (болван). Как жаль, что жителям средневековой Англии не хватило здравого смысла позаимствовать и такое полезное скандинавское местоимение.
Украинцам нравится думать, что слово cossack заимствовано из украинского, а не из русского, потому что в их языке слово пишется через о – козак, а в русском через а – казак. Но если проследить корни этого слова, то оно пришло из турецкого.
Себе – как обсуждалось выше – это слово могло бы заменить множество других слов: myself, yourself, herself, himself, itself, ourselves, yourselves и themselves.
Часть 7
Реанимация
Языки на грани и за гранью
Маленькие языки не всегда обречены на гибель. Спасительную роль может сыграть полная или частичная политическая независимость их носителей, как в Монако, Ирландии или Гагаузии. А далматинского малыша спасти не удалось. Но даже смерть не всегда ставит точку – два кельтских языка (корнский и мэнский) практически восстали из гроба.