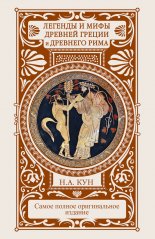Узкая дорога на дальний север Флэнаган Ричард

– Он любит поэзию, – сказал Накамура.
– Это превосходно звучит на японском, – заметил в ответ Фукухара.
– Скажи ему.
– На английском у меня думать не выходит.
– Скажи ему.
Оглаживая рукой брюки, Фукухара обратился к австралийцу. Он вытянулся в струнку, так что шея его стала казаться еще длиннее, и продекламировал свой собственный перевод:
Мир скорби и боли…
Когда расцветает сакура,
Он пышнее цветет[68].
22
Дорриго Эванс взглянул на Накамуру, который яростно расчесывал себе бедро. И понял Дорриго Эванс: во имя того, чтобы железная дорога была построена, железная дорога, что в тот самый миг была единственной причиной чудовищных страданий сотен тысяч людей, – во имя бессмысленной линии насыпей, просек и трупов, выдолбленной земли, напластований грязи, взорванных скал и еще большего числа трупов, бамбуковых эстакад, шатающихся мостов, тиковых шпал и еще новых и новых трупов, бесчисленных крепежных костылей и непоколебимых рельсовых путей, и трупов за трупами трупов за трупами трупов за трупами – во имя того, чтобы существовала такая железная дорога, понял он, и должен был понести наказание Смугляк Гардинер. В тот момент он балдел от ужасной воли Накамуры (балдел от нее даже больше, чем погружался в отчаяние от избиения Смугляка Гардинера): угрюмая сила, праведное следование кодексу чести, не допускающее никаких сомнений. Ведь в самом себе Дорриго Эванс не смог бы отыскать равной жизненной силы, способной бросить ей вызов.
Этот человек с застывшим лицом, в потрепанной форменной рубашке аскета, человек, только что палкой отделавший Варана, человек, пролаявший приказы, которые только что отдал, этот человек, Накамура, больше не казался Дорриго Эвансу непонятным, но человечным офицером, с кем он прошлой ночью играл в карты, жестким, но практичным командиром, с кем он еще утром торговался по поводу человеческих жизней, нет, он казался ввергающей в ужас силой, которая захватывает отдельных людей, группы, народы, гнет и сминает их против их природы, против их воли, с беспечным фатализмом уничтожая все на своем пути.
Варан нагнулся и подхватил Смугляка Гардинера, как делают пожарные: взвалил его на плечо, а потом помог снова встать на ноги. Последовала неловкая заминка, как будто избиение закончилось, но стоило Смугляку обрести равновесие, как три охранника принялись снова охаживать его бамбуковыми палками и рукояткой кирки, пока узник снова не рухнул. Так избиение пошло по новому кругу: побои, падение, пинки и тычки, чтоб стоял, чтобы опять бить.
И глядя на это (пока Варан в очередной раз поднимал Смугляка Гардинера, чтобы потом снова свалить его с ног побоями), Дорриго Эванс чувствовал, будто жуткая дрожь сотрясает землю, и все в них сущее не может не отзываться дрожащей дробью в такт. И эта зловещая барабанная дробь была истиной этой жизни.
– Это должно прекратиться, – говорил Дорриго Эванс. – Это ошибка. Он болен. Это очень больной человек.
Его слова не были даже доводом, впрочем, Накамура просто поднял руку и заговорил с ним иным, любезным голосом.
– Майор Накамура говорить, у него есть немного хинина в запасе, – переводил Фукухара. – Помогать больным работать. Император даст повеление на это, это нужно железной дороге.
И барабанная дробь зазвучала вновь – все громче и громче.
Дорриго Эванс понимал, что Накамура старался помочь, но ничего не может поделать с избиением, которое ведется по его же приказу. Хинин поможет другим. Накамура может помочь тем, кому он может помочь, и хинин может помочь ему помочь им. Но он не может прекратить барабанную дробь. Не может помочь Смугляку Гардинеру. Этого требовала железная дорога. Накамура это понимал. Дорриго Эванс вынужден был с этим смириться. У него тоже была доля в этой железной дороге. У Накамуры была доля. У Смугляка Гардинера была доля, и на его долю должно было выпасть зверское избиение, а всем им – каждому на свой лад – пришлось отозваться на эту жуткую барабанную дробь.
Судорожные движения тела Смугляка Гардинера, его рук и ног, когда он пытался защитить себя, были для охранников просто естественными препятствиями вроде дождя, бамбука или камня, на которые не следовало обращать внимания – только вырубать или крушить. Лишь когда он перестал бороться, охранники прекратили, наконец, ставить его на ноги, крики узника сменились долгим, протяжным хрипом, точно из вспоротых огнем кузнечных мехов, и угрюмая их работа сбавила темп до более умеренного, подобающего природе ручного труда.
Пока Дорриго Эванс глядел, внутри его что-то происходило. Вот оно: три сотни мужчин глазеют, как трое изничтожают человека, которого они знают, и все ж ничего не делают. Они и дальше будут глазеть и пальцем не шевельнут. Так или иначе, они дали согласие на то, что творилось, держали ритм с барабанной дробью, и Дорриго был первым среди них, тем, кто появился слишком поздно, сделал слишком мало, а теперь еще и согласился с тем, что происходит. Он не понимал, как так получилось, понимал только, что – получилось.
На секунду ему подумалось, что он постиг истину наводящего страх мира, в котором невозможно избавиться от ужаса, в котором насилие неизбывно, великую и единственную истину, более великую, чем порожденные ею цивилизации, чем любое из божеств, которым поклонялся человек, ибо она и была единственным подлинным богом. Выходило, будто человек только для того и существовал, чтобы передавать насилие по наследству, обеспечивая вечность его владычества. Ведь мир не менялся, насилие всегда существовало, существует сейчас и никогда не будет искоренено, люди будут находить смерть от сапога, кулака и зверства других людей до скончания времен: вся человеческая история – это история насилия.
Но столь прочувствованные мысли были слишком чуждыми и гнетущими, чтоб их удерживать: они недолго потрепыхались в сознании Дорриго Эванса и улетучились. За его спиной Накамура шагал прочь. Мысли японского офицера были тоже путаными и слишком тревожащими, чтобы извлечь из них смысл, и того меньше – удерживать их в голове. Их место заняли другие, более ободряющие, утешительные представления о долге, императоре, японской нации, а также непосредственные практические заботы завтрашнего строительства железной дороги, и снова, будто мышка в крутящемся колесе, сознание Накамуры вернулось к послушному исполнению предназначенной ему роли.
Десяти минут не прошло, а он уже совершенно забыл об избиении, и только спустя час, когда опять проходил мимо плаца и увидел все еще стоящих строем заключенных, понял, что экзекуция не закончилась. Еще два охранника держали штормовые лампы, освещая место действия, поскольку уже наступила ночь, узник каким-то образом растерял последние прикрывавшие его лохмотья и был голый, а форменная одежда трех охранников, приводивших наказание в исполнение, потемнела от дождя, грязи и крови. Узник уже не помышлял о сопротивлении или уклонении от ударов, а пассивно, словно мешок с мякиной, переносил избиение. Когда охранники не били его палками, они пинали его ногами по кругу, словно старый мяч. К тому времени он уже не выглядел человеком, а так, чем-то ущербным и неестественным.
Накамура предпочел бы, чтоб избиение было прекращено некоторое время назад, но, похоже, лучше было не вмешиваться. Подкрепленный тремя таблетками сябу, он отправился на поиски капрала Томокавы, чтобы отправить того в речной лагерь купить бутылку меконгского виски у тайского торговца на реке. «Немного сябу и виски, – думал Накамура, – это то что нужно».
А барабанная дробь продолжалась, и когда другие охранники выдыхались и останавливались, Варан все равно продолжал молотить Смугляка Гардинера рукояткой кирки – старательно, послушно, ритмично.
И для его барабанной дроби мог быть лишь один конец.
23
Смугляк Гардинер открыл глаза и моргнул. На лицо падали капли дождя. Он упирался руками в грязь, но они утопали в ней все глубже. Он плавал в дерьме. Попробовал снова подняться на ноги. Ничего не вышло. Он плавал в еще большем дерьме. Попробовал свернуться калачиком, чтоб защититься. Бесполезно, он только снова утоп в какой-то мерзкой дыре. Когда он закрывал глаза, то возвращался туда, где его били. Когда открывал, тонул в дерьме, стараясь держаться на плаву, пытаясь выбраться. Было до того скользко и темно, что он никак не мог отыскать, на что опереться, а когда отыскал, не нашел сил выбраться. Тело уже не было помощником. Оно отзывалось только на пинки и удары, которые крутили его как угодно. Он и понятия не имел, долго ли там находился. Порой приходило в голову, что, похоже, вечно. А то вдруг казалось, что вовсе нисколько времени. Раз услышал, как его зовет мать. Было трудно дышать. Ощутил еще больше мягких дождинок, увидел, как поверх бурой грязи разлилось ярко-красное масло, услышал, как снова позвала мама, но трудно было разобрать слова: то ли она звала его домой, то ли это было море? Был мир, и был он, а нить, соединявшая их, растягивалась и растягивалась, он пробовал подтянуться по этой нити, отчаянно старался протащить себя обратно домой, куда звала его мать. Попробовал позвать ее, но мозги побежали у него изо рта длинной-длинной рекой – к морю. Он опять моргнул. Обезьяна завизжала, ишь, белозубая. Над хребтом – улыбающаяся луна. Ничто не держит, и он тонет. Он слышал море. «Нет, – произнес он или подумал, что произнес. – Нет, не море. Нет! Нет!»
24
Нашли его поздно ночью. Он плавал вниз головой в «бендзе», длинной глубокой канаве размытого дождем дерьма, которая служила общим туалетом. Каким-то образом он дотащился туда из лазарета, куда его отнесли с переломанным телом, когда избиение наконец закончилось. Предположили, что, пытаясь присесть, Смугляк потерял равновесие и свалился. И, не имея сил выбраться, утонул.
– Срань всегда в сральнике, – буркнул Джимми Бигелоу, который сам вызвался спуститься на веревке в канаву, полную дерьма пополам с водой, чтобы вытащить труп. – Лады! – заорал он державшим веревку наверху, когда оказался по бедра в мерзкой жиже. – Лады!
Обвязывая труп второй веревкой, он разговаривал с ним:
– Эх ты, Смугляк, глупое мудило гребаное. Ты что, не мог на койке отосраться, как все другие болявщики? Ты что, не мог гребаное их одеяло сложить, как положено?
Когда тело Смугляка Гардинера подняли, Джимми Бигелоу бегло оглядел его в свете керосиновой лампы. Сплошь покрытое личинками, оно было до того избито, раздроблено, вымарано, до того грязно и поломано, что на секунду ему показалось: не может быть, чтоб это он был.
Тело отнесли в лазарет. Баранья Голова Мортон, взяв жестяную канистру воды своими руками шахтера, такими жесткими, такими нежными, смыл с почерневшего тела всю мерзость и приготовил его к погребению на следующий день.
То был подходящий денек, чтобы умереть. Не потому, что день выдался какой-то особый, а потому, что не было в нем ничего необычного, теперь каждый день был подходящим для смерти, и на единственный донимавший их вопрос: кто может оказаться следующим, – ответ был дан. И чувство признательности, что им оказался кто-то другой, подтачивало их изнутри, где-то в кишках наряду с голодом, страхом и одиночеством, пока вопрос не возвращался, посвежевший, обновленный, неоспоримый. И единственный ответ, который они могли на него дать, был таков: они стоят друг за друга. Для них – с тех пор и навсегда – не могло быть никаких «я» или «меня», только «мы» и «нас».
25
На следующее утро Петух Макнис рылся в вещмешке в поисках своей книжки «Майн кампф», чтобы начать день десятиминуткой по заучиванию наизусть. Он проснулся среди ночи, терзаемый всего одной мыслью: если бы он вышел вперед и признался, что идея слинять с работы принадлежала ему, Гардинер бы не погиб. Но, рассудил он, поступи он так, наверняка сам бы сгинул вместо него. Или нет. А может, оба сгинули бы. Он убеждал себя, что с этими японцами ничего не угадаешь. И вновь уговорил себя, что Гардинер в любом случае был обречен – как старшой по бригаде и как больной.
Когда днем раньше Петух Макнис стоял на той просеке, когда японцы потребовали, чтобы виновные заключенные вышли вперед, громче всего у него в мозгу раздавался не рев японцев, а смех Гардинера после того, как Петух был пойман за руку, которой взялся за яичную скорлупу. В момент, когда Петух мог бы сделать шаг вперед, он только о том и мог думать, что о почерневшем утином яйце, которое Гардинер у него украл, да о яичной скорлупе, которую тот использовал, чтобы выставить его на посмешище. Унижение предыдущего утра, учиненное руками Гардинера, по-прежнему вызывало в нем более тягостное ощущение, чем позднее воспоминание о том, как Гардинера избивали. «Нет, – думал Петух Макнис, – такого человека он не выручил бы». Но и смерти ему он не желал.
– Нет. Этого я не желал, – бормотал он про себя. – Не желал.
Посасывая свою рыжеватую бородку, он нащупал на дне вещмешка котелок, потом сырые вогнутые обложки своей книжки «Майн кампф». Он уже собирался вытащить книжку, когда рука его прошлась по парадной форменной рубашке, которую ему удалось пронести в сохранности через все свои беды. Петух всегда держал ее аккуратно сложенной и плоской, но на этот раз что-то выпирало из нее. Оставив книгу, он пощупал вокруг и вытащил из вещмешка утиное яйцо. Нижняя губа вывалилась у него изо рта. Облегчение, которое он ощутил, обнаружив яйцо, тут же сменилось ужасом, который было не выразить словами. Петух быстро сунул яйцо обратно в вещмешок, как какую-нибудь наипостыднейшую вещицу, которую нужно убрать с чужих глаз, и достал «Майн кампф».
Сколько он ни старался, ни слова из нее запомнить не смог.
26
Спустя десятилетия Джимми Бигелоу будет требовать от своих детей, чтобы они всегда складывали одежду именно так: складкой только наружу. И будет открывать ящики комода в их хлипком домике на окраине Хобарта, убеждаясь, что складки наружу и дети в безопасности. Он никогда не ударит и не шлепнет их за то, что они не сложили одежду складкой наружу. А будет умолять, уговаривать, будет требовать и под конец, отчаявшись, сам будет разворачивать и перекладывать одежду детей, а они будут стоять рядом в нервном ожидании. Им будет владеть какой-то безымянный страх, объяснить который он не в силах. Дети тоже пронесут до конца жизни эту сумятицу из любви и страха, которая шла дальше открывания и закрывания ящиков, дальше отчаяния и бормотания отца. Он знал, что им не понять. Но разве они не понимали? Как они могли не знать? То, что требовалось понять, было настолько очевидно. Никогда не угадаешь, когда все может измениться: чье-то настроение, чье-то решение, чье-то одеяло.
Чья-то жизнь.
Они ничего этого не знали. Только знали, что, как бы они ни набедокурили, отец их никогда не ударит. В самом худшем случае перебросит через колено, взметнет руку, да так и будет держать ее в воздухе нависшей над попкой. Иногда они через его ногу чувствовали, как отца изнутри бьет дрожь. Украдкой бросив взгляд вверх, они видели, как трясется у него рука, как слезы наворачиваются ему на глаза. Откуда им было знать, что отец отчаянно старается защитить их от неожиданного тычка ружейного приклада в их нежные детские щеки, предостеречь их от ужасов, которые этот жестокий мир готов обрушить на нерадивых, неблагоразумных и неподготовленных, – подготовить их ко всему тому, к чему никто и никогда не в состоянии быть готовым? Они же знали только одно: отец никогда не сделает им больно.
Пока тело отца, дрожа, моталось туда-сюда сквозь время, дети понимали, что он имеет в виду, говоря: «Лады», – и неожиданно спихивает с колена и снова ставит на ноги. Отводя взгляд, махнет поднятой рукой, мол, пошли вон.
– Вот так-то. Лады? Только. Только в следующий раз сложите складкой наружу. Наружу. Всегда наружу. Лады?
И они побегут на улицу под яркий свет солнца.
Наверное, рассуждал Джимми Бигелоу, он не наверстал как следовало бы время или пространство для любви. А спрятал ее в себе, и она упорхнула прочь. Наверное, он как-то выбрал (почему – он не смог бы объяснить) предсказуемый род занятий взамен дикого кружения любви, складывание одеяла взамен раскрытия сомкнутых рук.
Но иногда любовь оказывалась на месте: стоило выглянуть в окно и увидеть, как вскидывает глазенки малыш Джоди и машет ему ручкой, расплываясь в улыбке до ушей, ему странно было видеть любовь, играющую на заднем дворе, поросшем бурой травой, под алмазной струей дождевальной установки: он потрясенно понимал, что ему повезло дожить и познать это, любить и быть любимым. И он будет глядеть, как играют во дворе его дети под солнцем. Пристыженный. Пораженный. Солнечно было всегда.
27
А что же с той Дорогой? После того как мечта о всемирной японской империи рассыпалась радиоактивной пылью, у железной дороги не осталось ни цели, ни опоры. Японских инженеров и охранников, которые несли за нее ответственность, посадили в тюрьму или репатриировали, рабов, тех, что оставались на обслуживании той Дороги, выпустили на волю. Уже через несколько недель после окончания войны той Дороге пришел конец. Тайцы ее забросили, англичане разобрали, местные жители распродали.
Еще через некоторое время та Дорога стала кривиться и коробиться. Насыпи осыпались, эстакады и мосты смыло водой, а просеки заросли. Разруха преобразилась. Туда, где когда-то царствовала смерть, вернулась жизнь.
Та Дорога радовалась дождю и солнцу. На местах массовых захоронений прорастали семена, меж черепов, берцовых костей и сломанных рукояток тянулись ростки, стебли поднимались рядом с крепежными костылями и ключицами, усики обвивали тиковые шпалы и большие и малые берцовые кости, лопатки, позвоночники и тазобедренные кости.
Та Дорога радовалась, когда зарастали насыпи, для которых рабы возили на лодках глину и камни. Она радовалась термитам, когда те сгрызали дерево рухнувших мостов, которое рабы рубили, несли и водружали наверху. Она радовалась ржавчине на железнодорожных рельсах, которые рабы, выстроившись длинной цепочкой, носили на плечах. Она радовалась гниению и разрушению.
Под конец только и осталось, что жара да дождевые тучи, насекомые с птицами да животные, а еще растения, а им, несведущим, было все равно. Человечество – это лишь часть множества, в котором каждая составляющая жаждет жить, и высшей формой существования является свобода: человеку быть человеком, облаку – облаком, бамбуку – бамбуком.
Пройдут десятилетия. Несколько коротких участков расчистят те, кто считает, будто память имеет смысл, только если ее со временем преобразовать в нелепо воскрешенное вроде ног без остального тела: туристические достопримечательности, священные достопримечательности, национальные достопримечательности.
Ведь та Дорога разрушилась, как рушатся в конце концов все дороги, она была совсем ни к чему, и ничего от нее не осталось. Люди постоянно ищут смысл и надежды, но анналы прошлого – это всего лишь вымаранный в грязи рассказ о хаосе.
И о той колоссальной прорухе, безграничной и похороненной, которую далеко-далеко протянули сквозь плотные, непрерывные джунгли. Об имперских замыслах и делах людей, от которых осталась одна лишь высокая трава.
IV
Наша жизнь – росинка.
Пусть лишь капелька росы
Наша жизнь, и все же…
Исса
1
Вороны, осыпавшие, будто зернышки кунжута, щербатый верх Сидзюку Расемон[69], которых вспугнул брошенный в них камень, взлетели над Токио, точнее, над пеплом его прошлого. Внизу, под их хлопающими крыльями, город едва ли существовал. Не так давно те же вороны пировали на черных трупах, которых было полным-полно в объятом огнем городе. Теперь же они пролетали над обширной обугленной, развороченной равниной, по причудливым лабиринтам которой бродили вдовы и сироты, разбитые и хромые бывшие солдаты, безумные, умирающие и отчаявшиеся, время от времени на их пути возникал какой-нибудь джип с американской солдатней. В ту горькую зиму 1946 года восстановление ограничивалось палатками, шалашиками и укрытиями из кровельного железа, в которых ютились те, кому повезло больше других, что до остальных, то им приходилось довольствоваться подземками, железнодорожными вокзалами или норами и пещерами в кучах щебня.
Человек, бросивший камень в ворон, Тендзи Накамура, в прошлом майор 2-го железнодорожного полка Имперской японской армии, прятался от холодного проливного дождя под ненадежной аркой, которую случай и кое-какое намеренное рытье образовали над переулком из упавших балок и развалин разбомбленных зданий. Местные жители, кому приходилось проходить туда и обратно через рожденный хаосом туннель в опустошенный район увеселений, носивший название Синдзюку, называли проход Синдзюку Расемон, словно эта груда обломков была большими воротами в их великий город. Лисы, крысы, проститутки и воры составляли основную часть обитателей Синдзюку Расемон, они жили в своих логовах, норах и полуобвалившихся комнатах. Гора Фудзи, которую Накамура мог рассмотреть даже из этих кривых ворот, вновь вознеслась над их миром, как это было полтора века назад, когда ее изобразил великий Хокусай[70], ее опять было видно всю, вечно изменчивую и неизменную, недвижимую и бессмертную.
Вот только мир, над которым теперь высилась Фудзи, был свиреп и беспощаден, люди умирали в нем каждый день, но были вынуждены продолжать жить. На улицах было полно людей, потерявших рассудок от касутори, дешевого смертельного напитка, который избирали для себя голодающие или отчаявшиеся, или от сябу, украденного с армейских складов, или от того и другого. Нищета Накамуры покончила с его привычкой к сябу, и он был решительно настроен к ней не возвращаться. По просевшим полосам земли, которые когда-то были дорогами, бродили голодные собаки, сбивавшиеся в большие и грозные стаи, еще более голодные дети выходили на улицы, занимаясь карманными кражами, попрошайничеством и сводничеством.
«Волки – все до единого», – подумал Накамура.
Своими медлительными взглядами и порывистыми движениями эти детишки несли в себе что-то разом уязвимое и угрожающее, перед чем Накамура испытывал необъяснимый страх. Истощенные, они выглядели лет на шесть-семь, но чаще всего были уже подростками. Женщины продавали себя повсюду, очень немногие довольствовались незапятнанной честью и нищетой, отказываясь ублажать американских демонов. Большинство же наслаждалось достатком, становясь панпанутками[71]. Как-то раз, проведя ночь с такой женщиной, Накамура вдруг разозлился на то, чем она зарабатывала себе на хлеб и в чем он видел теперь отражение собственной жизни, и спросил, как смеет она якшаться с американцами. Та, держа в накрашенных улыбающихся губах только что прикуренную сигарету, ответила ему вопросом:
– А разве не все мы сейчас панпанутки?
С тех пор как два с половиной месяца назад Накамура демобилизовался, он жил среди таких вот превратившихся в руины людей и мест, в их среде он был никем и ничем – и довольствовался этим. Вооружен он был одной только фомкой, которая служила как средством, с помощью которого он обеспечивал свое ненадежное существование, так и оружием самозащиты, на котором он каждые несколько минут давил еще и несколько вшей, перебравшихся на железку с его зудящего тела. С помощью фомки он выворачивал обломки деревянных рам из лежавших в руинах домов, выковыривал их из ила, грязи и пепла того, что некогда было Токио, старательно разламывал их на дрова и продавал угольщику, который жег древесный уголь. Оказавшись среди обугленных останков некогда великой столицы империи, Накамура думал только о том, где бы отыскать немного соевого супа или чашку риса. Время от времени такие поиски приносили негаданную удачу: днем раньше он наковырял из глубины щебня немного затхлых желудей, от которых отказались даже крысы. Впрочем, после этого он до сих пор больше ничего не ел.
Чтобы отвлечь мысли от голода, Накамура подобрал с земли затоптанную газету. Напечатали ее несколько дней назад, и он сумел пробежать несколько статей, не вникая ни в единое слово, пока одна статья вдруг не привлекла его внимания, да так, что мозги едва не закипели. Прочел внимательно, безнадежно. В ней говорилось об выданных американцами ордерах на арест еще большего числа тех, кто служил в лагерях для военнопленных, на предмет выяснения их возможного участия в военных преступлениях. Заметка заканчивалась перечнем имен разыскиваемых подозреваемых, и где-то в середине списка он обнаружил то, чего так долго с ужасом ожидал: рядом с его фамилией значилось: «возможный военный преступник класса Б».
Накамура принялся чесаться. Он не был военным преступником, тем не менее американцы, которые и были настоящими военными преступниками, если б могли, казнили его, состряпав ложь из его жизни. В нем закипела ярость. Но в основе его гнева, врывавшегося в его повседневные мысли о выживании, лежал тупой, неизбывный страх животного, чуящего, что судьба идет по его следу. Ведь Накамура был наслышан, как американцы, чьи неуклюжие громогласные фигуры мерещились ему повсюду, охотятся за теми, кого считают военными преступниками, как сопутствовала им в этой охоте зловещая удача, как среди первых в их списках числились те, кто имел хоть какое-то отношение к военнопленным. Сам он был решительно настроен выжить, не попасться и не подвергнуться казни, поскольку этого требовала от него честь. Зуд делался нестерпимым, он залез рукой в штаны и только что не рвал себе пах. Вытащил рукой паршивый клубок из кожи, волос и вшей и швырнул его на землю.
В ожидании, пока улучшится погода, Накамура бегал пальцами вверх-вниз по потертой зеленой краске фомки, давя немногих вшей, все еще сидевших у него между пальцами и на самой железяке. И обдумывал свое положение: подворовывать дровишки – негодный способ выжить, его фомка уже лишилась половинки зуба с того конца, где гвоздодер, к тому же лицо с одной стороны саднило от удара какой-то зазубренной балки, неожиданно придавившей его два дня назад, ужасный холод, которого невозможно было избежать, вгонял его в еще больший голод, а теперь еще и американцы за ним охотятся. Глянув еще раз на свою фамилию в газетном списке, Накамура с ужасом уразумел, что американцы ведут на него охоту по меньшей мере уже несколько дней: методично исследуя все версии, избавляясь от ложных следов, выведывая у других, – и с каждым часом подбираются все ближе к нему, а он все ближе становится к смерти на виселице. Накамура понял: чтобы выжить, надо что-то предпринять, а это значит, что теперь придется быть готовым сделать что угодно. Но затем настрой на борьбу сменился полнейшей безнадежностью и ощущением краха. Что он мог поделать? Что? Если следовать велению чести, думал Накамура, следовало бы поступить, как другие, и покончить с собой.
И в тот самый момент, когда Накамура решил взять судьбу в собственные руки и умереть с честью, он услышал наверху сдавленные крики. Все его существо наполнилось ненасытным любопытством: что же это за крики? – как будто делать что-нибудь (что угодно) было лучше, чем ломать голову над своей несчастной судьбой.
Он на четвереньках выполз из своего убежища, встал под дождем на ноги и медленно повел головой, старательно вслушиваясь. Потом услышал, как зашипела какая-то женщина. Звук шел откуда-то сверху, с горы щебня, которая образовала левую сторону Расемона.
Пробираясь по щебню как можно тише, Накамура взбирался вверх по большой куче кирпича и разбитых строений, которые образовывали левое крыло арочного прохода, крепко сжимая в кулаке свою фомку. Добрался до небольшой дыры в щебенке размером с кулак. Через нее увидел остатки разбомбленной комнаты, освещенной через проем в том месте, где должна была находиться верхняя часть противоположной стены. Накамура разглядел, что комната, видимо, когда-то была аккуратным и приятным гнездышком, но теперь одни лишь обои в хризантемах оставались зримым свидетельством былого, да и те покрылись толстым слоем пыли и сажи, и комната, на взгляд Накамуры, превратилась в нечто вроде звериного логова. Из остатков трухлявых татами и нескольких подушек была сооружена кровать, а возле стоял столик на трех ножках (вместо четвертой его подпирали битые кирпичи), на котором возвышалось грязное зеркало.
Вновь послышалось женское шипение, уже совсем близко, и, нагнувшись в направлении женского голоса, Накамура смог разглядеть дальний угол комнаты. Там стояли панпанутка и молодой парень лет где-то шестнадцати-семнадцати, державший в руке длинный кухонный нож. У их ног лежало тело американского военного в форме, которому совсем недавно перерезали глотку, так что из раны до сих пор слабо текла кровь. Панпанутка выговаривала парню, спрашивая, зачем он убил американца, но печали в ее шипящем голосе не было, только недовольство.
Невидимый для их взглядов, Накамура быстро все это разглядел, но взгляд его привлекли не сама по себе драма и ее участники (это занимало его меньше всего), а то, что лежало на самодельном туалетном столике: два капустных вареника годза и плитка американского шоколада.
2
Накамура тихонько спустился от своего глазка и осторожно полез через верх Расемона и вокруг к пролому в стене. Когда он медленно поднял голову над оторванным листом кровельного железа, панпанутка обшаривала карманы убитого. Когда она перевернула тело американца набок, тот издал глухой стон. Девушка отпрянула, но, поняв, что это просто воздух вышел у покойника из легких, вновь занялась поисками в его одежде. Из заднего кармана достала рулончик американских долларов.
Но Накамура не мог оторвать глаз от вареников годза. Вспоминал, как они все время их ели, когда он служил в Маньчжоу-го, и думать о том не думали. Чувствовал, как рот наполняется слюной при воспоминании о тогдашних варениках и от доступности их сейчас.
Не в силах думать ни о чем другом, кроме того, как же хочется ему этих вареников годза, Накамура по-звериному подобрался и бросился через пролом. Вкатился в комнату, вскочил на ноги, размахивая ломиком. На миг все застыли, глядя друг на друга через тело убитого американца: панпанутка в дорогом цветастом платье, свободных брюках и черных лаковых босоножках с пачкой американских долларов в руках, парень с ножом и Накамура с фомкой.
Зарычав, парень бросился с ножом на Накамуру, и тот, чувствуя, как поднимается в нем дух прошлого, научившего его соединять страх со спокойствием, слегка присел, чтобы тверже держаться на ногах, и взмахнул ломиком, словно это был меч. Тот широкой дугой прошелся в воздухе и с мягким хлюпающим шлепком обрушился парню на голову. Этот звук – молотка, входящего в арбуз, как показалось Накамуре, – долго-долго висел в воздухе. И в ту же самую непонятную вечность, бывшую при том всего лишь мгновением, всякое порывистое движение парня вперед прекратилось. Накамуре почудилось, что время странным образом остановилось, прежде чем парень бесшумно рухнул на пол.
И Накамура, и панпанутка не издали ни звука. Хотя тело и билось в диких судорогах, оба поняли, что парень мертв. Хлынула кровь, судороги затихали, потом и вовсе прекратились, и Накамура заметил, как вши, охваченные внезапной паникой, замелькали вокруг неопрятно длинных косм парня. И остро почувствовал, как комнату наполняет вызывающий озноб запах сырой пыли.
Панпанутка принялась хныкать. Накамура сделал два шага к трехногому столику и запихнул сразу оба вареника годза в свой наполнившийся слюной рот. Жадно заглатывая их, он не сводил глаз с девицы. У него возникла новая мысль. Используя вместо слов фомку, он указал на пачку долларов в руке панпанутки. Трясущейся рукой та отдала их ему. Накамура сунул деньги в карман, а потом кончиком вытянутой фомки задрал край ее цветастого платья. Девица медленно перевела взгляд с фомки на его глаза, затем поклонилась и сделала шаг назад. И начала раздеваться.
Голая, она оказалась кривоногой. Неаппетитно тощие бедра были усыпаны маленькими желтоватыми язвочками. Шелковистые волосы между ног резко выделялись на фоне шелушащейся белой кожи под ними. Груди у нее все еще были скорее опухлостями, нежели грудью, а кожа имела болезненный цвет. Накамура уже чуял ее запах, немытой, потной, словно корова в стойле в конце зимы.
Она подошла к колченогому туалетному столику и легла на неопрятный татами, воздев к нему ноги. Теперь он и дыхание ее слышал: резкое и частое пыханье. Она вызывала у него отвращение, эта шлюха, продававшая себя американским демонам, а теперь предлагавшая ему свое мерзкое, измаранное тело. Он подобрал одежду панпанутки, положил в карман шоколад и пошел выбираться вон из этой пещеры. Остановился на минутку и глянул на два трупа.
Американец был уже никакой. У парня-японца все лицо в прыщах. «Слишком много пришлось убивать», – подумал Накамура. Может, следовало бы испытывать угрызения совести, чувствовать вину, поначалу в Маньчжоу-го так и было. Но вскоре мертвые утратили обличье. Он силился вспомнить хоть кого-то из них. «Мертвые и есть мертвые, – думал он, – только и всего». Все-таки – два трупа и один из них американец… беда его ждет, если не будет осторожен, ведь он уже и так в розыске.
Стараясь не наступить в большую лужу темной крови, Накамура склонился над американцем. От того пахло ДДТ, которым избавляли от вшей Накамуру, когда он демобилизовался. Было ощущение, будто американец принадлежал к какому-то иному виду, до того он был велик и до того странно выглядел. Австралийцы в джунглях не были нисколько не похожи на этого чересчур мертвого великана-американца.
Тщательно остерегаясь касаться трупа, он ловко засунул один конец ломика в полусжатый кулак американца и положил фомку ему на грудь. Потом, подумав, протащил ломик по ладони покойника, сильно давя тому на пальцы, и бросил его в лужу крови. Пока панпанутка не объявится и будет держать рот на замке, американцы и полиция придут к признанию очевидного: гомик попытался натянуть американца, вспыхнула драка, и оба расстались с жизнью.
С этим Накамура повернулся, подтянулся к пролому на высоте груди, который служил входом в это логово, когда услышал, как панпанутка поднялась с постели. Он не обращал на нее никакого внимания, пока не почувствовал, что она старается ухватить его за колени. Вырываясь, он пару раз лягнул ее хорошенько, и девица отлетела, растянувшись прямо на трупе американца.
Уже соскальзывая по щебню снаружи, Накамура услышал за спиной ее крики. Обернувшись, увидел, как панпанутка, закрывая руками свои вымазанные в крови маленькие грудки, кричала что-то про то, как американец ее изнасиловал, как прибежал ее брат и просто пытался ее защитить. На самом деле Накамура не слушал ее болтовню, даже и не думал пытаться. Он подобрался обратно к пролому, схватил девицу за плечо и поднял кирпич над ее плаксивой головой.
– Забудь об этом, – произнес Накамура. – Забудь его, забудь своего брата и меня забудь. – Девица завыла еще громче. Он ткнул кирпичом ей в губы и сердито предупредил: – Жить будешь, если забудешь.
Толкнул ее обратно в пролом, карабкаясь, спустился с Синдзюку Расемон и направился в город.
За пятьдесят американских долларов, украденных у панпанутки, он смог купить себе подложные документы. На деньги, которые выручил, продав ее одежду другой панпанутке, купил билет на поезд в Кобе. И вот ехал в вагоне третьего класса, в котором были выбиты все стекла, сквозь дикую зимнюю ночь, оставляя подальше позади свое прошлое бывшего полкового майора Тендзи Накамуры и въезжая в будущее как бывший рядовой ИЯА Йошио Кимура.
В Кобе дела обстояли не лучше, чем в Токио. И этот город тоже – сплошные воронки и грязь, горы кирпича и стали, перекрученной, словно проволока, и японцы, тараканами ползающие вокруг в этой неразберихе. Но Накамура чувствовал: он проложил нужное ему расстояние между собой и мертвым американцем с мертвым парнем. Несколько месяцев он только и знал, что сосать лапу, перебиваясь мелким воровством и приторговывая на черном рынке. Но никогда не чувствовал себя в безопасности. Один раз ему показалось, что он узнал издали долговязого австралийского офицера из одного из лагерей для военнопленных. Накамуру охватил такой страх, что еще неделю спустя если он и решался выбираться на улицу, то только ночью.
Он взялся пристальнее следить за процессами по военным преступлениям. Прочел, как одного японского солдата, который избил какого-то пленного, несколько раз совершавшего побеги, признали виновным и повесили как военного преступника. Такое никак не укладывалось в сознании Накамуры.
Один раз избил?
Он сам, служа в японской армии, бил всегда, и в том состоял его долг: бить других солдат. Да что говорить, когда он проходил подготовку, из него два раза дух вышибали, а однажды повредили барабанную перепонку. Его лупили дубинкой по ягодицам за выказанный «недостаточный энтузиазм» при стирке нижнего белья командира. Три офицера избили его до потери сознания, когда – еще новобранцем – он не расслышал приказа. Оставили на весь день стоять по стойке смирно на плацу, а когда он упал, трое навалились на него и метелили за неисполнение приказа, пока он не потерял сознания.
Так как же всего одно избиение превращает человека в военного преступника? И что такое военнопленный? Разве Полевой устав не определяет, что взятый в плен офицер должен покончить с собой? Что такое какой-то пленный? Ничто, вот что. Человек без стыда, человек без чести. Не человек вовсе.
Один раз избил?
Он был хорошим офицером, и некоторые офицеры упрекали его за то, что за большинство нарушений дисциплины он наказывал всего лишь пощечинами.
«Вы чересчур добросердечны, – припомнил он, как пенял ему полковник Кота после того, как Накамура надавал по физии капралу Томокаве за какой-то проступок. – Какая-то пощечина за такое? Я бы отлупил его так, что он бы век не забыл».
И после этого Накамуре хотелось орать в ясное небо над Кобе: «Что такое военнопленный? Что?»
3
Чхой Санг-мин сидел в темноте на бамбуковой табуретке – роскошь, позволенная ему, как приговоренному. Слышал он, что какие-то бывшие военнопленные попросту выкинули Ким Ли с верхнего этажа борделя в Бангкоке, обнаружив его там. По его мнению, это было оправданно и разумно. Он надеялся, что Ким Ли плевал на них, когда его бросили на погибель. Ким Ли был охранником, как и он, он убивал пленных, а когда война закончилась, они убили его. Это представлялось совершенно понятным, не то что его собственное положение, где ничего не поймешь. У него вызывало отвращение лицемерие австралийцев, рядящих свою месть в обряды правосудия. В душе он понимал, что они все время и его хотели убить – так к чему все это притворство?
У него не было часов, ни наручных, ни стенных. Одна интуиция могла ему подсказать, как долго может тянуться эта ночь. Но интуиция, похоже, уже не работает. Ночь тянулась нескончаемо, и тем не менее она уже убегала прочь. Тюрьму Чанги заперли на ночь, наверное, часа два назад. Если бы его это занимало, он, может, и вычислил бы, что уже около полуночи. Но это его не занимало, как, впрочем, и ничто другое. Чхой Санг-мин затерялся где-то вне границ мысли. Его разум отбивал время между двумя чувствами. Одно – панический страх, что мог бы навалиться на него безумным ноющим кашлем и заставить еще раз судорожно мерить шагами камеру в тюрьме Чанги, пытаясь отыскать путь к побегу, чтобы обнаружить лишь то, что убежать никак не возможно – ни из камеры, ни от своей неминуемой смерти.
А затем разум его воспламенялся гневом – не на судьбу или невозможность побега, а на факт, который был для него мучительной пыткой. Поскольку он был взят в плен как японский военнослужащий, ему наверняка должны были бы причитаться его пятьдесят иен месячного жалованья, которого он в глаза не видел уже два года, прошедших с конца войны. Гнев его разжигался не арифметикой или жадностью, а побудительным мотивом, который к тому же был и ощущением несправедливости. Пятьдесят иен – единственная причина, почему он тут сидит. Почему же тогда он их не получает?
А поскольку в душе он понимал, что никогда больше никаких денег не получит, что пятьдесят иен – нелепость, все ж так или иначе их у него украли. Разум резко переключился опять на страх, и узник вновь принялся мерить шагами камеру, выстукивая пальцами стены, пробуя руками решетку в окне, дверь, толкая, притрагиваясь, выискивая выход, пока опять не осознал, что никакой побег невозможен. И разум снова переключился на гнев, который ощущал в себе бывший охранник, обделенный на свои пятьдесят иен.
Процесс его шел в австралийском военном суде и длился два дня. Не считая случаев, когда обвиняемый подвергался прямому допросу, все делопроизводство велось на английском, и он почти ничего не понимал. Под конец судья (мужчина с лицом, как задутая ветром свеча, и голосом, как у гробокопателя) в первый раз посмотрел прямо на Чхой Санг-мина и заговорил. Переводчик, который не отрывал глаз от шевелящихся губ судьи, шептал Чхой Санг-мину на ухо разрозненные части японских предложений.
«Вследствие… противоречивая природа, – шептал переводчик, – представленных свидетельств… форма письменных показаний… обвинение в участии в убийстве… сержант Австралийских имперских войск сержант Фрэнк Гардинер… снимается. – Толмач переключился на более обыденный тон и добавил: – Это добрая весть, очень добрая».
А потом опять вернулся к своему фрагментарному переводу:
«Обвинения… отдание приказа на убийство рядового Уота Куни… это поддерживается… так как наличествуют несколько других менее значимых обвинений… ненадлежащее обращение, в том числе лишение пищи и медикаментов, приведшее к страданиям, которых можно было избежать, и к смерти. Признан… признается виновным как военный преступник класса «Б»… вы будете… будет… будет подвергнут казни через повешение».
На этот раз толмач не добавил от себя никакого благоприятного толкования.
Были и еще слова, но больше осужденный ничего не слушал. Когда Чхой Санг-мина допрашивали в суде, он пытался объяснить, что он, сержант-кореец, никак не мог отдать приказ предать смерти заключенного, однако австралийский адвокат процитировал протокол допроса японского офицера (полковника Кота), показавшего, что он, сержант, и отдал. Показания Коты уже помогли осудить нескольких охранников из Кореи и Формозы, а еще Чхой Санг-мин слышал, что сам полковник позже был отпущен без обвинений. Чхой Санг-мин указал, что Куни уже не было в том лагере, когда якобы был отдан приказ о его казни. Но лагерные документы, путаные и неполные, никак не подтверждали, что это было так.
После вынесения приговора австралийский защитник, вялый человек с блестящими, влажными глазами, которые напоминали осужденному корейцу лезвия скальпеля, уговаривал его подать петицию о помиловании. Чхой Санг-мин уже примирился с мыслью сложить голову на чужбине и не видел смысла затягивать агонию. От внимания Чхой Санг-мина так же, как от других корейцев и формозцев, заключенных в Чанги, как военные преступники класса «Б» и класса «В», не ускользнуло, что победители-союзники, казалось, нередко освобождали офицеров со связями среди японской знати и делали тех, кто рангом пониже (вроде тех же охранников), козлами отпущения, которых и вешали. Чхой Санг-мин думал о майоре Накамуре, которого так и не арестовали и, без сомнения, никогда не арестуют, о полковнике Коте, которого в очередной раз выпустили на волю. Оба, наверное, работают на американцев где-нибудь.
– Все равно, – сказал Чхой Санг-мин.
– Что? – спросил защитник, бегая влажными глазами туда-сюда.
– Все равно, – повторил Чхой Санг-мин, демонстрируя этими словами свое фаталистическое отношение к жизни, но его защитник понял их как согласие на попытку предотвратить казнь и смягчить приговор. Адвокат подал петицию: жизнь и муки Чхой Санг-мина были продлены еще на четыре месяца.
Чхой Санг-мин замечал, как по-разному воспринимали свою судьбу все находившиеся в Чанги, как в соответствии с этим изобретали себе прошлое. Одни наотрез отвергали обвинения, но все равно были повешены или заключены в тюрьму на долгие сроки. Другие признавали вину, но отказывались признавать полномочия австралийских судов. Их тоже повесили или посадили – на сроки и подлиннее и покороче. Остальные отрицали свою вину, ссылаясь на то, что мелкой сошке вроде охранника или солдата невозможно было не признавать власть японской военной системы, того меньше – отказаться исполнить волю императора. С глазу на глаз они задавали простой вопрос. Если они и их действия были просто выражением воли императора, почему же тогда император все еще на свободе? Почему американцы поддерживают императора, но вешают их, бывших всего-навсего орудиями императора?
Но в душе все они знали, что императора не повесят никогда, а их повесят. Просто что неизбежно, то неизбежно: как люди, не признававшие вины, били, пытали и убивали во имя императора, так теперь и их следует во имя того же императора повесить. Их вешали заодно и так же скверно, как и тех, кто вину признавал, или тех, кто заявлял, что они ничего такого не совершали, и когда они один за другим повисали, провалившись в люки, ноги у них у всех дергались одинаково, дерьмо из задниц валилось одинаково, и их внезапно взбухшие пенисы одинаково исторгали мочу и семя.
За время процесса Чхой Санг-мин о многом получил представление: о Женевской конвенции, о порядке подчиненности, о японской военной структуре и так далее, – о чем до того не имел ни малейшего понятия. Он выяснил, что австралийцы, которых он боялся и ненавидел, на свой странный лад относились к нему с уважением, как к тому, кто совсем другой, чудовищу, которого они прозвали Вараном. И Чхой Санг-мин не без удовольствия узнал, до каких громадных размеров возвеличился он в их ненависти.
Ведь он чувствовал в австралийцах то же самое презрение к нему, какое, он знал, сидело в японцах. Он понял, что еще раз оказался ничтожеством, каким был в Корее ребенком, когда стоял в углу класса после того, как был пойман на том, что шептал по-корейски, а не говорил по-японски, каким был, когда прислуживал в японской семье, где его положение было хуже, чем у жившего в доме щенка, каким был в японской армии – охранником, ниже самого низкого из солдат-японцев. Лучше уж участь Кима Ли, чем его нынешняя. А ведь ему известны некоторые, натворившие куда больше зла, чем он или Ким Ли, и оставшиеся в живых. Как? Почему? Нет тут никакого смысла.
Избиение австралийских заключенных, с другой стороны, имело много смысла. Пусть и на короткое время, но он ощущал себя кем-то, пока лупил и пинал австралийских солдат, стоявших намного выше его, и знал, что может хлестать их по щекам, сколько его душе угодно, может бить кулаками, может палками, рукоятью кирки или стальными прутьями. Это делало его чем-то и кем-то, хотя бы и на то время, пока австралийцы корчились и стонали. Он смутно догадывался, что некоторые от его побоев умерли. Так, наверное, они все равно умерли бы. Место было такое и время такое, и сколько ни думай, смысла в том, что случилось, не прибавится и не убавится. Сейчас единственное, о чем он жалеет, так о том, что не убил гораздо больше. И жаль, что не испытывал побольше удовольствия от убийств и от бытия, создававшего такую большую долю убийств.
За время процесса, глядя на беседующих друг с другом австралийцев, Чхой Санг-мин осознал, что все это так или иначе вышло за пределы ненависти. Была уверенность в жизни, какой у него никогда не было, зато у стоявших выше его японцев она была всегда. И когда его наделили властью над жизнью и смертью австралийцев, он поначалу бил их только потому, что таков был японский порядок, в котором его вырастили, и он не видел ничего примечательного в том, чтобы отхлестать человека, который, на твой взгляд, чересчур медлителен или отлынивает от работы.
В Корее, в городе Пусане, он прошел такую же строгую военную подготовку, как и рядовые Имперской японской армии. Только они не были японцами, все – корейцы, которым не суждено было стать солдатами: их служба состояла в охране вражеских солдат, которые сдались в плен, потому что были чересчур трусливы, чтобы самим свести счеты с жизнью. Наряду с тем как маршировать, стрелять и орудовать штыком его научили умению бинта, давать пощечины, которое японцы настоятельно требовали пускать в ход при малейших промахах со стороны заключенных. Даже если ошибался всего один человек, по щекам отхлестать следовало всех. Каждый день корейцев, обучающихся на охранников, выстраивали в две шеренги лицом друг к другу, и в каждой паре обучаемых они должны были по очереди бить стоящего напротив: правой рукой по левой щеке, левой рукой по правой, – останавливались только тогда, когда лицо того, кого били, сильно распухало. Все приказы выполнялись неукоснительно. Бинта и подчинение приказам – вот она, нынешняя жизнь Чхой Санг-мина: правой рукой по левой щеке, левой рукой по правой. Ему жутко хотелось убежать и отправиться домой, но он знал: если он это сделает, у его семьи будут большие неприятности с японскими властями. Да и потом, очень скоро он станет получать по пятьдесят иен в месяц.
Он помнил, как прошептал стоявшему напротив рекруту, что станет бить несильно, если тот ответит ему такой же любезностью. Их уловку быстро разгадал командовавший японский офицер, очень красивый человек, которого рекруты обожали. Чхой Санг-мин даже подражал его походке, той четкости, с какой красавец поворачивался, когда к нему обращались. Теперь же этот офицер орал Чхой Санг-мину прямо в ухо:
– Попритворяться хочешь? Так притворись, что это не больно.
И с этими словами ударил коротким стальным прутом Чхой Санг-мина по почкам с обеих сторон с такой силой, что тот после этого несколько дней мочился кровью. На следующее утро, когда обучающихся вновь выстроили в две шеренги и приказали надавать пощечин друг другу, Чхой Санг-мин бил своего напарника с отчаянной яростью, которая так и осталась в нем навсегда: правой рукой по левой щеке, левой рукой по правой.
И поначалу, когда его, низенького тщедушного корейского паренька шестнадцати лет от роду, прислали в джунгли на далекой земле, он перепугался при виде более здоровых, более высоких и постарше годами австралийцев, орангутангов с широкими плечами, толстыми руками и волосатыми ногами. Они все время насвистывали и распевали. Опыт его жизни убеждал, что корейцы с японцами не слишком увлекаются ни тем ни другим прилюдно, и ненавидел это странное веселье. Вот и зашел дальше, чем, строго говоря, требовалось, со своими расправами, чтоб у них в мозгах отпечаталось: он больше мужчина, чем они все, – чтоб ясно стало, что веселье свое они должны прекратить. А через некоторое время эти люди стали усыхать и сжиматься, руки их повисали плетьми, а ноги торчали палками, посвистывали они меньше и только иногда пели.
И, если честно разобраться, заключенные заслуживали того, что получали. Они пытались отлынивать от работы, а когда не выходило, делали ее плохо и лениво. Положим, хоть и гораздо реже, но они все равно временами свистели или пели, когда он находился рядом. Крали они все: еду, инструменты и деньги. Если у них получалось исполнить работу плохо, то им в том прямо триумф виделся. Сами-то кожа да кости, они попросту сникали, когда работали и мерли там, на железной дороге. Мерли, бредя на работу, и мерли, возвращаясь с работы. Мерли во сне, мерли в ожидании кормежки. Случалось, мерли, когда их бьешь.
Чхой Санг-мин злился и на мир, и на заключенных, когда те умирали. Зло брало потому, что не по его вине не было ни еды, ни лекарств. Не по его вине свирепствовали малярия и холера. Не по его вине они были рабами. Так распорядилась судьба, и то была их судьба, а его судьба – оказаться там. Им судьба уготовила умирать там, а его судьба – умереть тут. Он попросту обязан был каждый день предоставить столько людей, сколько требовалось японским инженерам, убедиться, что они приступили к работе и оставались на той работе, какую японские инженеры считали нужным завершить. И свое дело он делал. Не было еды и не было лекарств, а дорогу надо было строить, дело надо было сделать, и все закончилось так, как всегда заканчивалось – и для них, и для него. Но он делал это все, делал свою работу, и их участок дороги был построен. И Чхой Санг-мин гордился таким достижением, единственным достижением, какое было ему известно в его короткой жизни. Он делал все это, и это было приятно.
Те случаи, когда он совершенно выходил из себя, были для него самыми восторженными. В своем мире темноты и невежества он ощущал свободу – более того, в первый раз в жизни чувствовал, что живет. Вся его ненависть, весь страх, злоба и гордость, его триумф и его слава сходились вместе, когда он причинял боль другим (или так ему теперь казалось), и на то короткое время жизнь его что-то да значила. Когда такое случалось, он избавлялся от своей ненависти.
Хотя нарастал нажим со стороны инженеров завершить строительство железной дороги, было еще приятно и интересно следить, как чем больше он их мордовал, тем меньше они оставались людьми, насколько реже теперь они посвистывали или пели, как все больше он в своих глазах делался человеком. Ведь пока он только тем и занимался, что пинал ногами, бил кулаками и лупцевал, он был свободен. Он слышал рассказы, как в Новой Гвинее служащие ИЯА ели австралийцев и американцев, и понимал, что тут дело в чем-то большем, чем просто голод. Понимал и то, что ничто из этого не служит оправданием, ничто не будет иметь никакого значения для австралийцев, для их адвокатов с глазами-скальпелями или судей, похожих на оплывшие свечи. Ведь когда он был охранником, он жил по-зверски, вел себя по-зверски, понимал по-зверски, рассуждал по-зверски. И он понимал: такое зверское и было единственным человеческим, что он позволял себе сохранять.
Ему не было стыдно за свое открытие, что его человеческое было зверским, было лишь недоумение: куда это его заведет? Когда ему перевели его приговор: смертная казнь через повешение, – он перенес это по-зверски, не понимая, но тупо сознавая, что свобода его позади и теперь ему пришел конец.
Глаза судьи свечными фитилями склонялись к нему, отсвечивая мерцающим пламенем, а он смотрел в них глазами, которые (он знал) уже мертвы. И покачивал головой туда-сюда, почувствовав, как что-то большое и ужасное свалилось на него. Ему захотелось тогда спросить про свои пятьдесят иен, но он смолчал, а теперь вдруг снова принялся метаться по камере, отыскивая путь, что привел бы к побегу. Только нет никакого пути – и никогда не было.
4
Они вымирали быстро и как-то странно: в автокатастрофах, в результате самоубийств и кожных болезней. Слишком много детей у них рождалось с недостатками и осложнениями, калеками, умственно отсталыми или попросту странными. Слишком часто их браки оказывались неудачными и нестойкими, а если и сохранялись, то скорее благодаря существующим тогда законам и обычаям, чем их собственной способности исправить неверное. А неверное было для некоторых чересчур велико.
Они отшельниками уходили в буш или оставались в городах, живя бок о бок с другими, и слишком много пили, были они слегка тронутыми вроде Быка Герберта, которого по пьяни лишили прав, так он стал ездить по городу на лошади, когда хотелось выпить, а выпить ему хотелось очень и очень с тех пор, как они с женой договорились о самоубийстве, поделили пополам яд, а когда он проснулся, она была мертва, а сам он живехонек. Они стали молчунами или невероятными болтунами вроде Петуха Макниса, который оброс жиром и показывал всем шрам от аппендицита, неизменно утверждая, что это его япошки штыком пырнули. «Петух, твою мать, не мели напраслину про япошек», – сказал ему Галлиполи фон Кесслер, попавший как-то на одно такое представление в Броадмедоузском пабе ЛВА[72]. «Не беспокойтесь, – обратился к сидящим рядом Петух Макнис. – Это всего лишь Кес. Он всегда был комунякой, но парень хороший. А сделал это охранник, которого звали Лев Гор, я давал показания против этого гада после войны».
Все они пили. Пили и пили и никак не могли напиться допьяна, сколько бы ни выпили. Когда они уходили на гражданку, армейские шарлатаны просили, чтобы они и их семьи не болтали об этом, предупреждая, что болтовня до добра не доведет. Прежде всего вряд ли это потянет на рассказы какого-то героя. Не о Кокоде[73] ж речь или о «Ланкастере» каком над долиной Рура[74]. И не о «Тирпице», Колдице[75] или Тобруке.
Что ж это в таком случае было? «А было это – сидеть в рабстве у косоглазого», – именно так и сказал Друган Фахи на их встрече в «Надежде и якоре».
«Тут особо-то бахвалиться нечем», – произнес Баранья Голова Мортон.
Ребята были забавные. Кое-кто исчез. Ронни Оуэн женился на итальянке, и она рассказала жене Бараньей Головы Мортона, Салли, что только через два года узнала, что Ронни был солдатом. Вот так-то вот.
«Бонокс Бейкер много лет ничего не говорил, а однажды ночью подошел к плите с пистолетом, – рассказывал Джимми Бигелоу. – Разнес ее в хлам. Видок был ни дать ни взять чертова терка для сыра с изнанки. После этого опять замолчал. Вот так вот как-то».
«Бедняга Шкентель Бранкусси», – бросил Баранья Голова Мортон. История была до того печальная, что пересказывать ее никому не хотелось.
Шкентель пронес карандашный портрет жены через все лагеря, плыл с ним на адовом корыте, на котором их переправляли в Японию, держал при себе, когда работал на верфи «Мицубиси» в Нагасаки, рисунок не пропал, хотя и здорово поблек при взрыве атомной бомбы, когда сам Шкентель каким-то чудом уцелел. Он двинул в горы искать безопасное место, шел мимо мертвых, плавающих в реке, будто поленья во время сплава, и мимо живых, с которых кожа слезала длинными полосками, похожими на морские водоросли, ковылял мимо скульптур из обугленных человеческих существ – идущих, едущих на велосипедах, бегущих, мимо всех тех японцев, что корчились в агонии в вздымавшемся аду из голубого огня и черного дождя, и все они, как и военнопленные, каких он помнил, умирая, звали матерей. И все это время он старался увидеть Мэйзи такой, какой нарисовал ее Кролик Хендрикс в то утро в сирийском селении, где стоял запах людей, попавших в беду.
Он старался представить ее как единственную вещь в мире, которая не была всем этим, и до тех пор, пока она там, он не умрет и не сойдет с ума, пока она там, мир добр. По пути в Манилу, куда его отправили на авианосце ВМФ США, он показал открытку американским морякам, и те согласились, что он очень удачливый малый. Наконец он добрался до Фримантла на пароходе, который шел в Мельбурн, и оттуда позвонил домой.
«Телефон Дэйва и Мэйзи, – ответил мужской голос. – Дэйв слушает».
Шкентель Бранкусси повесил трубку. Когда его судно вышло из Фримантла в море, в первую же ночь кто-то заметил, что Шкентель бросился за борт. Его так и не нашли.
Пиво стало чем-то вроде горючего для огня. Они пили, заставляя себя чувствовать так, как должны были чувствовать, если бы не пили, так, как чувствовали когда-то до войны, когда не пили. В тот вечер они чувствовали себя свирепыми, невредимыми и еще не загубленными, они еще смеялись над тем, что случилось в прошлом. И смеясь, они говорили, мол, война – это пустяк, и каждый погибший живет в них, и все случившееся с ними – это просто дрожащая прыгающая штуковина, бьющаяся внутри так сильно, что нужно поскорее выпить еще, чтобы умерить этот эффект.
В тот вечер Шкентель Бранкусси был жив в них, и маленький Уот Куни был жив в них, и Рачок Берроуз, и Джек Радуга, и Кроха Мидлтон были живы в них – все множество умерших, а Баранья Голова Мортон признался, что иногда даже с нежностью вспоминает этого грязного жалкого гаденыша, Петуха Макниса, который, должно быть, уже помер. А Галлиполи фон Кесслер (который явился на встречу в старых, будто сшитых из шинели штанах, до того обтрепанных у обшлагов, что, судя по виду, он их у чучела купил) помянул Смугляка Гардинера, а потом Джимми Бигелоу затянул песню: «С каждым днем и во всем помаленьку становится лучше».
В тот вечер они стояли у камина в пабе «Надежда и якорь», пока их брюки сзади не стали такими горячими, что подтолкнули тех, на ком они были, выпить еще по пиву. Стоял сорок восьмой, а может, сорок седьмой год. Когда бы это ни было, погода вечером была не ахти, и приятно было сидеть под крышей, в тепле. Они не собирались вместе с тех пор, как ушли на гражданку. Джимми Бигелоу говорил мало. Семейная жизнь, в какую он вернулся, была не той семейной жизнью, которую он оставлял. Или он вернулся другим.
«Стараюсь как могу», – обмолвился он в разговоре.
Опять же – дети. У него их в конце концов стало четверо, и его называли семейным человеком. Но он им не был. Он был человеком, у которого четверо детей. Никто особо не поминал Смугляка Гардинера, кроме Галлиполи фон Кесслера, который произнес: «Никитарис».
– Ага, – кивнул Баранья Голова Мортон. – Рыбный магазин «Никитарис», черт бы его побрал. Говорил о нем без умолку, помните?
5
Джимми Бигелоу отмалчивался. Он был подавлен, в этом все дело, наверное. Но он в разговоры не лез. Его надежды стать музыкантом, стать кем-то не оправдались. Работал на каком-то цинковом заводе кладовщиком. Музыка больших джаз-оркестров, которую он любил, была теперь не в моде. Новая музыка, бибоп и современный джаз, не была для него музыкой. Так, сбивчивый шум, делающий вид, будто музыку можно извлечь из уличных пробок. Под такую ни потанцевать, ни влюбиться. То была музыка не Эла Боулли. Играли Бенни Гудман или Дюк. Оркестры-ансамбли все ужимались, если не исчезали вообще.
То, во что он верил, уходило в море, скрываясь из глаз, утрачиваясь навсегда. Уходило то, к чему, как ему казалось, он возвращался домой. То, чем он надеялся стать и на чем строить жизнь. Оказалось, что это медного гроша не стоит. Он уже не вписывался в собственную жизнь, его жизнь рушилась, а все, что еще держалось: работа, семья, – похоже, разваливалось на куски. Он хотел наладить все с Далси, со своей жизнью, с бибопом и свингом, но было слишком поздно. Ему хотелось наладить все, но это было невозможно.
Однако вовсе не поэтому, выйдя из паба, они направились на Элизабет-стрит к рыбному магазину «Никитарис». Чтобы исправить все неверное. Они ушли потому, что уже почти наступила полночь, время закрытия давно миновало, они ж были пьяные, их выставили, и они не смогли придумать ничего для себя получше.
Стояла одна из тех ночей, какие весной случаются в Хобарте, – холодная, как милостыня, со снегом, во всю мочь засыпавшим гору, с гаванью, будто в мыльной пене, с ледяным дождем, бившим и царапавшимся в окна и по железным крышам, точно буйный пьяница, которого заперли.
Они прошли по Элизабет-стрит до рыбного магазина «Никитарис», следуя за шинельными штанами Галлиполи фон Кесслера, шагавшего впереди. Можно было жахнуть по улице из миномета – и ни в кого не попасть. Рыбный оказался не таким магазином, какой представлялся им в лагерях: повсюду народ, и пар, и запах жареного, и девчушка Смугляка, сидящая внутри в ожидании, когда они войдут и сделают то, что должны. Нет, ничего подобного.
– Заперто, как у той монашки, – сказал Баранья Голова Мортон, когда они добрались.
«Никитарис» оказался закрыт: двери на замке, внутри ни души, свет везде погашен, кроме лампочек, освещавших длинный бак с рыбой в витрине. Рыба плавала в нем – все кругами, кругами. Пара плоскоголовых, трубач, две золотистые ставриды и спинорог. Не считая их, пялившихся на аквариум, вылизанная ночью улица была пуста.
– Ну так, – заговорил Баранья Голова Мортон. – Нельзя сказать, что они точно выглядят несчастными.
– Может, в каждый отдельный момент и мы в лагерях не выглядели, – сказал Джимми Бигелоу.
Они стояли кружком, руки в карманах, поводили плечами, чтоб согреться, постукивали ногой об ногу, будто ждали, когда прибудет полночный поезд. Или отойдет.
– Нет ничего бестолковее сборища пьяниц, – сказал Галлиполи фон Кесслер. – Даже тупые клуши чего-нибудь да делают.
Джимми Бигелоу казалось, будто от него одна внешность осталась, внутри же – ничего. Какая-то беда с чувствами. Ему хотелось чувствовать, только этого по одному хотению не получишь. Он поднял камень, покатал его на ладони. Бросил взгляд на витрину. На толстенном стекле красовалась надпись с затейливыми завитушками: «РЫБНЫЙ МАГАЗИН “НИКИТАРИС”». Он отвел руку, размахнулся сплеча и без лишних слов, со всей силы запулил камнем в витрину.
Они слышали, как треснуло стекло. Не все сразу. Но точно во времени, медленно, со вздохом разверзся длинный пролом. Джимми Бигелоу улыбался так, будто у него рот разошелся до ушей.
Потом они все принялись швырять камни, витрина разбилась вздребезги, а они оказались внутри. Галлиполи фон Кесслер, у которого был врожденный дар импровизации, схватил сетку для обжаривания картошки в масле и принялся вылавливать ею рыб. После нескольких неудачных попыток они таки затолкали рыб в два поломойных ведра и зашагали в сторону доков, стараясь не расплескивать воду.
На крупной зыби, проникавшей даже в этот отдаленный уголок гавани, под жестоким ветром, метавшимся над бухтой, качалось несколько лодок рыбаков и краболовов. Стоя на краю дока Конституции, Баранья Голова Мортон нагнулся над ведром и заорал:
– Вы, мать вашу, свободны!
И опрокинул ведро.
Рыба попадала в плещущуюся воду.
6
На следующий вечер в «Надежде и якоре» эту историю рассказывали со смаком, даром что сдерживал все возрастающий стыд. Наконец Джимми Бигелоу предложил пойти переговорить с Никитарисом и рассчитаться с ним за витрину. Было еще не поздно, и в магазине горел свет. Стекло в витрине уже заменили, хотя еще и не расписали.
Внутри несколько старушек готовили картошку фри, и какой-то малец драил полки с товарами в торговой части магазина. Баранья Голова Мортон спросил, нельзя ли увидеть мистера Никитариса. Малец исчез и возвратился откуда-то из задних комнат с невысоким старичком, чье дряхлое тело сохранило тихую решимость каменщика, кем старичок был в молодости. Волосы у него отливали серебром, а кожа была цвета какого-то пятна, которое пытались вывести, да не сумели. Влажная пустота пролегала вокруг его темных глаз. От него пахло табаком и анисом.
– Мистер Никитарис, – начал Джимми Бигелоу.
– Ребят, вам чего надо? – сказал старик. У него был сильный акцент. Голос звучал устало и раздраженно. – У меня был паршивый день. Вам чего надо?
– Мистер Никитарис, – повторил Джимми Бигелоу, – мы…
– Оставьте-ка просто свой заказ вон у той пожилой леди.
– Мы…
– Миссис Патифис, вон там, – сказал старик, показав узловатым пальцем.
– Мы пришли извиниться, – сказал Джимми Бигелоу.
– У нас товарищ был, – начал Баранья Голова Мортон. И на этот раз старый грек ничего не сказал в ответ. Он до того ссутулился, что с трудом видны были его глаза, взгляд которых шарил по полу, выложенному черной и белой плиткой, пока Баранья Голова рассказывал историю с начала и до конца.
Когда рассказ закончился, Джимми Бигелоу сказал, что они хотели бы заплатить старику Никитарису за разбитую витрину, за рыбу и за весь причиненный ущерб.
Старый грек с ответом не торопился. Взгляд его то уходил вверх, то блуждал кругами, поворачивая слегка дрожащую голову, старик вглядывался в каждого по очереди.
– Он был вашим другом?
Как и все иммигранты, он, похоже, обладал безошибочным чутьем на древнейшие, самые верные слова в своем новом языке. Он так выговорил это слово, что оно воспринималось лишенным коварной весомости «товарища».
– Да, – ответил Баранья Голова Мортон. – Нашим другом.
Баранья Голова Мортон достал бумажник:
– Сколько мы вам должны, мистер Никитарис?
– Мое имя Маркос, – сказал старик. – Но зовите меня Марко.
– Мистер Никитарис. Это была ваша витрина, а мы ее разбили.
Старик вскинул дрожащую старую руку и тряхнул ею.
– Нет, – сказал он, – высадили. – Спросил, не голодны ли они, и, не дожидаясь ответа, объявил, что они должны стать его гостями и поесть. – Садитесь и ешьте, – пригласил старый грек. – Поесть полезно, ребятки.
Мужчины переглянулись, не зная, что делать.