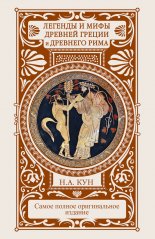Узкая дорога на дальний север Флэнаган Ричард

– Вы мои гости, – сказал старик, выдвинув табуретку и положив руку на плечо Джимми Бигелоу. – Прошу вас. Садитесь. Вы должны поесть.
Вот они и сели.
– Вам нравится вино? У меня есть красное вино, которое вам, может быть, понравится. Подавать его мне не полагается, так что не устраивайте из этого представления, но пейте сколько хотите, ребятки.
Он отошел к плите с горячим маслом, наполнил сетчатый дуршлаг резаной картошкой, потом вернулся.
– Вы любите акулье мясо, или лучше барракуда? Некоторые предпочитают акулу, но, поверьте мне, барракуда костлявая, это правда, зато она нежная. Очень нежная. Вы должны поесть. Есть это полезно.
Он подал рыбу с картошкой фри на их столик, затем наполнил под стойкой несколько стаканчиков красным вином и тоже подал. После чего сам присел с ними. Пока они ели, он дал им выговориться. Когда же они выдохлись, он заговорил о том, что такая зима предвещает хорошее лето для абрикосов, да-да. Потом повел рассказ о своей жизни, об острове Липсос, откуда он родом, прекрасной, но суровой тамошней жизни, о своей покойной жене, о том, что у них, людей молодых, впереди целая жизнь. Богатая жизнь. Хорошая жизнь. Да-да. Как говорят люди, посещение его рыбного магазина доставляет им радость. Он надеется, что это так.
– Правда надеюсь, – говорил старик. – Такова жизнь.
– У вас есть дети? – спросил Джимми Бигелоу.
– Три дочери, – ответил грек. – Порядочные девушки. Порядочные семьи. И сын. Хороший мальчик. Хороший…
Тут старый грек на секунду запнулся, бормоча что-то неразборчивое, и лицо его, казалось, затряслось и сошло со своей неуклюжей оси. Он поднес к лицу руку с узловатыми пальцами, похожими на старые обрезанные ветви абрикоса, дрожащие под порывом осеннего ветра. Словно пытался закрепить свое лицо в картинке достоверности.
– Его убили в Новой Гвинее в 1943-м, – выговорил он. – Бугенвиль.
Магазин неспешно опустел, сотрудники убрали помещение, заперли и ушли, улица снаружи замерла, лишь иногда какая-нибудь редкая машина, шелестя, полосовала лужу. Внутри же они просто рассказывали и рассказывали старику греку о многом и многом, пока не стало до того поздно, что не осталось ни одного открытого паба. Но им было уже все равно. Они все сидели и сидели. Говорили о рыбалке, о еде, ветрах и кладке камня, о выращивании помидоров, о том, как держать кур и жарить баранину, ловить раков и морских гребешков, сказки рассказывали, обменивались шутками, россказни их ничего не значили, но их поток значил все, будучи сам по себе хрупким и прекрасным мечтанием.
Трудно сказать, насколько полезными сочли их желудки ту рыбу с картошкой и дешевое красное вино. На вкус было отменно. Старый грек сам сварил им свой особый кофе – густой, черный и сладкий в маленьких чашечках, – и угостил их печеньем с грецкими орехами, которое испекла его дочь. Все было странным и в то же время притягательным. На простых стульях сиделось легко, и место тоже уже казалось вполне достойным, а люди – приятными, и, пока длилась та ночь, казалось Джимми Бигелоу, не было другого места во всем свете, где ему хотелось бы быть.
7
Осенью 1948 года, сойдя по трапу «Дугласа ДС-3» в Сиднее, Дорриго Эванс и ужаснулся и поразился, увидев, что она встречает его. Японцы с немцами, может, и сдались в 45-м, зато Дорриго Эванс не сдался и не сдавался еще некоторое время. Он мужественно старался вести свою войну, жадно хватаясь за любые возможности, предоставлявшиеся невзгодами, интригами, балансированием на грани войны и приключениями. Представлялись они все реже и реже. Много лет спустя он осознал, как трудно признать, что во время войны, даром что три с половиной года провел военнопленным, он в чем-то важном был свободен.
Вот и откладывал свое возвращение как можно дольше, однако через девятнадцать месяцев работы по всей Юго-Восточной Азии в самых разных армейских ведомствах (занимавшихся всем: от репатриации до воинских захоронений и послевоенного восстановления) он исчерпал все прикрытия и уперся в необходимость выбирать: либо обычная карьера в армии, либо возможности жизни на гражданке. Чутье ничего не подсказывало ему, в чем могли бы заключаться эти возможности, но неожиданно они показались привлекательными, армия же перестала быть увеселительной прогулкой, как когда-то, с ее поражениями и победами, с ее образом жизни – жизни! – когда все устоявшееся то и дело рвалось в клочья, пуская все прочно сложившееся по воздуху. Богатство, слава, успех, лесть – все, что придет позже, казалось, лишь обостряли ощущение бессмысленности, какое ему предстояло изведать в гражданской жизни. Он никак не мог признаться самому себе, что смысл его жизни придавала смерть.
«Невзгоды пробуждают в нас лучшее, – сказал ему сидевший рядом приземистый толстяк-офицер из Комиссии по воинским захоронениям, когда ДС-3 довольно тревожно швыряло шквалистым ветром из стороны в сторону при заходе на посадку в Сиднее. – Повседневность – вот что нас гробит».
Шагая по бетонке к кучке людей, ему не знакомых, он решительно настраивался встретить новую гражданскую жизнь, как встречал и одолевал такое множество других препятствий за семь лет, что они не виделись, – с обаянием и отвагой, а еще с пониманием, что время скоро смоет все безумства далекого прошлого, как, похоже, смывает (или так ему казалось) почти все.
«Вперед, в атаку, – шептал он себе, собирая лицо в улыбку, которую, казалось ему, считали обаятельной. – В атаку на ветряную мельницу».
Обыденная красотка махала рукой в перчатке. Обыденный жест, смысл которого, насколько он понимал, донести содержимое обыденного сундука чувств, полагающихся в приданое девушке: радость, восторг, облегчение – любовь, как он допускал, признанная верность, которой он опасался. Ничто из этого не имело для него особого смысла, он был вне всего этого. Положим, после первых нескольких слов он узнал ее голос, летний воздух казался слабеньким, пустым и как-то разочаровывал после парного безумия Азии, и даже после того, как они поцеловались, он все никак не мог вспомнить ее имя. Губы ее показались сухими и разочаровали: будто пыль целовал, – но наконец-то, по счастью, имя вспомнилось.
– Элла, – произнес он.
Да, подумал, это оно. На вкус горше ржавчины.
– О… Элла.
– О, Элла, – произнес он мягче, надеясь, что какие-то другие слова, значимые для этого имени и для него, возможно, сами придут на язык, если он просто повторит ее имя. Не пришли. Элла Лансбери лишь улыбнулась.
– Не говори ничего, дорогой, – сказала она. – Прошу, не говори никаких фальшивостей. Я не переношу фальшивых мужчин.
– Но я, – сказал он, – абсолютная фальшивка. Ничего иного во мне нет.
Она уже улыбалась – той занудной, всезнающей, ничего не понимающей улыбкой, которую ему только предстояло невзлюбить еще больше, те же неожиданно сухие губы сообщали ему, что все устроено, что ему больше не о чем беспокоиться. Теперь он припомнил, что в 41-м сделал ей предложение: способ поцеловать ее в грудь. Насколько он помнил, было это в последнюю ночь того, чему предстояло стать его последним отпуском с Эллой до погрузки на суда, а он беспрестанно думал об Эми. Чтобы унять поток непрерывных вопросов Эллы о том, почему он не делает предложения, и убежать от непрекращающихся раздумий об Эми, а заодно и от вызванного этим стыда, он соображал, каким образом преодолеть сложный лабиринт, ведущий к ложбинке между грудями, и не нашел ничего лучшего, как загадать извечную загадку: «Элла, ты выйдешь за меня замуж?»
Она действительно не знала, о чем он на самом деле думает? Не знала?
В грудях ее не было забытья. Все в Элле лишь напоминало ему – еще болезненнее – об Эми. Ему и тогда было стыдно, а сейчас было еще стыднее.
– Вот почему я и люблю тебя, Элвин, – сказала она. Элвин? Секунду он понять не мог, что она имеет в виду. Потом вспомнил: это он и есть. От этого тоже вкус был горше ржавчины. – Потому что ты кто угодно, только не фальшивка.
И так же, как она заключила его в объятия, пылкие и тесные, так и все, кого он встречал в последующие несколько дней, приходили к неизбежному заключению, что они должны пожениться: семь лет назад в надвигающемся сумраке войны и вопроса не было, что обручение устроено поспешно, а его неминуемое отплытие за океан теперь с такой готовностью принималось во внимание, что не оставалось места ни для каких-либо рассуждений, ни для задних мыслей. За истекшие годы Дорриго Эванс прожил несколько жизней, тогда как ее единственная жизнь (так, во всяком случае, виделось ему) была посвящена представлению о нем, в ком он себя едва узнавал. Время от времени он ощущал в себе что-то злое и дерзкое, но он был измучен как никогда, и казалось, куда легче позволить, чтобы жизнь его устраивалась значительно более широкой общей волей, чем его собственными, личными и, несомненно, неуместными ужасами. Во всяком случае, разум его, так ему казалось, представлял собой какой-то тюремный лагерь ужасов. Вовсе не хотелось придавать ему больше значимости, чем требовалось. Дорриго понимал, что вокруг многие из взволнованных его грядущей женитьбой куда более трезвы и здравомыслящи, чем он, а потому всецело положился на их трезвость и здравомыслие (настолько идущие вразрез с его еще более странными суждениями) в надежде, что они, возможно, вытащат его на новое и лучшее место. В столь детском подходе отразилась еще и часть его натуры: его неизменно привлекало волнение нового и неведомого, особенно когда оно еще и пугало. И, поскольку ничто не пугало его больше, чем перспектива женитьбы на Элле Лансбери, то есть то, что он проделал три недели спустя в алкогольном тумане и новом костюме, который она выбрала, и в нем навсегда осталось ощущение, что в нем видели такую же показуху, какой было их бракосочетание в соборе Святого Павла.
Они еще не успели поцеловаться, как он опять забыл свое имя: почувствовал себя потерявшимся в запахе ее пудры, – а потом оно наконец вспомнилось. «Элвин, да, точно… Я, Элвин…» – произнес он. Повернулся и посмотрел на нее, всю накрашенную, напомаженную в обрамлении кружев и цветущего флердоранжа, но видел только узенькое личико, странный нос, который всегда казался ему немного противным, выгнутые дугой тоненькие брови, – и не находил в ней ничего привлекательного. «Беру тебя, Элла», – сказал он уже мягче, и Элла Лансбери (которой скоро предстояло стать Эллой Эванс) просто улыбнулась, губы у нее слегка разошлись, но ничего не произнесли.
«Я не Элвин, – хотелось ему объявить на свадебном торжестве, – и я абсолютная фальшивка». Но вместо этого он лгал и говорил о любви, которая пережила семь лет разлуки, мифический срок, достойный Улисса и его спутников. И хотя единственный классический герой, которого он в действительности напоминает, – это баран (громкий смех), Элла воистину его Пенелопа, и он счастлив наконец-то прибыть на свою Итаку (громкие аплодисменты).
Всю оставшуюся жизнь Дорриго Эванс уступал обстоятельствам и ожиданиям и привык называть это бремя долгом. Чем сильнее чувствовал он вину за свой брак, за свою неудачу вначале как мужа, а позже – отца, тем отчаяннее старался делать только то, что было благом для его общественной жизни. И то, что было благом, что было долгом, всегда оказывалось самым удобным бегством, которое было комфортно неизбежным, именно тем, чего ожидали другие. А вот плохим и безнравственным был он сам, решил он в первый раз, когда всего через месяц после медового месяца спал с другой, а не со своей женой – с ее лучшей подругой Джоан Ньюстед, женщиной с завораживающими влажными губами и лукавой улыбкой. Случилось это в какой-то хибаре в Сорренто в разгар дня, когда все остальные удобно разошлись кто куда.
Но пережитый опыт – только арка,
Через нее непройденное светит… —
шептал он ей потом, проводя пальцем вверх и вниз по москитной сетке, прежде чем вновь повернуться к ней, уронить голову и ухватить ее темный сосок краешком нижней губы, продолжая читать наизусть Теннисона и овевая мягким дыханием ее грудь:
…И край того нехоженого мира,
Чем дальше путь держу, тем дальше тает.
В тот вечер устроили барбекю, потому что мясо, оставленное висеть в допотопном холодильном шкафу, начало портиться на жаре, и хотя карточки на мясо только что были отменены, все равно чувствовалась неловкость оттого, что хорошее мясо может пропасть. Вероятно, он выпил слишком много, вероятно, он выпил недостаточно, думал он после, только голова у него кружилась, а живот был будто гвоздями набит. Ему казалось, что он обрюзг и взвинчен от того большого, неверного и скрытного, что встало между ним и Эллой, Эллой, от которой он отныне не хотел ничего скрывать, тогда как Джоан Ньюстед ревниво относилась к вниманию, какое Дорриго оказывал ее лучшей подруге, своей жене. Что он делает? – ломал он голову. – Неужели надеется, что его выведут на чистую воду?
Филейный стейк жарился на неистовом жаре докрасна раскаленных углей, но когда он разрезал мясо, оно еще не дошло, и на миг он вновь вернулся туда, направляясь через весь лагерь на свой второй за день обход в разгар муссонных дождей и Гонки. Приблизившись к язвенному бараку, Дорриго утонул в облаке вони от гниющей плоти. И вспомнил, что вонь гнилого мяса была до того сильна, что Джимми Бигелоу при первой возможности выскочил наружу проблеваться.
8
После вынесения приговора Чхой Санг-мина перевели в «Галерею П» тюрьмы Чанги, где приговоренные жили вместе как равные – японцы, корейцы и формозцы. Ему выдали грязно-коричневую форму, помеченную английскими буквами «CD». Буквы, объяснили ему, означают, что он приговорен к смерти. Чхой Санг-мин заметил, что каждый CD отчаянно старается заполнить свои дни какой-нибудь деятельностью, и ни один по виду не был ни удручен, ни излишне озабочен тем, какое будущее ему уготовано. Да он и сам чувствовал, как у него отлегло от сердца, словно чувство страха, преследовавшего всю жизнь, и ощущение собственной неполноценности исчезли без следа. Все это не имело теперь никакого значения. И все потому, что пришел его черед умереть.
Каждое утро их выводили из камер, заставляли умыться – и начинался еще один день занятого небытия. Они сидели на пышущей жаром галерее без рубах в центре камер, играли в го или сеги, перечитывали какую-нибудь книжку или журнал из немногих бывших в наличии или просто сидели в одиночестве. Раз в несколько недель с уведомлением о казни являлся капитан-индиец в серебряных очках, за которыми медленно плавали туда-сюда блестящие головастики глаз. Скованные страхом узники молча ожидали, гадая, кому выпало умереть, и каждый чувствовал громадное облегчение, когда жребий выпадал не ему, а кому-нибудь из соседей.
В третье из таких посещений Чхой Санг-мин понял, что умереть предстоит ему, но не потому, что ему это подсказали чувства, ведь к тому времени чувств у него, кажется, уже не осталось. И не из бумажки, которую ему вручили. Бумажку он держал в руках, но никак не мог совместить самого себя и свою жизнь с тем, что, как ему сказали, было написано в бумажке.
Он поднял взгляд, обвел им «Галерею П». Это бумажка ничто, а он – человек. Человек, рассуждал Чхой Санг-мин, это что-то. Человек, хотелось сказать Чхой Санг-мину, наполнен столь многим, так многое в нем меняется. Человек – хороший ли, плохой – великолепен. Не может такого быть, чтоб вот эта штуковина, это ничто, которому вовек не измениться, могло означать конец всему, что движется и меняется в нем – хорошем, плохом, великолепном.
И все же это было так.
А вот по ужасному облегчению, которое выказали другие узники, облегчению, которое окатило его дыханием обжигающего пламени, он как раз и понял наконец, что на следующее утро его казнят.
Тем четверым, кому предстояло умереть, дали японскую еду и сигареты. К ним пришел буддийский монах. Чхой Санг-мин, который никогда особо не задумывался о религии, помнил, что его отец (о котором он тоже не особо много думал) сказал однажды, что он чхондогест[76]. А потому присутствие буддийского монаха его рассердило.
Чхой Санг-мин посмотрел на принесенный ему рис, суп мисо и темпуру. Ему очень хотелось острого материнского кимчхи, он ненавидел пресную японскую еду. Только теперь ненависть и злоба не принесут ему добра. Он не мог есть свою последнюю трапезу. Если съест свою последнюю трапезу, это будет последним, что он съест. Последняя трапеза было согласием с неизбежностью смерти. А он был несогласен со своей смертью.
Он курил сигареты, которые ему дали, и не говорил ни слова, когда другие приговоренные рассказывали о своих близких. Их разговоры ему не нравились: на руках у него была бумажка, против которой его жизнь казалась космической силой.
Ничего он не сказал и после ужина, когда охранники внесли весы и жестом велели встать на них. Чхой Санг-мина взвесили. Измерили его рост. Он знал, зачем это, потому что другие ему рассказали. Откуда они сами узнали, было загадкой. Рассказывали они ему так, будто свои познания о виселице впитали с молоком матери.
Палач, говорили они, приладит пеньковую веревку на нужной для человека высоте в соответствии с его ростом, так падение будет правильным и наберет максимальную силу, чтобы под конец сломать ему шею. Потом он наполнит песком мешок до того же веса, что и у Чхой Санг-мина, привяжет его к пеньковой веревке и оставит висеть на ночь, чтоб она вытянулась, так что, когда завтра Чхой Санг-миг полетит в люк, веревка не спружинит. А если она не спружинит, то шея у него должна сразу же сломаться.
Ему вспомнился японский офицер, который выказал замечательную выдержку в ночь перед казнью. Когда стража пришла его взвешивать, он сказал им на ломаном английском, что умирает за Японию, что не испытывает стыда за то, что заставлял пленных упорно работать на императора, и как человек военный понимает, что умирает просто потому, что его страна потерпела поражение.
Чхой Санг-мин мечтал о такой ясности и четкости. У японцев это есть, по крайней мере он всегда чувствовал, что у японцев это есть. А теперь-то он еще и понимает, что чуял, когда пытался выбить кулаками и сапогами это из военнопленных: у австралийцев это тоже есть. У всех есть, у каждого в этом мире есть. Кроме, наверное, него самого.
Виселица стояла за галереей, где Чхой Санг-мин и трое других сидели в ожидании своего последнего в жизни узилища. В дни казней те CD, которым еще предстояло утверждение даты казни, молча ожидали в этой галерее, им было слышно, как приговоренный поднимается на эшафот, слышны его последние слова. Тот японский офицер выкрикнул: «Да здравствует император!» Люк, хлопнув, распахнулся, и почти сразу же последовал глухой удар.
«Но что хорошего в таком отношении для меня, корейца?» – подумал Чхой Санг-мин. Для своей страны он ничего не совершил, и его страна ничего для него не сделала. Никаких убеждений у него не было. Он подумал о родителях, представил, какой мукой для них станет известие о его смерти, и понял, что никак не смог бы им объяснить, ради чего он умер. Только и есть что пятьдесят иен в месяц.
Пока они ждали в этом предбаннике смерти, приговоренный охранник по имени Кендзи Могами распевал песни. Они с ним очень недолго работали в каком-то лагере для военнопленных. У него было прозвище Лев Гор, но и он, никогда никого не ударивший, тоже должен был умереть. Чхой Санг-мин вспомнил, как один австралиец пел, а он заставил его прекратить пение, но с пением Кендзи Могами он ничего поделать не мог. Еще один японский офицер вальсировал в одиночку. Потом их развели по камерам.
Спать он не мог. Почти болезненно ощущал себя живым и бодрствующим: теперь хотелось вкусить и познать каждый миг своей жизни. Не давая мозгам дико метаться между отчаянием из-за невозможности бежать и злостью оттого, что он не получает своих пятидесяти иен, он попробовал вспомнить, как другие встречали смерть во время казни.
«Ура великой корейской стране!» – выкрикнул один кореец, делая роковые тринадцать шагов.
«Какая великая корейская страна? – крутил головой Чхой Санг-мин. – Что с моими пятьюдесятью иенами? Я не кореец, – думал он про себя. – И не японец. Я человек из колонии. Где мои пятьдесят иен, хотелось бы знать? Где?»
Его отец, крестьянин, когда-то хотел, чтоб он получил образование, но времена были трудные, и после трех лет начальной школы, заучив кое-какие японские мифы и историю, он бросил школу, пошел в услужение в корейскую семью. Платой там ему были стол, две иены в месяц и постоянные колотушки. Было ему тогда восемь лет. В двенадцать он пошел работать в японскую семью, где платой были стол, шесть иен в месяц и взбучки время от времени. В пятнадцать он прослышал, что японцы набирают охранников для службы в лагерях военнопленных. Плата составляла пятьдесят иен в месяц. Его тринадцатилетнюю сестру японцы уговорили поехать в Маньчжоу-го поработать женщиной для утешения за такую же плату. Тогда она говорила ему, что будет помогать солдатам в госпиталях, была, как и он, в большом восторге. Поскольку ни читать, ни писать сестра не умела, больше он о ней ничего не слышал, теперь же, когда он узнал, что делали женщины для утешения, он старался не думать о ней, надеясь, что она умерла – ради ее же блага.
Хотя у него было немало имен: его корейское имя – Чхой Санг-мин, японское имя, которое ему дали в Пусане и обязывали отзываться на него, – Акира Санья, австралийское имя, которым сейчас его зовут охранники, – Варан, – он чувствовал, что понятия не имееет, кто он такой. Некоторые приговоренные могли похвастать твердыми убеждениями относительно Кореи и Японии, войны, истории, религии, справедливости. Как понял Чхой Санг-мин, у него ни о чем никаких понятий не было. Только разделять понятия других казалось ему ничуть не лучше, чем не иметь вообще никаких понятий. Потому как были это не их собственные понятия, а почерпнутые из лозунгов, радиопередач, армейских наставлений, – одни и те же понятия, какие усваивались при одних и тех же бесконечных избиениях, которые и сами они переносили во время японской военной подготовки. В Пусане его хлестали по щекам, потому что голос у него был слишком тихий, хлестали за то, что он слишком уж кореец, хлестали, чтобы показать, как надо хлестать по щекам других – со всей силы и наотмашь. Чхой Санг-мин ненавидел это. Хотел сбежать, вернуться домой. Только он знал: если сбежит, его накажут и, что еще хуже, накажут всю его семью. Ему дают пощечины, говорили ему, чтобы из него получился сильный японский солдат, но он знал, что ему никогда не бывать японским солдатом. Быть ему тюремным охранником, сторожить людей, которые и звания такого не заслуживают, – тех, кто предпочел плен смерти.
Уже на пороге смерти Чхой Санг-мину отчаянно захотелось заиметь собственое мнение хоть о чем-нибудь. В ту долгую ночь он надеялся, что мнение у него в конце концов появится, раскроет его, мнение, которое позволит ему что-то понять и в то же время познать покой. Он надеялся уподобиться тому японскому офицеру, который верил в императора, или тому корейскому охраннику, который верил в Корею. Наверное, ему следовало запросить больше пятидесяти иен. Но никакой идеи не появилось, и слишком уж быстро настало утро.
Когда в камере стало светлеть, ему захотелось спокойствия, понадобилось то чувство, какое он впервые испытал ребенком, прислуживая в японской семье. Японец, отец семейства, был инженером, получившим образование в Шотландии. Он носил твидовые костюмы, как британец, держал домашнего пса, который в те времена питался куда лучше Чхой Санг-мина, потому как кормили собаку отборными кусочками со стола японского семейства. Семейство пса обожало, а потому одной из ежедневных обязанностей Чхой Санг-мина было его выгуливать. У пса были большие глаза и крупная голова, которая дергалась, когда животное смотрело на Чхой Санг-мина в ожидании, когда тот в очередной раз бросит ветку. Однажды Чхой Санг-мина послали на рынок, он пошел туда с собакой, и, решив срезать путь, отправился боковыми улочками. В одном месте споткнулся пальцем босой ноги о лежавший на дороге старый кирпич. В ярости поднял его, а пес меж тем устремил на него взгляд, полный доверия и обожания, дернул головой из стороны в сторону, ожидая, когда кореец бросит кирпич, словно тот был мячом или веткой. И Чхой Санг-мин с размаху долбанул кирпичом пса по голове, потом еще и еще раз, пока руки у него не стали темными и липкими от крови и костного крошева.
Тело пса он продал мяснику за десять иен, а потом пошел обратно к японской семье, где служил. В воздухе стоял сладкий аромат, легкий ветерок приятно холодил лицо, каждый прохожий, проходя, казалось, дружелюбно улыбался ему, и им овладело невероятное чувство покоя и удовлетворения от того, что он сделал. Как же хотелось ему еще раз почувствовать, еще раз познать тот волнующий миг неведомой силы и свободы, что принесло с собою убийство живого существа. Жаль, в его камере не было никого, кого он мог бы убить и тем возродить давнее ощущение, теперь уже скоро другим переживать удовольствие от его смерти, как когда-то он сам его пережил, убив пса японского инженера. Свет в камере делался все заметнее: он четко разглядел сначала свои руки, затем бедра, а потом и ноги – и вдруг ощутил, как ужас пробирается к нему в живот. Чхой Санг-мин понял: никогда больше не увидеть ему себя в утреннем свете.
Он затеял драку с охранниками, когда пришли вести его на виселицу. Он увидел таракана и захотел его убить. Времени не хватило. После того как ему связали руки за спиной, вызвали врача, и тот через переводчика спросил, не хочет ли он принять успокоительное. Чхой Санг-мин завопил. Он по-прежнему видел таракана. Ему дали четыре таблетки фенобарбитала для успокоения нервов, но тело его было слишком возбуждено, и таблетки сразу выскочили обратно вместе с рвотой. До того как доктор сделал ему укол морфина, Чхой Санг-мин успел раздавить таракана каблуком. Его слегка подташнивало и голова кружилась, когда он прошел короткое расстояние от «Галереи П» до виселицы, поддерживаемый с обеих сторон солдатами. Теперь все происходило очень быстро. Когда вышли во двор, он увидел два прислоненных к стене мешка с песком. Во дворе было с дюжину человек или больше, шестеро на эшафоте, и еще больше внизу. По сходням, устланным соломой, его отвели на эшафот. Поразило, насколько веревка оказалась толще, чем он ожидал. Она напомнила ему корабельный трос. Какая-то зверская радость появилась при виде большого, могучего узла. «Я понимаю, – хотелось ему сказать веревке. – Ты меня заждалась». Думалось ему спокойно, даже как-то приятно, зато все лицо дергалось. Так много народу, и ни один ни слова не скажет, а у него лицо никак не перестает дергаться. Сбоку, метрах в пяти, зиял открытый второй люк, а из него тянулась туго натянутая веревка. Он понял: на том конце, недоступный взгляду, болтался Кендзи Могами.
Его спросили, не желает ли он что-нибудь сказать. Чхой Санг-мин поднял голову. Где-то колокол отбивал время. Он глянул вниз на солдат и журналистов. Ему захотелось сказать, что у него есть идея. Кто-то тихонько смеялся. Не было у него никакой идеи. Ему платили по пятьдесят иен, а пятьдесят иен – это куш невеликий, а куда того меньше – идея. Пятьдесят иен – ничто. На люке перед собой он увидел сделанные мелом отметины, как он понял, чтоб ноги встали точно куда надо. «Пятьдесят иен!» – хотелось ему воскликнуть. Солдаты все еще держали его за руки. Он заметил, что пятна меловой пыли похожи на белую гальку. Он склонил голову, и на нее накинули балахон. Закрыл глаза, потом открыл. После месяцев, которые текли ужасно медленно, теперь все неслось слишком стремительно. Он чувствовал холст, и почему-то его темнота пугала гораздо больше, чем ночь его собственных глаз, а потому он снова закрыл их. Утро уже стало жарким. В балахоне было душно. Почувствовал, как через голову ему накинули петлю, и в ту же минуту понял, что колени ему стянули вместе. Собрался было попросить помедлить, подождать, но почувствовал, как решительным толчком петлю затянули вокруг шеи, и издать удалось лишь звук, похожий на неожиданный всхлип. Стало труднее дышать. Лицо со зверской силой ходило ходуном. Нельзя было даже плюнуть в них, как, он надеялся, сделал Ким Ли, когда его убивали. Солдаты, державшие его за руки, подтолкнули его, и он дважды по-лягушачьи скакнул вперед, зная, что теперь стоит на меловых отметинах люка. Последней его мыслью была та, что ему хочется почесать нос, когда он ощутил, как пол под ним внезапно пропал, и он услышал, как люк с грохотом ушел вниз. «Стойте! – закричал он. – А как же мои пятьдесят…»
9
Прошли годы. Он встретил медсестру по имени Икуко Кавабата, молодую женщину, чьи родители погибли во время бомбежки Кобе в последние месяцы войны. После подписания мира брат ее умер от голода. И этот город тоже обратился в пустыню из щебня и руин, и история Икуко была до того обыкновенной, что она, как и многие другие, сочла за лучшее не распространяться об этом.
У Икуко была блестящая кожа и большая родинка на правой щеке, и то и другое неизъяснимо трогало Накамуру больше, чем ему хотелось бы в этом признаться. Еще у нее была ленивая улыбка, которая одновременно возбуждала и раздражала его. Этой улыбкой она старалась положить конец любым раздорам и перебранкам между ними, иногда это сразу же срабатывало, но и тогда порой он воспринимал ее как свидетельство глупости и слабости женского характера.
Через Икуко Накамура нашел работу в больнице, сперва санитаром, а позже кладовщиком. Он с радостью расстался со своей работой на черном рынке, поскольку та не была ни чересчур прибыльной, ни слишком безопасной, а он еще и все время боялся, что его разоблачат и передадут американцам. Даже на своей новой работе он сторонился людей, впрочем, тогда многие делали то же самое, и Накамуре казалось, что все понимают, почему такое множество народу не хочет, чтобы кто-то знал и понимал их. Он переехал жить к Икуко, столько же из стремления сохранить свое уединение, сколько и из желания человеческого общения. Она пребывала в добром здравии, оказалась хорошей хозяйкой, и он был признателен, что отыскал женщину с такими достоинствами.
Несмотря на привычку к одиночеству, он пристрастился играть в го с доктором из больницы, которого звали Камея Сато, и за несколько лет привычка переросла в доверие, а доверие в свою очередь в тихую дружбу. Сато, который был выходцем из Оиты[77], был предан своим пациентам, тихий и скромный человек, он в отличие от других врачей имел странное обыкновение не носить белый халат. В го Сато играл гораздо лучше Накамуры, и однажды вечером бывший солдат спросил хирурга, в чем секрет хорошей игры в го.
– Тут вот какая штука, господин Кимура, – сказал Сато. – Во всяком деле есть принцип и структура. Только нам они непонятны. Наша задача – отыскать этот принцип и эту структуру и действовать внутри ее как ее часть.
Ответ Сато, ясное дело, особого смысла для старого солдата не имел. А потому, мягко вминая два пальца в одну сторону живота Накамуры, врач продолжил:
– Если мне нужно удалить аппендикс, я войду здесь, разделю мышцы в соответствии с принципом и структурой, которым меня обучили в Университете Кюсю, и таким образом смогу удалить воспаленный отросток с наименьшей опасностью и неприятностями для пациента.
Это навело их на разговор о Кюсю, одном из лучших университетов Японии по обучению медиков. Накамура вспомнил прочитанную в какой-то газете статью о врачах, которых судили и заключили в тюрьму за то, что они, по утверждениям американцев, практиковали вивисекцию на живых американских летчиках, причем без применения анестетиков. Тогда и сама статья, и вынесенные приговоры разозлили Накамуру, и сейчас он заговорил об этом не без волнения, страстно заключив:
– Американские враки!
Сато поднял взгляд от столика с го, потом вновь опустил его, поставив на место черный камень.
– Я был там, господин Кимура, – сказал врач.
Накамура уставился на Сато, пока скромный хирург не поднял взгляд и не обратил его – непривычно пристально – на самого Накамуру.
– Я был там интерном уже под самый конец войны, руководил мной профессор Фукудзери Ишияма. Однажды меня попросили доставить американского летчика из палаты, где тот находился под охраной. Высокий такой, с очень узким носом и рыжими кудрявыми волосами. При задержании он был ранен: выстрелил солдат, помогавший его схватить, – но мне он доверял. Я указал ему на кресло-каталку, и он сам уселся в него. Мне велели привезти его не в операционную, а в прозекторскую в анатомическом отделе.
Накамура заинтересовался:
– А там?
– И там он опять доверился мне. Я указал на прозекторский стол. В помещение набилось несколько врачей, сестры и другие интерны, а еще армейские офицеры. Профессор Ишияма еще не пришел. Американец, как ни странно, встал, а потом сам улегся на прозекторский стол. И подмигнул мне. Ну, знаете, как американцы подмигивают. Подмигнул и улыбнулся. Будто я с ним шутки шутил.
– А потом, – сказал Накамура, – ему дали наркоз, и профессор Ишияма прооперировал его рану.
Сато держал на ладони еще один камень го, проводя большим пальцем взад-вперед по его отполированной в форме линзы поверхности, словно массировал слепой черный глаз.
– Нет, – сказал Сато. – Два санитара привязали ему руки-ноги, туловище и голову к столу кожаными ремнями. Профессор Ишияма пришел, когда это еще не закончилось, и начал с обращения к собравшимся. Он разъяснял, как вскрытие еще живых людей помогает получить важные научные данные, которые помогут нашим солдатам в грядущих великих битвах. Работа эта нелегкая, но все великие достижения требуют жертвенности и преданности. Таким способом они, врачи и ученые, имеют возможность доказать, что они достойные слуги императора.
Накамура взглянул на доску го, но мысли его уже не были заняты игрой.
– Помню, меня гордость распирала оттого, что я был там, – сказал Сато.
Все, о чем рассказывал Сато, было исполнено важнейшего смысла для Накамуры: в конце концов, тот же довод, изложенный по-иному для иных обстоятельств, определял всю его взрослую жизнь, – и хотя он и не думал об этом, сходные принципы и ритм рассказа Сато убеждали Накамуру, что профессор Ишияма, даже если он и не применял обезболивания, действовал правильно и этично.
– А американец все равно не сопротивлялся, – продолжал Сато. – Он и представить не мог, что его ждет. Прежде чем профессор Ишияма начал, мы все отдали пациенту поклон, как будто это была обычная операция. Может быть, это ободрило его. Для начала профессор Ишияма вскрыл ему брюшную полость и удалил часть печени, затем зашил рану. Следом он удалил желчный пузырь и кусок желудка. Американец, поначалу на вид умный и полный жизни молодой человек, теперь выглядел старым и хилым. Во рту у него был кляп, но очень скоро он уже и кричать был не в силах. Под конец профессор Ишияма извлек у него сердце. Он все еще билось. Когда профессор положил его на весы, гирьки дрожали.
Рассказ Сато обтекал Накамуру, как река в половодье обтекает каменные валуны. Слова обходили его вокруг, потом переливались через него и наконец накрыли с головой. Однако ничто в нем не дрогнуло. И пусть рассказ подтверждал, что все сказанное американцами было правдой, а он, Накамура, был неправ, причины, почему это делалось, были исполнены для Накамуры такого важного смысла, что он не почувствовал ничего примечательного в истории человека, которого режут на куски, когда он еще жив и в полном сознании.
– Было как-то не по себе, но поначалу я как-то не особенно много об этом думал, – продолжал Сато. – В конце концов, шла война. Через несколько дней последовали другие операции на других летчиках: вскрытие средостения у одного, отделение корней лицевого нерва у другого. На последней, где я присутствовал, в черепе военного проделали четыре отверстия и стали втыкать в мозг нож – посмотреть, что получится.
Они играли в го в небольшом садике, разбитом для персонала больницы. Стояла весна, и Накамура слышал раннее вечернее птичье пение. Рядом рос клен, обращавший длинные солнечные лучи в переливающиеся нити темноты и света.
– После войны, – заговорил Сато, – профессор Ишияма повесился в тюрьме. Арестовали еще кое-кого, приговорили к смерти, затем приговоры пересмотрели и в конце концов всех выпустили на свободу. Какое-то время я думал, что и меня отдадут под суд, только теперь то время давно в прошлом. Американцам нужно, чтоб это забылось, да и нам тоже.
Сато подтолкнул к Накамуре газету, которую читал, со словами:
– Вот, взгляните.
И указал на небольшую заметку, сопровожденную фотографией. Писали о благотворительной деятельности некоего г-на Рюочи Найто, основателя Банка крови Японии, успешной компании, покупающей и продавающей кровь.
– Я знаю коллег, которые работали с господином Найто в Маньчжоу-го. Господин Найто был одним из руководителей наших самых лучших ученых, занимавшихся там похожими вещами. Вивисекцией. И многим другим. Испытание биологического оружия на заключенных. Сибирская язва. Еще бубонная чума, как мне говорили. Испытание огнеметов и гранат на заключенных. Операция была грандиозной, имела поддержку на высочайшем уровне. Сегодня господин Найто весьма респектабельный человек. А почему? Да потому, что ни наше правительство, ни американцы не желают копаться в прошлом. Американцев интересуют наши разработки биологического оружия: оно помогает им готовиться к войне против Советов. Мы испытывали это оружие на китайцах, они хотят пустить его в ход против корейцев. Я говорю, людей вешали, потому что им не повезло или они были мелкими сошками. Или корейцами. Но сейчас американцам нужно делать бизнес.
– Мы тоже жертвы войны, – произнес Накамура.
Сато ничего не сказал. Где-то в самой глубине своего существа Накамура чувствовал, что он, как и японский народ, был уважаемым, добродетельным человеком, облыжно обвиненным. Жертва, да – он, Икуко, его казненные товарищи по оружию, сама Япония. Это чувство объясняло ему все, что на него свалилось, даже придавало некоторое величие его жалкой жизни из тайн и уловок, фальшивых документов и растущей разобщенности с другими людьми. Но рассказ Сато его взволновал. В нем, похоже, брезжила отдаленная перспектива божественного освобождения.
– Вам знаком тот странный звук под конец землетрясения? – спросил Сато. В тающем свете его усталое лицо все больше размывалось в сумраке. – Слышали, как после встряски и диких оползней, – продолжал врач, – все вещи: картины, зеркала, окна в рамах, ключи на крюках – начинают дрожать и издавать этот странный звук? А снаружи все, что вам было знакомо, возможно, уже исчезло навсегда?
– Конечно, – кивнул Накамура.
– Словно сам мир вокруг издает этот переливчатый звук?
– Да, – кивнул Накамура.
– Когда у весов в прозекторской от толчков сердца американца дребезжала сделанная из нержавейки чашечка, был такой же точно звук. Словно бы мир дрожмя дрожал.
Сато изобразил на лице загадочную улыбку.
– Знаете, почему он доверял мне?
– Профессор Ишияма?
– Нет, американский летчик.
– Нет.
– Потому, что считал: мой белый халат означает, что я его спасу.
10
Накамура с Сато никогда больше не заговаривали о прошлом врача. Но что-то в его рассказе стало вызывать у Накамуры тревогу. В последующие месяцы их игры в го делались все менее частыми. Теперь Накамура находил, что хирург (который раньше казался ему таким интересным и доброжелательным партнером) как-то поскучнел, стал нудным, а игра сделалась каким-то бременем, какое приходилось терпеть, а не удовольствием, каким следовало бы наслаждаться. И он чуял (каким-то неведомым, непостижимым образом), что такое отношение становится обоюдным. Сато перестал заходить в конторку склада покурить с Накамурой, а Накамура поймал себя на том, что избегает появляться в тех местах больницы, где можно было встретиться с Сато. В конце концов они совсем перестали играть в го.
Отдалившись от Сато, Накамура сблизился с другими людьми, нашел в себе силы так или иначе быть правдивее как человек. Он пришел к пониманию, что вокруг много людей, похожих на него: гордых, достойных мужчин, исполнивших свой долг и отнюдь не намеренных этого стыдиться – таких, кто тоже считал себя жертвой войны. И он понял, что время, когда никто не был тем, кем, по его утверждению, он был, когда никто не был тем, кем казался, когда все помнили только то, о чем можно было говорить, – это время теперь ушло. Когда последние из остававшихся в тюрьмах военных преступников были освобождены, Накамура отказался от всякого притворства и уловок и, решив, что лучше всего жить по чести, признав правду, вернул себе свое настоящее имя. На следующий год он женился на Икуко.
У них были две дочери, здоровые детки, которые, подрастая, прониклись глубокой любовью к своему благородному отцу. Их младшая дочь, Фуюко, в шесть лет едва не погибла, когда ее сбил школьный автобус. Главным, что сохранилось в памяти Фуюко о том периоде, был отец, днем и ночью сидевший возле ее кроватки со склоненной головой. Дочерям он казался почти что существом из иного мира: то рубашка не на те пуговицы застегнута, то ремнем забыл подпоясаться, то беспокоился о том, как бы не сделать больно паукам, которых он ловил в доме и выпускал наружу, или комарам, которых нарочно никогда не прихлопывал.
Он один ощущал странность в самой основе своего преобразования в свое же представление о человеке достойном. Было ли это лицемерием? Было ли искуплением? Виною? Стыдом? Делалось ли это намеренно или бессознательно? Было ли это ложью, или то была правда? В конце концов, он был свидетелем множества смертей, наверное, ощущал он иногда с почти дикарской гордостью, невозможно оспорить (что ни в малейшей степени этому не противоречит), что был даже пособником чьих-то смертей. Но никакой ответственности он не чувствовал, время вымыло из его памяти все, связанное с его преступлениями, позволив вместо этого сохраниться в ней дидактичным россказням о доброте и смягчающих обстоятельствах. С годами он убедился, что тревожит его только то, как мало из всего этого его тревожит.
Весной 1959 года, больше из любопытства, нежели оптимизма, Накамура решил попытать счастья получить место в Банке крови Японии. К его удивлению, его пригласили на собеседование. Ранним зимним утром он сел в поезд на Осаку. В представительстве Банка крови Японии его заставили прождать почти до обеда, пока наконец не проводили – и не в приемную, как он ожидал, а в большой начальственный кабинет. Там усадили и снова велели ждать. Не было ни души. Через четверть часа дверь открылась, и чей-то голос велел ему не оборачиваться и не смотреть, а сидеть как сидит. Он почувствовал, как чьи-то пальцы прочертили дугу сзади у него на шее. А потом за спиной мужской голос стал декламировать:
Что в море,
Где трупы скроет вода,
Что в горах,
Где трупы укроет трава.
Разумеется, Накамура узнал «Уми юкаба», древнее стихотворение, ставшее во время войны до того популярным, что с него начинались сообщения о сражениях по радио, в которых неизменно сообщалось, что японские солдаты встретили почетную смерть, предпочтя ей бесчестье сдачи в плен. Накамура прочел последние строки, словно они были паролем:
Мы смерть принимаем
За императора,
Не оглядываясь никогда[78].
И еще раз почувствовал пальцы на своей шее.
– Такая отличная шея, великолепная шея, – проговорил человек у него за спиной.
Накамура обернулся и поднял взгляд. Волосы стали седыми, короткими и колючими, тело располнело, зато лицо, пусть чуть больше обвисло и улыбалось сейчас, так и осталось акульим плавником.
– Я должен был увидеть вашу шею. Просто должен был убедиться, что вы именно тот человек, которого я представлял. Вот видите, я никогда ничего не забываю.
Поймав вопросительный взгляд Накамуры, Кота пояснил:
– Кое-какие старые соратники по Маньчжоу-го сочли, что здесь я смогу принести кое-какую пользу.
Остальное собеседование стало для Накамуры формальностью, словно все давным-давно было определено. Когда он уходил, Кота поздравил его с новым местом работы. Вернувшись вечером домой, Накамура едва не рыдал, рассказывая Икуко о том, что произошло.
– Что, – вопрошал он Икуко, – может подготовить к такой доброжелательности?
Много десятилетий спустя молодой японский журналист националистических взглядов, Таро Отомо, пожелав исправить множество накопившихся неверных представлений о роли Японии в войне за Великую Восточную Азию, отправился интервьюировать прославленного солдата, Сиро Кота, которому ныне было сто пять лет. Он прочел несколько статей Кота, которые публиковались в 1950-х годах в журналах, имевших отношение к дзен-буддизму, где говорилось о глубокой духовной основе японского понятия «бусидо»[79]. Кота утверждал, что именно так японцы (вдохновленные дзеном) оказались в состоянии уяснить, что в конечном счете нет никакой разницы между жизнью и смертью, и это наделило их столь грозной военной мощью, несмотря на недостаток материальных ресурсов. Однако когда Таро Отомо в сопровождении местных официальных лиц и бригады местного телевидения явился поздравить Коту со стопятилетием, дома никого не оказалось.
Таро Отомо был молод и сообразителен, он проявил настойчивость и нанес визит старшей дочери Коты, Реко, чтобы убедить ее в своих благих намерениях в надежде через дочь получить доступ к старому ветерану. Увы, Реко обескуражила Таро Отомо, заявив, что отец не расположен беседовать с людьми незнакомыми, тем более о войне и своей службе, которую так легко представить в неверном свете. «Он пытается в старости своей сделаться живым Буддой», – сообщила она Таро Отомо.
Отомо было ясно, что Реко ее отец мало интересует. Решив, что лучше действовать в обход нее, он с некоторыми из своих друзей-националистов взялся за организацию празднования стопятилетия Коты. Это было бы уважительно и достойно, имело бы целью воздать почести ветеранам войны, а заодно и во всеуслышание заявить о ложно понимаемой духовной основе войн Японии в двадцатом веке. Но всякий раз, когда Отомо являлся с визитом к Коте, дома, похоже, никого не оказывалось. Что-то в поведении Реко и странном отказе Коты пустить его на порог стало раздражать Таро Отомо, и однажды вечером он высказал свое раздражение за бутылкой своему старому школьному товарищу, а теперь лейтенанту полиции Такеси Хасимото.
Хасимото учуял недоброе. Не без труда ему удалось проверить документы социального обеспечения и заметить, что Реко наделена правами поверенного в делах отца. Два месяца назад со счета Коты было снято два миллиона иен. Хасимото добился разрешения на проведение обыска в квартире Коты. В прошлом это был завидный район города, но дома, некогда фешенебельные, а потом оставленные без ремонта, в последние годы пришли в упадок. К стенам повыше первого этажа были привинчены грубые проволочные сетки – подхватывать падающую штукатурку. Поскольку двери лифта так и не пожелали открыться, Хасимото с тремя полицейскими пришлось взбираться на седьмой этаж по лестнице пешком.
В квартире, стены которой сплошь занимали книжные полки с поэзией, Хасимото обнаружил в постели мумифицированное тело древнего старика. Не было никакого запаха. Старик был мертв уже много лет, а может, подумал Хасимото, и десятилетия. Левой рукой он дотянулся до расшитого цветами покрывала и очень медленно приподнял его. Жидкие фракции медленно разлагавшегося тела впитались в простыни, оставив на них густое темное пятно. В центре такого ореола лежал Сиро Кота с кожей, пергаментом натянутой поверх костей.
На тумбочке у кровати живого Будды (теперь уже мертвого) лежала старая книжка великого лирического дневника путешествий «Дорога далеко на север» Басё. Хасимото раскрыл ее на странице, заложенной высохшей травинкой.
«Месяцы и дни – путники вечности, – читал он, – а сменяющиеся годы – странники».
11
Майор Джон Менадью был командиром Джека Радуги, а потому он и должен был исполнить это дело, но у Джона Менадью не хватило на это мужества: у него никогда ни на что не хватало мужества, ни тогда на той Дороге, ни после возвращения в Австралию. Дорриго Эванс получил письмо от Бонокса Бейкера, где тот сообщал, что, насколько он наслышан, вдову Джека Радуги никто не навестил, что награды Джека, которые следовало ей передать, все еще у майора, который, выходит, так и не объявился. И вот через несколько месяцев после возвращения из медового месяца, когда Дорриго Эвансу уже стало ясно, чем оказался его брак и желать такого вообще-то не стоило, он сел на самолет, летевший рейсом на Хобарт. Джона Менадью он отыскал в пабе совсем рядом с рыбным магазином «Никитарис».
Там, в джунглях, Джон Менадью выяснил, что вожак из него никакой. «Есть люди вроде Матерого, кому такое дано», – думал Джон Менадью. Но не ему, что было непонятно, потому как отец говорил Джону, что тот вожак, а вожак человек или нет – определяется только характером. В Хатчинской школе его уверяли, что он вожак, потому как лишь вожаки допускались в Хатчинскую школу. «Быть вожаком, – говорили ему, – это твой естественный удел, поскольку это естественный удел всех прирожденных руководителей, каковы все мальчики Хатчинской школы». Так мир продолжал его уверять, и Джон (и оттого, в какой школе учился, и оттого, какие у него были связи, и оттого, каким характером он обладал, и оттого, какой удел его ждал) пошел прямо в офицерское училище. Джон искренне верил во все это, считал самоочевидным, а самого себя прирожденным командиром, пока не попал на ту Дорогу. Тогда он пришел к пониманию, что главнейший его интерес не в том, чтобы помогать другим, а в спасении своей собственной жизни, и еще он понял, что отец был прав насчет характера, но ошибался насчет своего сына.
Что такое авторитет, Джон Менадью понимал. И в тот день, сидя в баре совсем рядом с рыбным магазином «Никитарис» с фунтом филе барракуды, при том, что ему удалось сохранить и внешнее благообразие, и саму жизнь, майор знал: авторитета у него нет ни на грош. Он старался понять, что же это такое, чему дано существовать в таком человеке, как Дорриго Эванс, презренном бабнике и едва не уроде, одиночке, прячущемся в толпе, который ни в грош не ставит любую власть, за исключением той, какой обладает сам по какой-то оскорбительной прихоти божьей, и покровительству, которое он оказывал Джону Менадью, придавал самый обыденный вид, не имевший никаких особых последствий.
– Сожалею, виноват, – сказал Джон Менадью Дорриго Эвансу. – Я съездил к миссис Лес Уитл. И после этого уже не мог заставить себя повторить такое. Вы помните Леса?
– Помню. Он был замечательным Робертом Тейлором в «Мосте Ватерлоо». И играл он не с кем иным, как с Джеком Радугой, верно?
– Не помню. Вы слышали, как он умер?
– Нет.
– Кончилось тем, что он попал в лагерь в Японии. Рабский труд на япошек в угольной шахте под Внутренним морем. Они умирали с голоду. Когда война кончилась, янки стали сбрасывать на парашютах продукты в лагеря для военнопленных в тех местах. Освободительные войска из США сбрасывали стальные бочонки в сорок четыре галлона, наполненные едой. Те, покачиваясь, плавно спускались вниз, точно пушинки одуванчиков, как сказал один парень. Парни с восторгом ждали. И тут эти сорок четыре галлона в стальных упаковках начали приземляться, проламывая крыши, раздавливая в лепешку все, на что падали. И один из этих бочонков в сорок четыре галлона, под завязку набитый шоколадками, приземился на Леса. Раздавил его до смерти. – Майор передал Дорриго Эвансу обувную коробку, в которой перекатывалось несколько медалей на лентах. На крышке коробки скотчем была приклеена бумажка с фамилией и адресом жены Джека Радуги.
– Что это за смерть? – произнес Джон Менадью, не сводя глаз с обувной коробки. – Умирающий от голода убит едой? Нашими же союзниками? Шоколадками. Господи боже мой, Дорриго, чертовыми шоколадками! Что тут скажешь?
– И что же вы сказали?
– Что положено. Наврал. Она очень достойная женщина. Маленькая такая, коренастенькая. Но – с достоинством. И она слушала мою ложь. И долго-долго ничего не говорила. Потом сказала: «Я по-настоящему никогда его и не знала, понимаете. Вот в чем беда-то. Мне было бы легче, если б я его знала».
Жена Джека Радуги жила неподалеку от Нейки, в нескольких милях от небольшой деревушки, притаившейся в лесу на склоне горы повыше Хобарта. Услышав, как Дорриго Эванс выспрашивает дорогу, бармен представил его невысокому человеку, который водил грузовичок пивной компании, доставлявший товар, и которому было по пути. Он согласился подвезти Дорриго до места и забрать оттуда на обратном пути часика через два.
Едва выехали из Хобарта, как пошел снег. У грузовичка был один дребезжащий дворник на ветровом стекле, расчищавший небольшой клинышек, в котором проглядывал зимний мир, где эвкалипты и громадные папоротники диксонии антарктические, отяжелев от свежевыпавшего снега, склонялись над дорогой. Все остальное исчезло в белизне, как заметил Дорриго Эванс, и мысли его подались туда же. Он вскинул руку и резко распрямил пальцы в воздухе, стараясь понять, не было ли иного, неведомого ему способа остановить кровотечение из бедренной артерии. Пальцы его расталкивали и захватывали пустоту, холод, белизну, ничто.
– Замерзли, а? – спросил пивной водитель, заметив, как пассажир задвигал пальцами. – Я потому и вот в этих езжу, – водитель поднял с баранки руку в шерстяной перчатке. – Иначе того и гляди окочуришься от поганого обморожения. Скотт[80] в чертовой Антарктике – это я и есть, приятель.
Они ехали в гору через Ферн-Три и мимо Нейки. Когда перевалили на дальнюю сторону гряды, водитель высадил Дорриго Эванса у входа на ферму, представлявшего собой две зеленые, поросшие лишайником стойки и сломанную калитку, створка которой валялась у засыпанной снегом дорожки. На вид ферма казалась полуразрушенной, а белизна и напряженная тишина, порожденные снегом, вызвали ощущение, что место это покинутое. Ограда и рамы для хмеля покосились, а кое-где и попадали. Навесы казались шаткими, а небольшая дощатая сушилка для хмеля провисла.
Хозяйку он нашел в маленьком бетонном сарае для дойки, где она сбивала масло. На ней была хлопчатобумажная юбка с каймой из красных гибискусов и старый домашней вязки шерстяной свитер, протершийся на одном локте. Голые ноги ее были небриты и покрыты синяками. Как показалось Дорриго, с лица ее не сходило выражение рухнувших надежд, дрожащая линия рта расходилась с обоих уголков на тонкие морщинки.
Он назвал себя и номер своей части и не успел больше и слова сказать: хозяйка повела его через кухню, где было тепло от потрескивающей посредине плиты, в гостиную, где было темно и холодно. Она обращалась к нему: «Сэр». Когда он сказал, что это совершенно не обязательно, стала называть его мистером Эвансом. Он сел в мягкое кресло, которое отдавало сыростью.
Через раскрытую дверь на противоположной стороне коридора он увидел ажурную деревянную панель, крашенную блестящей кремовой эмалью, до самого потолка, а перед ней железную кровать. Он надеялся, что она успела познать счастье с Джеком. Представил себе их в такую же зимнюю ночь, которая наступит всего через несколько часов, а они вместе, им тепло, наверное, глядят, как в спальне в камине над горящими угольями исчезают последние язычки пламени, Джек попыхивает сигаретой. «Пэлл-Мэлл», конечно.
12
– У нас пятеро детей, – сказала она. – Два мальчика и три девочки. Малышка Гвенни – вылитая копия отца. Младшенький, Терри, родился уже после того, как Джек ушел на фронт, он отца никогда не видел.
Повисло долгое молчание. Дорриго Эванс в своей медицинской практике приучился ждать, пока люди скажут то, что им и вправду хочется сказать.
– Не выношу быть одна, – проговорила она наконец. – От одиночества меня охватывает жуткий страх. Когда он ушел на войну, я спала вместе со всеми детьми. – Она улыбнулась воспоминаниям. – Вшестером в одной постели, черт возьми. Смешно, а?
Засвистел чайник, и она исчезла на кухне. Он пожалел, что позволил ей снять с себя армейскую шинель. Вернулась она с чаем в щербатом зеленом эмалированном чайнике и остатками большого кремового торта.
– Сейчас так тихо, – сказала она, – это оттого, что снег выпал. Как громадное одеяло. Вот почему я люблю, когда детишки рядом. Но малыши сегодня у сестры Джека, а большие в школе. – Она помолчала. – Джек любит снег, а я, господи, от него так мерзну…
Она предложила ему торт, но он отказался. Она поставила тарелку с тортом на маленький столик сбоку, несколько секунд смахивала указательным пальцем крошки с ее края, а потом, не поднимая взгляда, спросила:
– Вы верите в любовь, мистер Эванс?
Вопрос был неожиданный. Он понял: отвечать на него не нужно.
– Потому что, по-моему, вы ее сочиняете. В вас ее нет, вы не одарены ею. Вы ее сочиняете.
Она замолчала, возможно, ждала, что он на это скажет, но когда Дорриго Эванс и не согласился, и не возразил, она, похоже, осмелела и продолжила:
– Так мне кажется, мистер Эванс.
– Дорриго. Прошу вас.
– Дорриго. Это то, что я и вправду думаю, Дорриго. И мне казалось, что мы с Джеком, мы тоже собирались ее сочинить.
Она села и спросила, не против ли он, если она зажжет свет. Она никогда не зажигала его, когда Джек был рядом и дымил, как паровоз, призналась она, но сейчас…
– А то все кажется, что он здесь, а это вроде как-то помогает… понять, что нет его тут, и все. «Пэлл-Мэлл», а? – предложила она, доставая сигарету из ярко-красной пачки. – «Вудбайнз» – это не для Джека. Хоть чуть-чуть шика, чтоб мириться со всей этой хренью. Он всегда был какой-то заторможенный, Джек-то. Заторможенный и при этом закрутивший с бойкой женщиной, и бывало говаривал: какой дурак не будет счастлив?
Она затянулась, положила сигарету в пепельницу и уставилась на нее. Не поднимая взгляда, сказала:
– Но вы-то сами верите в любовь, мистер Эванс?
И раздавила кончик сигареты в пепельнице.
– А вы?
Там, за окнами, подумал он, за этой засыпанный снегом горой целый мир миллионов людей. Он представлял себе их – в их городах, на жаре и залитых светом. И представлял себе этот домик, такой заброшенный и одинокий, такой уединенный, ему подумалось, что когда-то этот домик, должно быть, показался ей и Джеку, пусть и очень ненадолго, чем-то вроде вселенной, в центре которой они двое. И на миг он оказался в «Короле Корнуолла» с Эми в номере, который они считали своим: с морем, солнцем и тенями, с белой облупленной краской на раме стеклянных дверей, с ржавым замком, с послеполуденным ветерком и ночью, пронизанной шумом прибоя, – и вспомнил, как когда-то им тоже это казалось центром Вселенной.
– Я нет, – сказала она. – Нет, не верю. Мир тесен, вам так не кажется, мистер Эванс? У меня есть подруга в Ферн-Три, она учит игре на фортепиано. Очень музыкальна, она-то. Мне-то самой медведь на ухо наступил. И вот однажды она мне рассказывает, что у каждой комнаты есть звучание. Просто надо его найти. И принялась рассыпать трели, и вверх и вниз. И вдруг одна нотка вернулась к нам, просто отскочила от стен, поднялась от пола и заполнила все помещение таким превосходным звуком, словно песня без слов. Похоже на то, как сливу бросишь, а сад шумит тебе в ответ. Вы не поверите, мистер Эванс. Эти две совершенно разные вещи: звучание и комната – находят друг друга. Звучало это… уместно. Я глупости говорю? Вам не кажется, что именно это мы и называем любовью, мистер Эванс? Звучание, которое доносится нам в ответ? Что отыскивает нас даже тогда, когда мы не хотим, чтобы нас нашли? Что в один прекрасный день нам попадается кто-то, и все, что есть в этом человеке, неведомым образом возвращается к нам звучанием песни без слов. И ложится на душу. Оно прекрасно. Я совсем не умею выразить это в словах, верно? – вздохнула она. – Со словами-то я не в ладах. Но это именно то, чем мы были. Джек и я. На самом-то деле мы не знали друг друга. Не уверена, что все в нем мне нравилось. Полагаю, что-то во мне его раздражало. Только я была той комнатой, а он был тем звуком, а теперь его нет. И все молчит.
– Я был рядом с Джеком, – начал он. – Под конец. Он очень хотел покурить. «Пэлл-Мэлл», разумеется.
13
Весь матрас сбился комками, а в середине его образовался небольшой провал, не очень удачно заложенный старой футболкой с эмблемой какой-то хобартской команды. Он повернулся на бок, стараясь улечься по контуру матраса, его высохших рек и долин, склонов, впадин и оврагов. Угнездившись на матрасе, он припал к ней, упершись коленями у нее под коленями, прижав бедра к ее бедрам и положив руку на изгиб ее бедра, обвил ее и так держал. Огромное, казалось, облегчение: выговориться столь о многом, что не давало покоя обоим, ничего не перепутав в словах. Ей невыносимо было быть одной. Возможно, они лежат вместе, чтобы согреться. Возможно, жмутся друг к другу, стараясь отрешиться от молчания. В надежде, что отзовется тот звук. При том, что оба знали: тот, кто лежит рядом, понимает, что он не отзовется никогда. Слышно было, как тающий снег начинает шуршать по железу крыши. Тепло, его вполне хватало на то, что он с нею. Наверное, ничего другого и не было. Он ощущал свой чудовищный возраст. В июле ему стукнет тридцать четыре. Они жались друг к другу без слов, пока он не услышал, как бибикает возле дома пивной грузовичок.
После того как он уехал, она бросила медали в топку плиты. Спустя несколько дней она выгребала золу и какое-то время никак не могла понять, что за оплавленный слиток оказался в печном совке, когда она выбросила золу в загон для несушек. Через девятнадцать лет нагрянули большие пожары 67-го, сжигая все на своем пути. Ферма хмеля, которой уже управлял ее сын, ее деревянный домик и его кирпичный (поновее) дом, их с Джеком фотографии – все сгинуло в огне. И поверх бывшего когда-то медалями слитка, там, где стоял когда-то наполовину ушедший в землю загон для кур, лег новый слой золы. Годы спустя на этом месте выросли чистоуст, кизил и мирт, а потом на месте мечты всей жизни Джека встал лес, и лес стал сбрасывать листву, кору и ветки, так что через еще какое-то время зола исчезла под покрывавшими ее слой за слоем перегноем, торфом и новой жизнью.
Она вышла замуж за парня моложе ее, который хорошо относился к ней, а она – к нему, только это было совсем не то же самое, что было у них с Джеком Радугой. Новый муж погиб в аварии на тракторе, так что его она тоже пережила.
К концу жизни она поняла, что уже не в силах вспомнить, как выглядел Джек. Ни как звучал его голос, ни чем он пах, ни как он прижимался к ней и ласкал ее, неспешно попыхивая сигаретой («Пэлл-Мэлл», разумеется), пока она засыпала. Иногда ей вспоминалось звучание комнаты. Но она никак не могла удержать запах, мысль или звук, а сон уносил ее куда-то глубже и еще дальше. Она пыталась, но не могла припомнить ничего, кроме небольшого отрезка времени (совсем коротенького), когда ей не было ни одиноко, ни холодно.
Пока грузовичок катил обратно с горы, Дорриго Эванс разговорился с пивным водителем, как порой бывает между незнакомыми людьми, не вдаваясь в объяснения, зачем оказался в этих краях.
– Что-то у них было, – говорил он. – Он мертв, а я жив, но у него было то, о чем я никогда не подозревал.
– И что же?
– Он был частью пары, – выговорил Дорриго Эванс.
– Парой, – хмыкнул пивной водитель. – Мои родители были парой. А мы с моей… у нас вроде как день «Д»[81]. Круглые сутки.
Он дважды переключил скорость, только что не встал на педаль тормоза, заставляя грузовичок ползти, одолевая один из множества крутых поворотов, образовавшихся на дороге, которая, извиваясь, ползла через лес. Когда дорога пошла прямо, он опять поставил грузовичок на вторую и продолжил разговор.
– Но – пара? Точно говорю, нет. Она женщина хорошая. Но – любовь?
– Любовь, – кивнул Дорриго Эванс. – Да, полагаю, любовь.
Милю-другую пивной водитель о чем-то раздумывал. А потом сказал:
– Наверно, полно людей, которые любви и не знавали никогда.
Такая мысль никогда не приходила Дорриго Эвансу в голову.