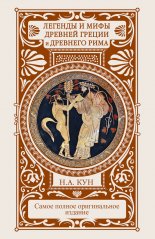Яблоко от яблони Злобин Алексей
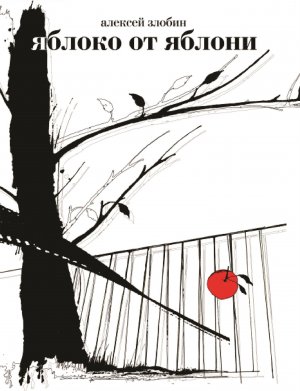
– Да ни один каскадер… – Ярмольник взял на голос.
– Молчи, блядь, мне про своих каскадеров! Я говорю, ты прыгнул херово, потому что Румата, придурок ты этакий, прыгнул не так, потому что не надо со мной спорить, потому что это мои, – и он несколько раз ударил себя по лбу кулаком, – мои сны, понимаешь! И прыгнул ты херово!
– Хорош орать на меня, тут дохнешь часами в этих кандалах, ныряя рожей в лужу, а он там лежит себе в своих снах, блядь! И я тоже орать могу, и страшным быть, и не надо мне здесь про сны, сядь вот в кресло и репетируй, а не стажеров мне подсовывай, я не к стажерам шел сниматься.
– Заткнись немедленно!
Я оглянулся: на площадке, кроме нас троих, не было никого, даже Кармалиты, и только я торчал непонятно зачем, наблюдая этот трепетный поединок в русском духе, но мне никто не сказал «стоп», и запись еще шла, и, пока режиссер находится на площадке, я не имею права уходить. А Герман уже палкой замахнулся:
– Я тебя, гад, под суд отдам!
– Палку не сломай, на мне все железо настоящее, и мечи – тоже! И вообще, хватит, пусть адвокаты грызутся, я улетаю в Милан к семье, первым рейсом, снимай свое кино без меня!
– Напугал! Я тоже улетаю в Ленинград, понял, и будешь платить неустойку, и прощения придешь просить.
Я не думал, кто был прав, кто нет. Герман – человек пожилой, Лёню тоже понять можно. Домой хотелось всем и давно, так что разъедемся – и неплохо.
Лёня ушел, и Герман побрел с палочкой вниз. На видике проигрывался финал третьего дубля, где Лёня действительно хорошо прыгнул. Но Герман, видимо, уже совсем другое что-то придумал вместо этого прыжка, да чего уж теперь.
Я потащился с площадки с кассетой, из теней выныривали коллеги:
– Ну что, ну что?
– Что-что, домой поедем, вот что.
Хотелось зайти к Юре, спросить, куда его унесло, и тут я столкнулся с Германом. Рядом шел Виктор Михайлович Извеков и внимательно слушал Алексея Юрьевича, который чрезвычайно вежливо и деликатно излагал ему суть их с Леонидом Исааковичем разногласий:
– Понимаешь, Витя, я ему говорю: ты нехорошо прыгнул…
Герман увидел меня:
– Лёшка, вот ты же там был, скажи – правда, Лёня плохо прыгнул?
Меня взяли в свидетели, причем непонятно, в свидетели защиты или обвинения, – все спуталось. Лёню я глубоко уважаю, а Германа не имею права подставлять из цеховой солидарности – что я мог сказать?
– Я не буду ничего говорить, не могу, Алексей Юрьевич.
Я почувствовал себя героем; было, честно признаться, тошно.
Герман молча и без выражения посмотрел на меня, развернулся и пошел.
Извеков наклонился ко мне:
– Что у них там стряслось?
– Я же сказал… Ну, Герману не понравилось, как Лёня прыгнул.
– Но это естественно, он же по-своему видит, просто не договорились еще.
– Да, – говорю, – не договорились, кажется.
– Понятно, пойду улаживать.
Полночи через площадь между двумя отелями метались Виктор Извеков и Светлана Кармалита. Первый действовал уговорами, вторая вела себя решительней: попросту разбирала уже собранный чемодан Ярмольника и не давала собирать вещи Герману.
А мы с Оленем сидели и пили, глядя на эту беготню, и я думал: если пуповина, порвавшаяся с одного конца в ночном Хельфштине, когда встал на дыбы конь, еще продолжала как-то удерживать меня, вцепившегося в нее рукой, то теперь она порвалась окончательно – Герман меня отсек. Я, как ему казалось, его предал.
Допустим, с Танькой я поступил невежливо. А после и вовсе нахамил:
– Слушай, Деткина, еще раз замечтаешься за завтраком и придешь последней, автобус уйдет без тебя, усекла?
Да, пожалуй что нахамил. Задумчивая и грустная Таня явно не рассчитывала на такое с ней обращение, потому и не отреагировала никак. Она уже две недели где-то в углу декорации репетировала пробу, учила чешского статиста чесать нос и плеваться. Сама она этого не умела, зато прочла очень много хороших и полезных книг, так что типаж, полагаю, не скучал. Они и на обед вместе ходили. Танька забавная.
– Деткина, еще раз запрешь дверь на щеколду, пойдешь жить к Марине Сергеевне, поняла? И не дай бог мы завтра опять будем тебя ждать! Все, спокойной ночи.
Видимо, эта угроза так подействовала на Таню, что она, не позавтракав, заспешила к отелю, где ждал автобус. А водитель Франтишек, видимо, настолько привык, что, как только появляется Деткина, надо быстро садиться за руль и мчать 18 километров, что, когда я пришел к отправке, никого уже не было. Я посмотрел на часы: еще три минуты есть в запасе, странно. Пошел к хозяину отеля «Петровицы»:
– Группа уехала?
– Уехала – все в порядке. Неужели будете работать в такую жару?
– Да, жарко, а автобус какой-нибудь здесь ходит?
– Ну что ты, граница с Австрией – только пешком.
Здорово влип. Вот будет забавно: Герман с Ярмольником помирятся, а я не приеду.
– Ну а велосипед у тебя есть?
– Есть.
– Дай до вечера.
Тут только он сообразил, что умывальников начальник и моча-лок командир не уехал на площадку. И выкатил велик.
С горки на горку по расплавленному асфальту с недосыпа и похмелья. Я даже не думал, как оправдать опоздание к началу смены, вот доброжелатели поглумятся. Но в замке никого нет – наверное, спрятались всей группой, решили меня проучить. Или продолжается вчерашний кошмар, когда скандалили Герман с Ярмольником, и все разбежались, а я в обморок упал и только теперь очнулся?
Появился человек в черном балахоне – зачем он здесь в такую жару? И еще один, и еще. Люди в рясах садятся на ступени лестницы, ведущей к кострам. Нет шныряющих повсюду членов съемочной группы, не слышно переговоров по рациям, нет рабочих, эти люди в балахонах на лестнице смотрятся странно и страшно. Иду вниз на площадь.
У кейтеринга все роится и гудит. Оказывается, поступило распоряжение: пока из-за жары принимается решение о продолжении съемок, всех просят находиться на своих рабочих местах. Ну и куда в таких случаях идут русские? А чехи поглядели и тоже пошли. И только массовка в черных рясах пеклась на площадке.
Опившись чаю-кофе, перекурив и все обсудив, плетемся на площадку. Рации включены, ни одна не звучит. А чего ждать? Что Кармалита придет с корзинкой и все расскажет либо выйдет на связь по рации?
Печет страшно. Мы в шортах и майках, кто-то не выдержал и скинул майку, хотя так не принято, когда рядом на площадке шестьдесят человек, одетых в черное сукно. Но Германа нет, поползла анархия.
Интересное, впервые уловленное ощущение. Сколько мы провели часов, когда он даже не появлялся на площадке? Но никогда не было этого чувства – Германа нет.
И нечего делать, ждать – чего? Шла бы работа, не было бы так жарко. И в тишине жара сильней. Рядом прохаживается декоратор с баллоном и спринцовкой – зачем-то брызгает на стену, которая тут же высыхает.
– Дай-ка, дружок, мне эту штуку.
Беру баллон с водой и иду к этим людям на лестнице. Подойдя к нижнему, брызгаю ему на руки. А он, даже не взглянув на меня, влажными руками протирает лицо, брызгаю ему на лицо, потом соседу, потом тому, что ступенькой выше, и следующему. И так иду вверх, направо и налево обрызгиваю прохладной водой их головы.
Кто-то сказал по-русски:
– Спасибо.
А другой повторил.
Ничего лучшего на этой картине я не сделал.
Зашипели рации, и сто двадцать Кармалит объявили:
– В связи с жарой съемочный день отменяется, смена окончена, ждем до завтра.
Значит, не договорились Алексей Юрьевич и Леонид Исаакович. Не договорились.
…А в Точнике мы подружились с медведем. Сидели в яме, снимали сцены арканарских предместий. В углу под мостом мне выделили клетуху для плейбека: три стены, а слева – решетка. Как-то сижу, просматриваю материал и вдруг чувствую, что я здесь не один. Поглядел налево, а там медведь стоит на задних лапах и на меня смотрит.
– Привет, Миша, – говорю.
Медведь молчит, он же чех, по-русски не понимает, наверное. А у меня в карманах, в пластиковых коробочках, мед из кейтеринга. Ну, я палку взял, медом обмазал и сую медведю, он облизал палку, стоит, смотрит. Тогда я взял яблоко, тоже медом вымазал и осторожно ему протягиваю. Съел и смотрит. Тогда я мед в ладонь выдавил и ему под нос. Облизывает Мишка мне ладонь огромным розовым языком. Так у меня появился приятель, и, когда все убегали в кадр, мы пировали.
Неужели Герман был прав:
– Лёшка, меня любить – это не профессия.
Однажды собрались на короткий вечерний кадр снять верховую проскачку Ярмольника по мощеной дороге. Ну, ясное дело, все не так просто: и двух дерущихся в луже донов, мимо которых он скачет, нужно разглядеть, и тени пробегающих воинов по стене на дальнем плане. Одним словом – не задалось. Скачет Лёня, скачет, камера снимает, а Герман все недоволен. Уже и солнце село, сумерки, запахло уходом в ночь – пошло расти раздражение и досада: хотели до вечера освободиться, а тут ночь уже, и она – долгая. В общем, стоим и злимся все, и сотня площадочных раций накаляется общим недовольством – выкрики и шипение. И тут в двадцать третьем дубле, когда и доны дрались как надо в грязной луже, и Румата проскакал – загляденье, почему-то не побежали эти тени в свете костров на дальнем плане. Их должен был художник Сережа Коковкин выпустить по моей команде. Команда была, а теней не было, и я ору ему в рацию:
– Сережа, твою мать, почему?!
И уже приготовился слушать нудные киношные оправдания, что, мол, рацию не услышал или эти чехи нерусские не поняли, что бежать пора.
Но Сережа не стал оправдываться, а спокойно и миролюбиво сказал:
– Лёша, прости меня, пожалуйста.
А он ведь и виноват не был, просто не срослось что-то в кадре – бывает. И знакомы мы уже давно – еще у Сокурова вместе работали, и это «прости» было не извинением, а чем-то бльшим – доброй дружеской шуткой, сразу тронувшей во мне что-то родное, свое, что не зависит от этих нервов, этих съемок и что так быстро забывается «по запарке» в клещах ложной ответственности. Когда Сережа говорил это «прости», он улыбался.
И я улыбнулся в ответ:
– И ты прости меня, друг!
Тут по рации чей-то голос:
– Ребята, это Никита, костюмер – простите меня, пожалуйста!
– И нас, гримерный цех, тоже простите!
– Алло – это Юдин, реквизитор, – простите меня все.
И уже по-чешски неслись голоса, старательно выговаривавшие это самое хорошее слово.
– Promite …
– Простите…
– Простите…
И вдруг нервный голос Светланы Кармалиты:
– Алло, все! Это Кармалита, и я ни в чем не виновата, так что – простите уж!
Мы – многие – не видели друг друга: огромная площадка, кто где. Но у каждого была рация. И все в этот момент были вместе, и всем стало хорошо, очень-очень хорошо. И мне даже не передать, не рассказать, как это было хорошо, – простите!
Великий и ужасный
Расемон
Расемон – фильм Куросавы о том, как один и тот же факт каждый из очевидцев увидел по-разному. Впрочем, прежде это написал Акутагава, а уж как Куросава увидел, так и снял, а мы – как сумели, поняли – каждый по-своему.
Октябрь 2013-го. Привез в Питер Светлане Кармалите фрагменты книги. Звоню с проходной.
– Привет, Лёша Злобин, поднимайся к Вите Извекову, мы тут списки составляем.
– Расстрельные?
– Вот дурак – для московского показа, заходи.
У двери продюсера столкнулись с Лёшей Германом-младшим:
– Привет, Лёша, не задерживай ее, устала.
– Понял, я мигом.
За столом красивый и седой Виктор Михайлович рассматривает афишу, напротив Светлана Игоревна проверяет списки.
На афише крупно:
чуть мельче:
Интересно, для чего отчество? Наверное, чтобы не спутали с Лёшей маленьким, чтобы не подумали, будто сын претендует на авторство картины отца, Fidem rectumcue4 – соблюдение исторической правды, так сказать. Как-то еще в Точнике, в самом начале съемок, Герман задерживался на площадку. А все уже было готово – микроэпизод с мужичком в лыковой поддевке под дождем отрепетирован, оставалось только снять. И Юра Оленников, не дождавшись Германа, снял этот кадр. Юра думал: «Мастер приедет, вот мы его порадуем». Но приехала Светлана Игоревна и в три смертельных фразы идущего на таран истребителя дала понять Юре, что кино это снимает только один человек, а Юра, камикадзе, сел не в ту торпеду. Дела давно минувших дней. Но теперь действительно дилемма: Германа нет, а картина не завершена – как быть? С одной стороны, святое дело, завершить великий труд Мастера, с другой стороны – а как? Еще в 2010-м, когда Герман пригласил меня помочь с озвучанием, он признался: «Больше всего боюсь предстоящего сведения…» Сведение, это когда десятки звуковых дорожек фильма – шумы, синхронные реплики, закадровые голоса, всю полифонию огромного полотна – сводят в единую симфонию. Это следующий после монтажа решающий итоговый этап. Мы сидели в его квартире на Кронверкском, я спросил:
– Алексей Юрьевич, а когда вы закончите, можно я под вашим художественным руководством сниму свое кино?
– О чем ты, Лёшка, какое художественное руководство?! Знаешь английскую поговорку: привидение нельзя увидеть вдвоем. Так что либо «свое кино», либо под «художественным руководством».
А еще Юрий Фетинг, стажер Германа, сняв свой дебют, обратился за помощью:
– Алексей Юрьевич, научите меня монтажу.
– Юра, монтажу научить нельзя, как нельзя научить дышать, понимать, высказываться. Монтаж – это ты.
И вот за периодом озвучания предстояло сведение. Представьте симфонический оркестр – все профессионалы, у всех выучены партии, сидят по местам. Но выходит дирижер, и от того, кто именно взмахнет палочкой – Караян или Мравинский, Тосканини или Темирканов, – музыка получится разная.
Герман не успел провести сведение. Перед оставшейся группой единомышленников встала дилемма. На мой взгляд, нерешаемая. Ни отчеством в титрах, ни чем-то иным. Герман картину не закончил. Когда смотришь фильм, это следует помнить.
Извеков поднимает глаза от афиши:
– А вы, Алексей Евгеньевич, теперь в писатели заделались! Лев Толстой вы наш, яснополянский граф-два!
– Чем обязан такой доброжелательности, Виктор Михайлович?
Светлана Игоревна вычитывает список:
– …так, Нежданов, Андреева… Мальчики, вы можете молча ругаться? Мешаете.
Я красноречиво-вопрошающе смотрю на Извекова.
– А не нравится мне то, что вы пишете!
Кармалита отложила листок:
– Это почему же, Витя?
– А не точно все, исторически не соответствует. Если забыл – зачем писать?
– Виктор Михайлович, что-то путано говорите, уж если написал, так значит, не забыл.
– А вы не ерничайте, Алексей! Были-то всего-навсего ассистентом на площадке в одной экспедиции, а поглядишь – будто на вас все вертелось.
– Не в одной, а в двух экспедициях…
– Ну, в двух, не важно. Спросили бы нас, в конце концов, как было в действительности…
– …и еще в павильонах, на дамбе, потом на озвучании – около четырех лет в общей сложности…
– …мы бы вам рассказали, что к чему на самом деле.
Светлана Игоревна бросила листок, встала, одернула пиджак элегантного серого костюма, закурила тонкую сигарету – у нее красивый перстень с зеленым камнем под гарнитур серебряных серег:
– Витя, как было на самом деле, исторически не важно. А Лёшка все хорошо написал.
– Не думаю, Светлана. Еще Пушкин сказал, что алгебру гармонией проверять надо, то есть наоборот.
– Простите, Виктор Михайлович, но это сказал Сальери. Только прежде он музыку разъял как труп, а уж после поверил алгеброй гармонию; это – Сальери.
– Нет, Пушкин!
– Нет – Сальери!
– Не ссорьтесь, ребята, вы оба не правы!
Мы с Виктором Михайловичем перестали восхищенно любоваться друг другом и посмотрели на Светлану Игоревну.
– Или оба правы, как хотите. Исторически это совершенно не важно.
– Виктор Михайлович, я закурю?
– Здесь не курят.
– ?!
– Здесь курит только Светлана.
– А вы?
– Давно бросил.
– Вы ведь, если не ошибаюсь, курили «Gauloises», верно?
– Совершенно верно.
– Такой, в синих пачках, и шлем с крылышками.
– Да.
– Хорошие сигареты.
– Хорошие, но здоровье, знаете ли…
Кармалита затушила сигарету:
– Ну, мальчики, вы, я полагаю, пришли к согласию и взаимопониманию. Я – домой.
– Проводить вас, Светлана Игоревна?
– Не надо, Лёша, меня Лёша проводит…
Блеснула мгновенная пауза, как будто вновь могло возникнуть недопонимание.
– Я Алексея Алексеевича имею в виду. Тьфу на вас, пока!
Не вырубишь топором
Заканчивался один из банкетов, их было немало за семь лет съемок. Алексе Юрьевич, приобняв Колю Поздеева, шел к выходу. Вдруг откуда ни возьмись какой-то мужичонка во фраке:
– А, вот и вы, ну наконец-то!
И бесцеремонно схватил «честь и достоинство» российской кинематографии за пуговицу:
– Послушайте, что я вам скажу…
Герман поглядел на мужичонку, потом на Поздеева:
– Коля, ты его знаешь?
– Нет, Алексей Юрьевич, это, наверное, ваш знакомый.
– Я его тоже не знаю, – хмыкнул мэтр и пробасил: – Послушайте, любезнейший, идите на х… вы мне неинтересны.
Через полгода на юбилей Алексея Юрьевича Коля Поздеев подарил Герману коробочку. Юбиляр достал из коробки секретарскую печать:
– Это еще что?!
– А вы хлопните по бумажке, – улыбнулся Коля.
Герман шлепнул печать на первый попавшийся листок в кабинете – это был давно ожидавший решения запрос из Госкино.
На следующий день, найдя запрос с печатью на столе Алексея Юрьевича, секретарь сунул его в конверт и отправил по адресу. В Госкино ахнули: в середине фиолетового кружка печати размашистая подпись «АЛЕКСЕЙ ГЕРМАН», а по ободку прописано: «Идите на х… вы мне неинтересны».
Когда из комитета позвонили озадаченные чиновники, Алексей Юрьевич весьма порадовался, потом долго благодарил Колю Поздеева за хороший подарок.
На безлюдье
Как-то в Риме Бондарчук встретился с Феллини, тот привел его в кинотеатр: шел вечерний сеанс, но зал был пуст. «Мой зритель умер», – сказал Феллини. Это был его последний фильм.
Обидно. Я вижу, как, потакая публике, маститый режиссер превращает прекрасную игру умного артиста в блевотную туфту, лишь бы до хрюканья ржали.
Я вижу, как не потакающий публике, высоко держащий планку и свой критерий театральный мэтр замучивает актрису – тонкую, азартную, прекрасную – до полной выхолощенности и невнятицы в блистательном и мертвом рисунке – непонятно, с кем говорит.
Я вижу, как Герман, не пойдя ни на один компромисс, построил свое царство, в стенах которого творит шедевр, безусловный шедевр, от каждого кадра дух захватывает, но все эти радости остаются внутри его же мира, зритель смотреть не будет: это трудно, больно, сложно и мрачно.
Что же делать? Эти совершенно разные мастера, лучшие, восславленные званиями, титулованные – всё в глухой песок? И молодая кровь не радует – ее мало, она робко пульсирует из раны наружу, истекая, а не насыщая тело. Тело должно переродиться. Зритель – тоже.
Снимали «Карнавальную ночь-2», я был ассистентом. Выхожу с площадки покурить, а на голову что-то брызжет. Испугался – вдруг из какого-нибудь павильонного прибора льется кислота? Поднимаю голову: с осветительского моста, с шести метров ссыт мужик. Его поймали: пьяный в дым, показывает корочки лауреата Госпремии. В том же павильоне, где пятьдесят лет назад снимали первую «Карнавальную ночь», на второй ссут на голову режиссера с высоты шести метров.
La morte rondo – смертельный круг
Была у нас трехлапая собака. Очень ласковая, очень умная.
Замечательно отснялась в замке Хельфштин – Герман запросил ее в кадр, но выяснилось, что после съемок на жаре она умерла от инфаркта. Герман сказал: «Жаль собачку. Хорошая».
Итак, на исходе четвертого месяца экспедиции Чехию обдало жарой, какой не было уже сто сорок лет. И у нас прекратились съемки.
Сдурев от ожидания, мы с Оленем пошли на прогулку. За полем в зарослях тек широкий ручей или небольшая горная речка с ледяной водой. Мы шли и беседовали о Теннеси Уильямсе, его пьесу я хотел поставить по возвращении в Питер. Тема пьесы – измена; измена как игра, как возможность получить от опостылевшей жизни острое ощущение, измена, на которую идут сознательно, будто на аттракцион.
Тропинка в зарослях привела к самому широкому и глубокому месту ручья, стремительно бежавшего над камнями.
– А давай перейдем вброд, – предложил Олень.
– А давай. – И я ступил в воду, держа в руках сандалии и закатав выше колен штаны.
Идти приходилось очень осторожно и внимательно, в любую минуту можно оскользнуться на камне и стремительно уплыть, ноги сводило от холода. Я шел и шел, уверенный, что следом, так же по колено в воде, бредет Юра.
– Ну вот, перешли! – выскочив на берег, я обернулся.
Олень стоял на другом берегу и смеялся, интересно – чему?
В этом странном поступке Юры было что-то, по сути определившее наши отношения. Он нередко брался за что-то, во что решительно вовлекал меня, а сам бросал, предоставляя мне все наслаждение трудностями, за что я, впрочем, ему же и благодарен. А в чем его интерес? Я не знаю, может быть, знает Уильямс?
– Давай возвращайся!
– И не собираюсь.
– Ну как знаешь.
И Юра исчез в зарослях.
Зато благодаря этой странной забаве я увидел то, чего не увидел он. Не желая возвращаться вброд тем же путем, я пошел вверх по ручью до мелкой стремнины с перекатами. В камнях плескались «пструхи», пеструшки – чешская речная форель.
Вода пенилась и сверкала в камнях, намывая неглубокие омуты. Я не ожидал здесь никого встретить, потому не вглядывался и, прыгая с камня на камень, перешел на другой берег и вдруг через шум воды услышал голоса за спиной.
Я оглянулся. В палящем солнце и сверкающих речных брызгах на меня шла обнаженная красавица-кейтеринка, белокурая радость нашей поденщины. Откуда она взялась, уж не напекло ли мне голову? Тут из-за камня показалась чья-то рука, за ней – еще одна, и из омутов поднялись четверо каскадеров – загорелыми Адамами в брызгах воды.
Как же у них хватило терпения лежать в ледяной воде, нырнув с головой?
Они шли на берег, нисколько не смущаясь моим присутствием. Это было так естественно и красиво, что я сразу же мучительно почувствовал острую зависимость и несвободу, хотя бы в том, что стою в штанах и майке и что я не с ними.
А она смотрела на меня и улыбалась всем счастьем наслаждения, когда обжигающий холод воды сменяется неощутимым варом полуденного пекла.
В ногах у них мелькали игравшие в порогах пструхи.
Свидетельствую: в раю с Евой было четверо.
Ни Герман, ни Ярмольник не покинули замок Раби, отсиживались в номерах. За столиком кафе между двумя отелями встречались сценарист Светлана Кармалита с продюсером Виктором Извековым, что-то обсуждали и расходились парламентерами по своим ставкам: Светлана Игоревна шла к Алексею Юрьевичу, а Виктор Михайлович – к Леониду Исааковичу. Только по этим едва уловимым движениям было понятно, что что-то происходит, но что именно – понятно не было. Вся группа, невесть зачем привезенная на площадку, день за днем отсиживалась в ресторане.
Наконец А. Ю. и Л. И. при участии С. И., В. М. и Юрия Клименко сели за стол переговоров.
К вечеру разошлись: на завтра объявили съемку – «тропу смерти», начало которой открывало экспедицию в Точнике. Теперь та же «тропа смерти» и завершала экспедицию. La morte rondo – смертельный круг.
Сняли сотый кадр – режиссерский. В практике «Ленфильма» есть традиция отмечать сотые кадры. Сперва проставляются режиссеры, потом операторы, художники, звукоцех. В ритме этих празднеств и отмечаний жизнь картины идет веселее. Когда кино снимается пару месяцев, успевают затеять шесть-семь банкетов. Как только на хлопушке у помрежа выписывается цифра с двумя нулями – верный признак: будет попойка. Еще есть банкет первого съемочного дня и «шапка» – завершающий. Потом уже «бойцы вспоминают минувшие дни» – на премьере.
«Тропа смерти» – сотый кадр. Я еще губительно пошутил на вечернем пиршестве, провозгласив тост: «За первый в истории мирового кинематографа сотый кадр, снятый на четвертом месяце экспедиции».
Все смеялись. Кроме Германа. Но я забегаю вперед, пока еще – «тропа смерти».
Образ этого дня, увенчавшего перемирие, звуковой, а именно – нескончаемый, переходящий, как эстафета, ор.