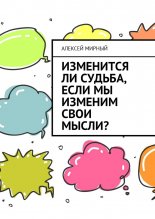Чрез лихолетие эпохи… Письма 1922–1936 годов Пастернак Борис
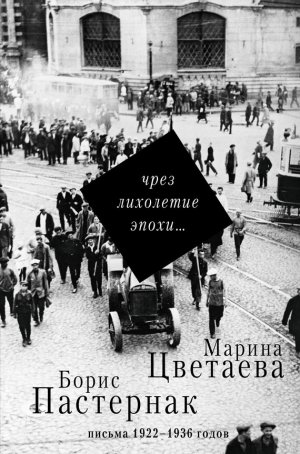
Со мной сумел (вместил и ограничил) только один, вдвое старше Вас. Вместил, ибо бездонен, ограничил – ибо женщин и этим всю женскую роль с меня снял. (Ограничил, т. е. освободил от.) Ту роль, которую я, с чисто мужской корректностью, все-таки почему-то играть себя считала обязанной.
Мой дом – лбы, а не сердца.
Письмо 17
24 августа 1923 г.
Цветаева – Пастернаку
Всё меня отшвыривает, Б.П., к Вам на грудь, к Вам – в грудь. Вас многие будут любить, и Вы будете знаменитым поэтом – дело не в том! Никогда и ни в ком Вы так не прозвучите, я читаю Ваши умыслы.
Письмо 18
<январь 1924 г.>
Цветаева – Пастернаку
Пастернак, полгода прошло, – нет, уже 8 месяцев! – я не сдвинулась с места, так пройдут и еще полгода, и еще год – если еще помните! Срывалась и отрывалась – только для того, очевидно, чтобы больнее и явнее знать, что вне Вас мне ничего не найти и ничего не потерять. Вы, моя безнадежность, являетесь одновременно и всем моим будущим, т. е. надеждой. Наша встреча, как гора, сп<олзает> в море, я сначала приняла ее (в себе) за лавину. Нет, это надолго, на годы, увижусь или не увижусь. У меня глубокий покой. В этой встрече весь смысл моей жизни, думаю иногда – и Вашей. Просто: читаю Ваши книги и содрогаюсь от соответ<ствия>. Поэтому ни одна строка, написанная с тех пор, Вас не миновала, я пишу и дышу в Вас (как цель, место, куда пишешь). Я знаю, что когда мы встретимся, мы уже не расстанемся. Я vorfhlende[13]. Как это будет в этих мирах, не знаю, – как-нибудь! – это случится той силой горы.
Это не одержимость и не наваждение, я не зачарована, а если зачарована – то навек, так что и на том свете не проснусь, не очнусь. Если сон снится всю жизнь – какое нам дело, что это сон, ведь примета сна – преходящесть.
Я хочу говорить Вам просто и спокойно, – ведь 8 месяцев, под<умайте>, день за днем! Всякая лихорадка отпустит. Когда мне плохо, я думаю: Б.П., когда мне хорошо, я думаю Б.П., когда Музыка – Б.П., когда лист слетает на дорогу – Б.П., Вы мой спутник, моя цель и мой оплот, я не выхожу из Вас. Всё, и болевое, и <пропуск одного слова>, с удесятеренной силой отшвыривает меня к Вам на грудь, в грудь, я не могу выйти из Вас, даже когда <оборвано>
О внешней жизни. Я так пыталась любить другого, всей волей люб<ви>, но тщетно, из другого я рвалась, оглядывалась на Вас, заглядывалась на Вас (как на поезд заглядываются, долженствующий появиться из тумана). Я невиновна в том, что я <оборвано>, я всё делала, чтобы это прошло.
Так было, так есть, так будет.
Я не жду Ваших писем, отпуская Вас тогда, я отпускала Вас на два года, на все эти дни этих двух годов, на все часы. Мне эти годы, часы, дни нужно проспать. Сон – работа, сон – <пропуск одного слова>, любовь к др<угому>. Тревожиться и ждать Вас я начну, хотела сказать 31го апреля – нет, 30го марта 1925 г. Это – ставка моей жизни, так я это вижу.
Смешно мне, не отвечающей ни за час, загадывать на годы, но вот – полугодие уже есть. Так пройдут и ост<альные> три.
<Другими чернилами; вероятно, предварительный конспект этого письма:>
Не хочу сказать б<ольше>, чем есть, но: некое чувство обреченности друг на друга, просто: иначе не может быть. Вокруг меня огромные любовные вихри, Вы моя единственная неподвижность (во мне, все то – во вне, это во мне). О внешней жизни не расск<азываю>, т. е. о жизни моей в днях, – много всего! все настоящее, но из каждых рук рвусь в Вас, оглядываюсь на Вас. Встреча с Вами – весь смысл моей жизни здесь на земле (есть и ин<ые> см<ыслы>). Зн<айте>, что то, что удерживает, заграждает мне Вас, так же велико, громадно, безнадежно – как Ваше. Мы во всем равны здесь <оборвано>
Письмо 19
<пер. пол. 1924 г.>
Пастернак – Цветаевой
Дорогая Марина! Так странно Вам писать! Мне кажется, Вы знаете и видите все, мы никогда не начинали, мы никогда не перестанем. Живите долго, живите вечно, я только на это надеюсь теперь. Как объяснить Вам? Я мог бы простыми и строгими словами рассказать, что теперь со мною и как сложилась жизнь, как трудно тут. Всего бы лучше так и сделать. Но я не знаю, далось ли бы Вам то волненье, с каким бы я их сказал. Я писал бы Вам о своем житье-бытье, и чем подробнее и точнее на нем останавливался, тем чуднее и жутче было бы Вам, что я с таким усердьем себя помню. А между тем, подробно и точно писал бы я о Вас, о Вас давнишней, о Вас отдаленной и далекой в будущем. Что Вы такое, Марина? Вы в ряду тех величайших вещей, которых можно не замечать, без угрозы обидеть их и их лишиться. Вы сердечный мой воздух, которым день и ночь дышу я, того не зная, с тем чтобы когда-нибудь и как-то (и кто скажет, как?) отправиться только и дышать им, как отправляются в горы или на море или зимой в деревню. Только раз пять или шесть, не больше, слышал я в жизни другую такую незаметность, водопад существованья, грохот невымышленного мира, частый, как несущаяся конница, град отвесного, во весь рост, чутья, предполаганья, испуга, восторга, поклоненья и утаиванья, – такие звуки знакомы окнам весенней ночью. О том, как услыхал я это в предпоследний раз, писал я в бытность мою поэтом. В следующий, в последний раз я это услышал из Верст и потом от Вас, изо всего, что от Вас шло и за что я никогда не благодарил вовремя, как за отдаленное, всю ночь держащее тебя у окна, молодое, горделивое, немолчно играющее молчаньем, торжественно тихое одиночество далекого, далекого водопада. Зачем я пишу Вам глупости, они Вас за разметываемую красоту не вознаградят и вас не возвратят мне, если Ваше терпенье истощилось, если мое поведенье Вам в тягость и я Вас потерял. Я часто представлял себе, что было бы, будь Вы тут. Я боюсь говорить об этом, так ясно я все вижу, ничего не назвав. Но одним разочарованьем было бы в жизни у Вас больше, потому что до какой бы бледности и опущенности я ни дошел, войдя к Вам и оставшись при Вас, я бы их за собой не знал, за оглушающим грохотом полной подлинности, за счастьем, и наверное недоумевал бы и огорчался, когда Вы и другие глядели бы на меня трезвыми глазами. Потому что красить Вас и Вас дополнять нечем и не к чему. И как легко бы я стал ничтожеством (для Вас неловким). Есть устойчивый, бестрепетно сторожевой порядок, порядок Верст и расстояний, без которых некуда было бы удаляться далям, неоткуда катиться их гулу. Они умнее нас. Их разорять нельзя. Я заметил, что думая о Вас, всегда закрываю глаза. Я тогда вижу свой дом, жену, ребенка, всё вместе, себя, лучше сказать, то место среди них, куда я должен откуда-то вернуться и возвращаюсь. И вот, с закрытыми глазами продолжаю я видеть их в какой-то их радости, в подъеме, точно приток неведомо откуда-то взявшихся планов или надежд влился в них, или у них праздник, и они не знают, как его назвать, я же знаю (и может быть говорю им), и имя этому празднику – Вы. Ничем у меня из головы этого представленья не вышибить. Я уже раз Вам о нем говорил. Я верю в это чутье, слишком часто оно мне является и мое постоянное любованье Вами сопровождает. Я ему слепо доверяюсь, хотя ни понять, ни осмыслить его не в силах. Возможно, что это предчувствие какое-то, – безо всякой мистики, лишнего глубинничанья и литературы. В том, как я люблю Вас, то, что жена моей любви к Вам не любит, есть знак неслучайный и себе подчиняющий, – о если бы Вы это поняли! Что он может значить? А Бог его знет. У него может быть только два значенья. Либо нам не суждено свидеться (ну скажем, меня вдруг завтра не станет, и тогда к чему было бы понапрасну их огорчать или отчуждать). Либо же суждено нам, и в это я верю, встретиться вне всякой неправды, как бы непонятно и несбыточно это ни казалось. Я ловлю себя на том, что говорю уже не с Вами, а о Вас с самим собой или с двойником моей Жени. Это ведь неуклюже и не касается Вас, и Вам скучно, наверное, родной, родной мой воздух, насильно с воли втянутый в комнату к посторонним! Сегодня ровно год, как я сдерживаюсь, таюсь и для Вас не существую. Дань неправде ведь и эта нарочитая нищета. Мне хочется писать Вам. Я буду писать про всякую всячину, без иронии, я буду обо всем пробалтываться Вам. Это будут (если пойдут) – ровные, почти неподвижные письма. Сразу же, как только я обращаюсь к Вам, Марина, меня подымает до самого предела преданности, и этот уровень длится ровно, без спаданий, головокружительно.
Ваш Б.П.
<На полях:>
Ищите случая, как с Синезубовым, рассказывайте о себе, передавайте все что можно, стихи же посылайте полностью, все, все, что напишете, одна Вы еще поэт под этим нашим небом.
Мой адрес: Волхонка 14 кв. 9. Прощайте.
Письмо 20
Цветаева – Пастернаку
Провода
– Борису Пастернаку. —
«И – мимо! Вы поздно поймете…»
Б.П.
1
- Вереницею певчих свай,
- Подпирающих Эмпиреи,
- Посылаю тебе свой пай
- Праха дольнего.
- – По аллее
- Вздохов – проволокой к столбу
- Телеграфное: «лю – ю – блю…
- Умоляю…» (печатный бланк
- Не вместит! Проводами проще!
- Это – сваи, на них Атлант
- Опустил скаковую площадь
- Небожителей…
- Вдоль свай
- Телеграфное: про – о – щай…
- – Слышишь? Это последний срыв
- Глотки сорванной: про – о – стите…
- Это – снасти над морем нив,
- Атлантический путь тихий:
- Выше, выше – и сли – лись
- В Ариаднино: ве – ер – нись,
- Обернись!.. Даровых больниц
- Заунывное: не выйду!
- Это – проводами стальных
- Проводов – голоса Аида
- Удаляющиеся… Даль
- Заклинающее: жа – аль…
- Пожалейте! (В сем хоре – сей
- Различаешь?) В предсмертном крике
- Упирающихся страстей —
- Дуновение Эвридики:
- Через насыпи и рвы
- Эвридикино: у – у – вы,
- Не у —
2
- Чтоб высказать тебе… да нет, в ряды
- И в рифмы сдавленные… Сердце – шире!
- Боюсь, что мало для такой беды
- Всего Расина и всего Шекспира.
- «…Все плакали, и если кровь болит…
- Все плакали, и если в розах – змеи…»
- Но был один – у Федры – Ипполит!
- Плач Ариадны – об одном Тезее!
- – Терзание! Ни берегов, ни вех!
- Да, ибо утверждаю, в счете сбившись,
- Что я в тебе утрачиваю всех
- Когда-либо и где-либо небывших!
- Какие чаянья, когда насквозь
- Тобой пропитанный – весь воздух свыкся?
- Раз Наксосом мне – собственная кость!
- Раз собственная кровь под кожей – Стиксом!
- Тщета! во мне она! везде! закрыв
- Глаза: без дна она! без дня! И дата
- Лжет календарная…
- Как ты – Разрыв,
- Не Ариадна я и не…
- – Утрата!
- О по каким морям и городам
- Тебя искать? (незримого – незрячей!)
- Я проводы вверяю проводам,
- И в телеграфный столб упершись – плачу.
3
(Возможности)
- Все перебрав – и все отбросив,
- (В особенности – семафор!)
- Дичайшей из разноголосиц
- Школ, оттепелей… (целый хор
- На помощь!) Рукава как стяги
- Выбрасывая…
- – Без стыда! —
- Гудят моей высокой тяги
- Лирические провода.
- Столб телеграфный! Можно ль кратче
- Избрать? Доколе небо есть —
- Дружб непреложный передатчик,
- Уст осязаемая весть…
- Знай! что доколе свод небесный,
- Доколе зори к рубежу —
- Столь явственно и повсеместно
- И длительно тебя вяжу.
- Чрез лихолетие эпохи,
- Лжей насыпи – из снасти в снасть —
- Мои неизданные вздохи,
- Моя неистовая страсть…
- Вне телеграмм (простых и срочных
- Штампованностей постоянств!)
- Весною стоков водосточных
- И проволокою пространств.