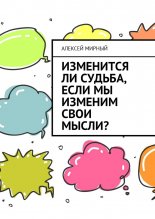Чрез лихолетие эпохи… Письма 1922–1936 годов Пастернак Борис
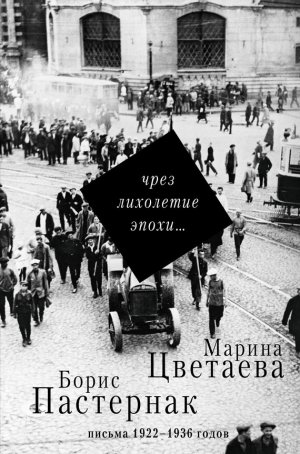
Одному человеку я на днях это выразил так. Мне пишет человек, которого я люблю до самозабвенья. Но это такой большой человек и это так широко свидетельствуется в письмах, что иногда становится больно скрывать их от других. Эта боль и называется счастьем.
Ты всего не знаешь. Ты усадила меня за работу. Но как благодарить тебя за то, что, облегчая мне этим разлуку, ты третий месяц уподобляешь часть людей и обстоятельств себе. Я говорю о тебе, как о начале. Как это объяснить? Обращаются как с драгоценностью. Как с вещью, заряженной золотом, любовно и осторожно. И так как я заряжен тобой, я люблю их всех за это обращенье. За чутье, за подчиненье тому, чем я дымлюсь, очевидно.
Я напишу тебе, как только будет готов Шмидт. Только так я могу заставить себя взяться за работу. Это будет недели через три. Я много чего расскажу тебе тогда. Ты ведь все-таки живешь тут и во всей осязательности отдельных происшествий со мной. – Но об этом сегодня ни слова. Когда я буду писать тебе, буду один.
Твой ответ чудный, редкостный. Если мои слова о грохоте (невозможно далеком, божественно-благородном) законности кажутся <второе слово подчеркнуто дважды> тебе расходящимися с твоими последними словами о замужестве, ты их вымарай, чтобы их больше не видать. На самом деле я в них выражаю то самое, что составляет суть и дыханье твоего письма.
Летом, осенью и зимой будут случаи и полосы, когда нам будет казаться, что мы пошли наперекор весне, поперек нее. Я тебе желаю счастья в эти дни, тебе и себе.
Прилагаю к этому исьму недоконченное, начатое в ожиданье твоего ответа. Ни на него, ни на это последнее, в котором я выражаю песку St. Gilles-ского пляжа свою робость и покорность и все то, что требуется, чтобы задобрить воздух – не отвечай. Давай молчать и жить и расти. Не обгоняй меня, я так отстал. Семь лет я был нравственно трупом. Но я нагоню тебя, ты увидишь. Про страшный твой дар не могу думать. Догадаюсь когда-нибудь, случится инстинктивно. Открытый же и ясный твой дар захватывает тем, что, становясь долгом, возвышает человека. Он навязывает свободу, как призванье, как край, где тебя можно встретить. Лето 1917 г. было летом свободы. Я говорю о поэзии времени и о своей. В «Шмидте» одна очень взволнованная, очень моя часть просветляется и утомленно падает такими строчками:
- О государства истукан,
- Свободы вечное преддверье!
- Из клеток крадутся века,
- По Колизею бродят звери,
- И вечно тянется рука
- В столетий изморось сырую,
- Гиену верой дрессируя,
- И вечно делается шаг
- От римских цирков к римской церкви,
- И мы живем по той же мерке,
- Мы, люди катакомб и шахт.
До этого стихи с движеньем и даже м.б. неплохие. Эти же привожу ради мысли. Тут в теме твое влиянье (жид, выкрест и пр. из Поэмы Конца). Но ты это взяла как символ и вековечно, трагически, я же в точности как постоянный переход, почти орнаментальный канон истории: арена переходит в первые ряды амфитеатра, каторга – в правительство, или еще лучше: можно подумать, при взгляде на историю, что идеализм существует больше всего для того, чтобы его отрицали.
Прости за щепетильную и мелочную просьбу и не удивляйся неожиданной деловитости. Не все понимают, что в «Потемкине» сл<ова> «За обедом к котлу не садились и кушали молча хлеб да воду…» – не случайная описка, а сказано так умышленно. Именно это кушать – солдатское, то есть, вернее, казарменное выраженье, а не всякие там хлебать или шамать и прочие глаголы, употребительные на воле и дома. Кроме того, это выраженье почерпнуто из матерьялов. Вот я и хочу тебя спросить. Не сопроводить ли некоторых выражений вроде: скатывать палубу, буксирный кнехт и пр. объяснительными сносками и не дать ли в их ряду и сноску к слову «кушали»? Если ты с этим согласна, то под звездочкой я бы тогда дал просто документальную выдержку: «Борщ кушать было невозможно, вследствие чего команда осталась без приварочного обеда и кушала только хлеб с водою». Из дела № 3769–1905 г. Д<епартамента> Полиции 7-го делопроизводства «О бунте матросов на броненосце “Князь Потемкин Таврический”». Показанье матроса Кузьмы Перелыгина. – Разумеется, в оригинале по старому правописанью.
В документе, кот<орый> называется: «Правда о “Потемкине”». Написал минно-машинный квартирмейстер первой статьи броненосца «Кн<язь> Пот<емкин> Тавр<ический>» Афанасий Матюшенко. «Ребята, почему не кушаете борща?» – «Кушай сам, а мы будем кушать воду с хлебом». И вообще вся страница этого замечательного воспоминанья (Матюшенко повешен в 1907 г., его предал Азеф) пестрит этим кушаньем воды. Между прочим, меня удивляет, что некоторые слышат в этом какую-то странность. По-моему, это в стихии языка, и м.б. даже без наводящих подробностей матерьяла я сказал бы так и сам. Для сноски, разумеется, достаточно одного Перелыгина.
Остальные сноски, под соотв<етствующими> словами. Шканцы – средняя часть корабля. Считается самой почетной и даже священной его частью. Кнехт – железный столбик для зацепки каната. Скатить палубу значит вымыть ее, закрыв люками входы во все находящиеся <внизу> помещенья. Батарейная палуба с башней – бронированная надстройка на середине броненосца со входами в машинные и минные части и в арсенал. Щит – железное приспособленье, служащее прицелом для орудийной стрельбы на маневрах. Камбуз – судовая кухня. Спардек – площадка, которая образуется потолком надстройки, имеющейся в средней части корабля. Ют – часть кормы до бизань-мачты. А может быть, ничего этого не нужно? Какой-то глупый получается вид. Как ты думаешь?
Как я ненавижу свои письма! Но так как я отвечу на твои продолжением и окончаньем Люверс и так как, что бы я ни написал взамен этой ерунды, завершающейся тремя перепутанными страницами о сносках и опять о червях, получится то же самое, то я и посылаю тебе эти вспышки разыгрывающегося тупоумья. Марина, я говорю это искренне, бесстрашье же мне внушает фатализм, т. е. вера в целое, растянутое по времени, и пренебреженье к частностям. – Была неделя, когда я полностью вышел из семьи. Истекшею зимой меня часто донимали разные предвестья возраста и нездоровья. Удивительно, как поправляет и омолаживает страданье. Я вдруг узнал в глаза свою давно не виденную жизнь.
Прости за письмо, за глупые стихи, за невозможное многословье в сносках, ни к чему не нужных. Я хорошо напишу летом, я все пройду снизу доверху. Я тебе напишу о тебе, о предельном, о самом дорогом: о тебе безотносительной, «объективной». И о том, как представлял я себе мое прикосновенье к тебе. Говорю, и громоздятся словесные извращенья. Это оттого, что все стало жизнью. – Чего-то жду от Англии. Либо просто-напросто тебя, либо в уподобленьи. М.б. легче будет жить, легче встретиться. – На вопрос о последней фразе анкеты ты ответила. Слава Богу. Отрывками твоих стихов в письмах пользуюсь как сжатыми образцами лирической силы и высоты. Как хорошо, что мы поем эту <подчеркнуто дважды> хвалу друг другу не первыми, а со стольких, стольких голосов.
<На полях:>
И все-таки, что я не поехал к тебе – промах и ошибка. Жизнь опять страшно затруднена. Но на этот раз – жизнь, а не что-ниб<удь> другое.
Письмо 53
19 мая 1926 г.
Пастернак – Цветаевой
До этого было три неотправленных. Это болезнь. Это надо подавлять. Вчера пришла твоя передача его слов: твое отсутствие, осязательное молчанье твоей руки. Я не знал, что такую похоронную музыку может поднять, отмалчиваясь, любимый почерк. Я в жизни не запомню тоски, подобной вчерашней. Все я увидел в черном свете. Болен Асеев ангиной, четвертый день 40 градусов. Я боюсь, боюсь произнесть, чего боюсь. И все в таком роде. Так я не могу, не хочу и не буду тебе писать. Я страшно дорожу временем, ставшим твоим живым раствором, только разжигающим жажду. Я дорожу годом, жизнью и боюсь нервничать, боюсь играть этим нечеловеческим добром. По той же причине не отзываюсь на письмо о Парнок. Ей мне сделать нечего, потому что никакой никогда мы каши с ней не варили, да еще вдобавок письмо застало меня в новой ссоре с ней: накануне я вышел из «Узла», отчасти из-за нее. Писать же о двадцатилетней Марине в этом обрамленьи и с данными, которые ты на меня обрушила, мог бы только св. Себастьян. Я боюсь и коситься на эту банку, заряженную болью, ревностью, ревом и страданьем за тебя, хотя бы краем одного плеча полуобнажающуюся хоть в прошлом столетии. Попало ни в чем не повинным. Я письмо получил на лестнице, отправляясь в Известия, где не был четыре года. Я вез им стихотворенье, написанное слишком быстро для меня, об Англ<ийской> забастовке, уверенный, что его не примут. В трамвае прочел письмо и стихи (если это – банка, то анод и катод, и вся музыка, и весь ад, и весь секрет, конечно, в них: Зачем тебе, зачем / моя душа спартанского ребенка). И вот таким, от тебя и за тебя, влетел я в редакцию, хотя и своего достаточно было. Они не знали, куда от меня деваться. Единственное, похожее на человеческую мысль, что они сказали, было: поэт в редакции это как слон в посудной лавке. М<ежду> пр<очим>, я слишком высказался там в тот день, и м.б. мои общие страхи возвращаются и к тому вечеру. Среди всего прочего я сказал, что, начав играть в нищих, все они стали нищими, каких не бывает, каких бы только выставляли в зверинцах, если бы природа и пр. и пр.
Соображенья житейские заставляют меня признать все уже написанное о Шмидте «I-ою частью» целого, уверовать в написанье второй и сдать написанное в журнал. Я над вещью работы не брошу. Она будет. Но мне хотелось посвященье тебе написать по окончании всего, и хорошо написать. Помещать же его надо в начале. Вчера, перед сдачей, написал как мог.
Посвященье
- Мельканье рук и ног и вслед ему
- «Ату его сквозь тьму времен! Резвей
- Реви рога! Ату! А то возьму
- И брошу гон и ринусь в сон ветвей».
- Но рог крушит сырую красоту
- Естественных, как листья леса, лет.
- Царит покой, и что ни пень – Сатурн:
- Вращающийся возраст, круглый след.
- Ему б уплыть стихом во тьму времен.
- Такие клады в дуплах и во рту.
- А тут носи из лога в лог ату,
- Естественный, как листья леса, стон.
- Век, отчего травить охоты нет?
- Ответь листвою, пнями, сном ветвей
- И ветром и травою мне и ей.
Тут – понятье (беглый дух): героя, обреченности истории, прохожденья через природу, – моей посвященности тебе. Главное же, как увидишь, это акростих с твоим именем, с чего и начал: слева столбец твоих букв, справа белый лист бумаги и беглый очерк чувства. Писал в странном состоянии, доля которого, впрочем, была и в значительно худшем, т. е. просто плохом, для газеты стихе об Англии. Так как оно кончается тем же колечкоподобным, узким и втягивающим словом, что и посвященье, то вот:
- Событье на Темзе, столбом отрубей
- Из гомозни претензий по вытяжной трубе!
- О будущность! О бьющийся об устье вьюшки дух!
- Волнуйся сам, но не волнуй, будь сух!
- Ревущая отдушина! О тяга из тяг!
- Ты комкаешь кусок газетного листа,
- Вбираешь и выносишь и выплевываешь вон
- На улицу, на произвол времен.
- Сегодня воскресенье и отдыхает штамп
- И не с кого списать мне дифирамб.
- Кольцов помог бы втиснуть тебя в тиски анкет,
- Но в праздник нет торговли в Огоньке!
- И вот, прибой бушующий, не по моей вине
- Сегодня мы с тобой наедине.
- Асфальтов блеск и дробь подков и гонка облаков.
- В потоке дышл и лошадей поток и бег веков.
- Все мчит дыша, как кашалот, и где-то блещет цель
- И дни ложатся днями на панель.
- По палке вверх взбегает плеск нетерпеливых рук.
- Конаясь, дни пластают век, кому начать игру.
- Лицо времен, вот образ твой, ты не живой ручей,
- Но столб вручную взмывших обручей.
- Событье на Темзе, ты вензель в коре
- Влюбленных гор, ты – ледником прорытое тире.
- Ты зиждешь столб, история, и в передвижке дней
- Я свижусь с днем, в который свижусь с ней.
Хотя я сегодня немножко успокоился и снова помню и знаю, отчего остался на год, а отсюда и: зачем, но до полученья письма от тебя темы Рильке затрагивать не в состоянии[37]. Это именно то письмо, которое мне грезилось и которого я и в сотой доле не заслуживаю. Он ответил немедленно. Но когда, помнишь, я запрашивал у тебя посторонних и действительных опор для решенья, лично для себя я избрал, как указанье, именно это письмо, вернее срок его прихода. Я не рассчитал, что совершить ему предстояло не два, а больше четырех концов (везли с оказией к родным в Германию, оттуда послали ему, м.б. не прямо, от него на Rue Rouvet, потом на океан, потом лишь от тебя ко мне). У меня было загадано, если ответ его будет вложен в письмо с твоим решеньем, послушаюсь только своего нетерпенья, а не тебя и не «другого» своего голоса. И, верно, хорошо, что тогда вы с ним разошлись. Но что ты разошлась с ним вторично, что вместе с ним пришла не ты, а только твоя рука, потрясло меня и напугало. Успокой же меня скорее, Марина, надежда моя. Не обращай вниманья на скверные стихи в письмах. Вот увидишь Шмидта в целом. Если же посвященье плохо, успей остановить.
<На полях:>
Я твоей просьбы отн<осительно> Над<ежды> Ал<ександровны> еще не исполнил. Ты должна меня простить. Это тоже из самосохраненья. Боюсь избытка тебя в делах и в дне. С исполненьем просьбы запоздаю.
Письмо 54а
<ок. 22 мая 1926 г.>
Цветаева – Пастернаку
Мой отрыв от жизни становится все непоправимее. Я переселяюсь, переселилась, унося с собой всю страсть, всю нерастрату, не тенью, обессиленной жизнью, а живой из живых.
Подтверждение – моя исполнительность в жизни. Я исполнительна как раб. Только унеся вещь из дому, я могу ее понять, изымя<сь>, отвлечась.
Ты не знаешь моей жизни, именно этой частности слова: жизнь. И никогда не узнаешь из писем, я слишком суеверна, боюсь вслух, боюсь сглазить [то, что все-таки, очевидно, является – счастьем] – не объяснить. Боюсь оказаться неблагодарной. Но, очевидно, мне так трудно, так несвойственна мне эта дорогая несвобода, что из самосохранения переселяюсь в свободу – полную. В тебя.
Борис, ни один мой час не принадлежит мне. Никуда не могу уйти, все заранее распределено. Я бы и умереть не могла – п.ч. распределено. Кем? Мною. Моей заботой. Я не могу, чтобы Аля не мылась: Аля, мойся! по 10 раз. Я не могу, чтобы газ горел даром, я не могу, чтобы Мур ходил в грязной куртке, я не могу —. У меня горд<ость> нищего – не по карману, не но собственным силам. И вот, как заведенная: <оборвано>. Борис, я тебя хочу – без завода, в каком-то жизненном промежутке, в состоянии паузы. Такая пауза – мост, поезд, всё, что движется: переносной пол, maison roulante[38] – моего (и м.б. твоего) детства.
Я ненавижу предметы – я загромождена ими. Точно мужчина, давший честное слово уехавшей жене, что все будет в порядке. Поэтому – не упорядоченная жизнь, а безумие, вдруг среди разг<овора> – срывается: забыла, вывешено ли полотенце: солнце, нужно воспользоваться.
Словно вытверженный урок – как Отче Наш, с которого не собьешь, п.ч. не понимаешь ни слова.
Нынче письмо от Аси. Есть о Молодце. «Борис, по своей добр<оте>, увидел в конце простое освобождение и порадовался за тебя». Ты опять прав. Конечно, простое освобождение: от чего? от насилия жизни, от непременности жить. [Она честно как нужно оберегалась от счастья. Оно пришло. Разве важно, – что именно во время Херувимской.] Я сама вздохнула, когда кончила, осчастливленная за нее – за себя. Что они будут делать в «огнь-синь»? Лететь в него вечно. Так я вижу счастье. Никакого сатанизма. Просто сказка, как упырь – силой любви – превр<ащается> в человека (его нарастающие, крепчающие предостережения, его мольбы!). А человек – Маруся – силой той же любви – в упыря <вариант: нечеловека> (перешагнула же через мать! – через себя! – в конце: через ребенка и барина). Как в Греции: любовь делает богов людьми и людей – богами.
Херувимская? Так народ захотел. И, нужно сказать, хорошо выбрал час для встречи. Борис, я не знаю, что такое кощунство. Любовь. М.б. – степень огня? Красный – синий – белый. Белый (Бог) м.б. силой бел, чистотой сгорания? Чистота. Мое обожаемое слово.
То, что сгорает без пепла – Бог. Так?
А от этих – моих – в простр<анстве> огромные лоскутья пепла.
Продолжение
То, что ты пишешь о себе, я могу тебе написать о себе: со всех сторон любовь, любовь, любовь. И – не радует. Имя (без отчества), на которое я прежде так была щедра, тоже затрепывается. Люди, которые прежде не замечали, вдруг – увид<ели>, воззрились, обмерли: А я та же. Что мне эта прихоть их часа? Я прежде тоже была.
Когда я прихожу в комнату, мне поскорее хочется из нее уйти.
Я совсем не умею жить в доме и жить с др<угими>.
<Оставлена пустая строка> – ты мне ответил «поехали бы к Рильке». А я тебе скажу, что Рильке перегружен, что ему ничего, никого не нужно. Гёте в старости. В молодости нужно было – всё, а в старости – Эккерман (воля последнего к II Фаусту, уши и запсная книга). Рильке перерос Эккермана, он больше знает о бессмертии, чем Гёте. На меня от него веет последним холодом имущего, который и меня включил в свое имение. Да, да, несмотря на жар писем, на бесконеч<ность> вслушив<ания> и вним<ания>, на безукоризненность слуха, – я ему не нужна, и ты не нужен. Эта встреча для меня – большая растрава, удар в сердце, да. Тем более, что он – прав, что я в свои лучшие, высшие – часы высшей силы во мне – такая же. И, м.б., от этого спасаясь, четыре года подряд, за неимением Гёте, была Эккерманом – Волконского?! И так всегда хотела во всяком, в любом – не быть?!
О, Борис, Борис, был бы ты здесь, я бы врылась в твою грудь <вариант: тебе в грудь>, закрыв глаза <от?> эт<ого> ледникового периода в груди.
Письмо 54б
22 мая 1926 г., суббота
Цветаева – Пастернаку
Борис!
Мой отрыв от жизни становится всё непоправимей. Я переселяюсь, переселилась, унося с собой всю страсть, всю нерастрату, не тенью – обескровленной, а столько ее унося, что напоила б и опоила бы весь Аид. О, у меня бы он заговорил, Аид!
Свидетельство – моя исполнительность в жизни. Так роль играют, заученное. Ты не знаешь моей жизни, именно этой частности слова: жизнь. И никогда не узнаешь из писем. Боюсь вслух, боюсь сглазить, боюсь навлечь, неблагодарности боюсь – не объяснить. Но, очевидно, так несвойственна мне эта дорогая несвобода, что из самосохранения переселяюсь в свободу – полную. (Конец «Молодца».)
Да, о Молодце, если помнишь, – прав ты, а не Ася. «Б. по своей неслыханной доброте увидел в конце простое освобождение и порадовался за тебя».
Борис, мне всё равно куда лететь. И, может быть, в этом моя глубокая безнравственность (небожественность). Ведь я сама – Маруся: честно, как нужно (тесно, как не можно), держа слово, обороняясь, заслоняясь от счастья, полуживая (для других – более, чем – но я-то знаю), сама хорошенько не зная для чего так, послушная в насилии над собой, и даже на ту Херувимскую идя – по голосу, по чужой воле, не своей.
Я сама вздохнула, когда кончила, осчастливленная за нее – за себя. Что они будут делать в огнь-синь? Лететь в него вечно. Никакого сатанизма. Херувимская? Так народ захотел. (Прочти у Афанасьева сказку «Упырь». – Пожалуйста!) И, нужно сказать, хорошо выбрал час. Борис, я не знаю, что такое кощунство. Грех против grandeur[39] – какой бы то ни было, потому что многих нет, есть одна. Всё остальное – степени силы. Любовь! Может быть – степени огня? Огнь-ал (та, с розами, постельная), огнь-синь, огнь-бел. Белый (Бог) может быть силой бел, чистотой сгорания? (Чистота. Которую я неизменно вижу черной линией. Просто – линией.)
То, что сгорает без пепла – Бог. Тает?
А от этих – моих – в пространствах огромные лоскутья пепла. Это-то и есть Молодец.
Я недаром отдала эту поэму тебе. Переулочки и Молодец – вот, досель, мое из меня любимое.
Еще о жизни. Я ненавижу предметы и загромождения ими. Точно мужчина, давший слово жене, что всё будет в порядке. (А она умерла или вроде.) Поэтому – не упорядоченность жизни, построенная на разуме, а мания. Вдруг, среди беседы с другом, которого не видела 10 лет, срывается: «Забыла, вывешено ли полотенце. Солнце. Надо воспользоваться». И совершенно стеклянные глаза.
Словно вытверженный урок – как Отче наш, с которого не собьешь, потому что не понимаешь ни слова. Ни слога. (Есть деления мельчайшие слов. Ими, кажется, написан «Молодец».)
То, что ты пишешь о себе, я могу написать о себе: со всех сторон – любовь, любовь, любовь. И – не радует. Имя (без отчества), на которое я прежде так была щедра, – имя ведь тоже затрепывается. Не воспрещаю. Не отвечаю. (Имя требует имени.) Вдруг открыли Америку: меня. Нет, ты мне открой Америку!
«Что бы мы стали делать с тобой – в жизни?» (точно необитаемый остров! на острове – знаю). – «Поехали бы к Рильке». А я тебе скажу, что Рильке перегружен, что ему ничего, никого не нужно, особенно силы, всегда влекущей, отвлекающей. Рильке – отшельник. Гёте в старости понадобился только Эккерман (воля последнего к второму Фаусту и записывающие уши). Р<ильке> перерос Э<ккермана>, ему – между Богом и «вторым Фаустом» не нужно посредника. Он старше Гёте и ближе к делу. На меня от него веет последним холодом имущего, в имущество которого я заведомо и заранее включена. Мне ему нечего дать: всё взято. Да, да, несмотря на жар писем, на безукоризненность слуха и чистоту вслушивания – я ему не нужна, и ты не нужен. Он старше друзей. Эта встреча для меня – большая растрава, удар в сердце, да. Тем более, что он прав (не его холод! оборонительного божества в нем!), что я в свои лучшие высшие сильнейшие, отрешеннейшие часы – сама такая же. И может быть от этого спасаясь (оборонительного божества в себе!), три года идя рядом, за неимением Гёте, была Эккерманом, и большим – С.Волконского! И так всегда хотела во всяком, в любом – не быть.
- Всю жизнь хотел я быть как все.
- Но мир, в своей красе,
- Не слушал моего нытья
- И быть хотел – как я.
Даже без кавычек. Этот стих я так запомнила со слов Л.М.Э<ренбург> еще в 1925 г. весной. И так он мне ближе. Век ведь – поправка на мир.
Да! Доехал ли Э<ренбур>г? Довез ли? Посылала тебе еще тетрадку, для стихов. Сегодня у нас первый тихо океанский день: ни ветринки. – Такие письма можно писать? – Недавно у меня был чудный день, весь во имя твое. Не расставалась до позднего часа. Не верь «холодкам». Между тобой и мною такой сквозняк.
Присылай Шмидта. У меня в Праге был его сын, и для него была трагедия и добавка «Очаковский». Чудный мальчик, похожий на отца. Я помню его в 1905 г. в Ялте на пристани. Будь здоров. Обнимаю, родной.
М.
Письмо 55
23 мая 1926 г.
Пастернак – Цветаевой
У меня к тебе просьба. Не разочаровывайся во мне раньше времени. Эта просьба не бессмысленна, потому что, поверив сейчас про себя, на слух, слова: «разочаруйся во мне», я понял, что я их, когда заслужу, произнести способен. До этого же не отворачивайся, что бы тебе ни показалось.
И еще вот что. Отдельными движеньями в числах месяца, вразбивку, я тебя не домогаюсь. Дай мне только верить, что я дышу одним воздухом с тобою и любить этот общий воздух. Отчего я об этом прошу и зачем заговариваю? Сперва о причине. Ты сама эту тревогу внушаешь. Это где-то около Рильке. Оттуда ею поддувает. У меня смутное чувство, точно ты меня слегка от него отстраняешь. А так как я держал все вместе, в одной охапке, то это значит отдаляешься ты от меня, прямо своего движенья не называя.
Я готов это нести. Наше остается нашим. Я назвал это счастьем. Пускай оно будет горем. Существенности, которая бы развела нас врозь, я никогда в свой круг не втяну, не захочу. А поэтическая воля предвосхищает жизнь. Собственно, я никогда никакой воли за собой не помню, а всегда лишь предвиденья, предвкушенья и… осуществленья, – нет, лучше: проверки.
И вот недавно, с тобою, решительно впервые случилось это со мной по-человечески, как у людей воли.
Ты простоте открыла радость недостававшего разряда. Степень стала основаньем[40].
И вот ты сейчас возмутишься, точно это я завожу неожиданный plusquamperfect[41].
Ничего не изменилось.
Все равно, одно одиночество, одни выхода, и рысканье то же, и те же излюбленности в лабиринте литературы и истории, и одна роль. Чудесно о тебе написал Свят<ополк>-Мирский. Тот же самый Зелинский прислал, раскаявшись и устыдившись политической клеветы, идущей от Кусикова, убогого ничтожества, ни на что лучшее не способного,которого и я достаточно хорошо знаю по столкновеньям в Берлине, где они, засев в «Накануне», травили Белого и, когда требовалось, так нагло переписывали его заслуги в чужую графу, что так и ждалось номера, где просто будет снят Бор<ис> Ник<олаевич> и подпись под фотографией: Ал. Н.Толстой. Таков-«сяков» сей Кусиков, в корне, правду сказать, совсем безобидный малый. Сказанное похорони, памяти не стоит. Держал он книжную лавку. В крайнем случае, когда он заведет мясную, забирать, из злопамятности, будешь не у него.
Статья переремингтонена на тонкой посольской бумаге. Не только пожалел, но значит нашел, отчеркнул, поручил на Rue de Grenelle машинистке. Задала им работу. Чудесная статья, глубокая, замечательная, и верно, очень верно. Люблю С<вятополка>-М<ирского>. Но я не уверен, справедливо ли определяет меня. Я не про оценку, про определенье именно. Ведь это выходит вроде «Шума Времени», как ты его определяешь – натюрмортизм. Не так ли? А мне казалось, что я вглухую, обходами, туго, из-под земли начинаю в реалистическом обличии спасать и отстаивать идеализм, который тут только под полой и пронести, не иначе. И не в одном запрете дело, а в перерождении всего строя: читательского, ландкартного (во временах и пространствах) и своего собственного, невольного. Перед нелюбимое слово «первый поэт» заскакиваю, чтобы заслонить тебя от него. Ты – большой поэт. Это загадочнее, превратнее, больше «первого». Большой поэт – сердце и субъект поколенья. Первый поэт – объект дивованья журналов и даже… журналистов. Мне защищаться не приходится. Для меня, в моем случае – первый, но тоже и большой как ты, т. е. таимый и отогреваемый на груди поколеньем, как Пушкин между Боратынским и Языковым – Маяковский. Но и первый. Что же касается этого слова в статье, то напирать на него было бы близорукой придиркой. Разность терминологии. Св<ятополк>-Мирский под «первым» разумеет подлинно большой, т. е. я бы так рассуждал: единство поколенья – единственность лирической стихии – единственность, в своем бое сосредоточивающаяся в данное время в данном лице. Постоянна только наша способность быть проводниками или приемниками единственности. Волны же эти все время в движеньи. Стихия именуемости ошеломительней имени. Устойчивое имя то же, в отношении духа, что атом в учении о материи: – приближенное обобщенье.
<На полях:>
Говорю о ст<атье> в «Совр<еменных> Зап<исках>». Статьи под рукой нет. Тотчас по прочтеньи послал Вильяму в Красноярск, надеясь на скорый привоз ее Эренбургом. Оттого коротко и отзываюсь. Следовало бы перечесть.
Я еще хотел сказать о цели предостереженья. В случаях моего молчанья не приписывай ему ничего типического, напрашивающегося. Так, например, когда в журналах помещается что-ниб<удь> мое, я эти номера получаю. В толстых всегда есть что-ниб<удь> любопытное, интересное или даже достойное. В теперешний, трудный для меня период преодоленья реализма через поэзию, там всегда есть вещи, лучше моих, нередки даже случаи, когда вообще весь номер, в своей праздничной легкости, этажом выше и опрятнее моих отяжеленных будней. Я этих журналов не читаю, то есть не могу читать не из небрежности. Но у меня сердце не на месте. Будь ты тут, я бы, верно, ими зачитывался. Так вот, пример из тысячи. Если бы тебе вручили бандероль новеньких журналов с двумя-тремя страницами, разрезанными для правки, ты не думай, что это я рвусь осчастливить тебя своими неудачами и только ими занят изо всего тома. Нет, это значит совсем другое. У меня является возможность послать тебе книжки в нетронутом виде, где много хорошего (в «Ковше», например, весь уровень выше моей доли). Я этой возможностью и пользуюсь.
Спекторский определенно плох. Но я не жалею, что с ним и 1905-ым, за исключеньем двух-трех недавних глав из «Шмидта», залез в такую скуку и аритмию. Я эту гору проем. А надо это: потому что в природе обстоятельств и неизбежно, и еще потому, что это в дальнейшем освободит ритм от сращенности с наследственным содержаньем. Но таких вещей в двух словах не говорят. Ты поймешь неправильно и решишь, что я мечтаю о холостом ритме, о ритмическом чехле? О, никогда, напротив. О ритме, который девять месяцев носит слово. Перебирая старую дребедень, нашел в сборничке 22 года две странички, за которые, в противоположность вещам в посылаемых журналах, стою горой. Прилагаю, и ты прочти не спеша, не обманываясь формой: это не афоризмы, а подлинные убежденья, мож<ет> быть даже и мысли. Записал в 19-м году. Но так как это идеи скорей неотделимые от меня, чем тяготеющие к читателю (губка и фонтан), то поворот головы и отведенность локтя чувствуются в форме выраженья, чем м.б. ее и затрудняют. Святополк говорит, что мы разные. Прочти. Неужели разные? Разве это не ты? У меня это единственный экземпляр. Если ты с чем-нибудь будешь настолько несогласна, что захочешь спорить, приведи задевшее место целиком, а то не буду знать, о чем говоришь. А из журнального много-много если в отрывке 1905 (в Звезде) найдется два-три настоящих слова. – Рильке сейчас не пишу. Я его люблю не меньше твоего, мне грустно, что ты этого не знаешь. Отчего не пришло тебе в голову написать, как он надписал тебе книги, вообще, как это случилось, и м.б. что-ниб<удь> из писем. Ведь ты стояла в центре пережитого взрыва и вдруг – в сторону. – Живу его благословеньем. Если будет что, посылай просто по почте. Дойдет, думаю, лишь бы не швейц<арские> марки.
<На полях:>
Верно, не удержусь и пошлю 1-ю часть Шмидта. Когда она была сдана, нашел матерьял, несоизмеримо существеннейший, чем тот, кот<орым> пользовался. Переделывать – надо бы поместьем владеть. Не придется. Вгоню главу в виде клина, от которой эта суть разольется в обе стороны. Допишу эту дополнительную главу и тогда вышлю.
Если письмо покажется чудным, тем скорее вспомни о просьбе, с кот<орой> оно начинается.
Кланяйся Але, поцелуй мальчика, кланяйся С.Я. Мы м.б. будем обеими семьями друзьями. И это не ограниченье, а еще больше, чем было. Увидишь.
Этой весной я стал сильно седеть. Целую тебя.
Письмо 56
St. Gilles, 23 мая 1926 г., воскресенье
Цветаева – Пастернаку
Аля ушла на ярмарку, Мурсик спит, кто не спит – тот на ярмарке, кто не на ярмарке – тот спит. Я одна не на ярмарке и не сплю. (Одиночество, усугубленное единоличностью. Для того, чтобы ощутить себя не-спящим, нужно, чтобы все спали.)
Борис, я не те письма пишу. Настоящие и не касаются бумаги. Сегодня, например, два часа идя за Муркиной коляской по незнакомой дороге – дорогам – сворачивая наугад, все узнавая, блаженствуя, что наконец на суше (песок – море), гладя – походя – какие-то колючие цветущие кусты – как гладишь чужую собаку, не задерживаясь – Борис, я говорила с тобой непрерывно, в тебя говорила – радовалась – дышала. Минутами, когда ты слишком долго задумывался, я брала обеими руками твою голову и поворачивала: ВОТ! Не думай, что красота: Вандея бедная, вне всякой внешней heroc’и: кусты, пески, кресты. Таратайки с осликами. Чахлые виноградники. И день был серый (окраска сна), и ветру не было. Но – ощущение чужого Троицына дня, умиление над детьми в ослиных таратайках: девочки в длинных платьях, важные, в шляпках (именно – к ах!) времени моего детства – нелепых – квадратное дно и боковые банты, – девочки, так похожие на бабушек, и бабушки, так похожие на девочек… Но не об этом – о другом – и об этом – о всем – о нас сегодня, из Москвы или St. Gill’a – не знаю, глядевших на нищую праздничную Вандею. (Как в детстве, смежив головы, висок в висок, в дождь, на прохожих.)
Борис, я не живу назад, я никому не навязываю ни своих шести, ни своих шестнадцати лет, – почему меня тянет в твое детство, почему меня тянет – тянуть тебя в свое? (Детство: место, где все осталось так и там.) Я с тобой сейчас, в Вандее мая 26 года, непрерывно играю в какую-то игру, что в игру – вигры! – разбираю с тобой ракушки, щелкаю с кустов зеленый (как мои глаза, сравнение не мое) крыжовник, выбегаю смотреть (п.ч. когда Аля бежит – это я бегу!), опала ли Vie или взошла (прилив или отлив).
Борис, но одно: Я НЕ ЛЮБЛЮ МОРЯ. Не могу. Столько места, а ходить нельзя. Раз. Оно двигается, а я гляжу. Два. Борис, да ведь это та же сцена, т. е. моя вынужденная заведомая неподвижность. Моя косность. Моя – хочу или нет – терпимость. А ночью! Холодное, шарахающееся, невидимое, нелюбящее, исполненное себя – как Рильке! (Себя или божества – равно.) Землю я жалею: ей холодно. Морю не холодно, это и есть оно, все, что в нем ужасающего – оно. Суть его. Огромный холодильник. (Ночь.) Или огромный котел. (День.) И совершенно круглое. Чудовищное блюдце. Плоское, Борис! Огромная плоскодонная люлька, ежеминутно вываливающая ребенка (корабли). Его нельзя погладить (мокрое). На него нельзя молиться (страшное. Так, Иегову напр<имер> бы ненавидела. Как всякую власть). Море – диктатура, Борис! Гора – божество. Гора разная. Гора умаляется до Мура (умиляясь им!). Гора дорастает до гётевского лба и, чтобы не смущать, превышает его. Гора с ручьями, с норами, с играми. Гора – это прежде всего мои ноги, Борис. Моя точная стоимость. Гора – и большое тире, Борис, которое заполни глубоким вздохом.
И все-таки – не раскаиваюсь. «Приедается все – лишь тебе не дано…» С этим, за этим ехала. И что же? То, с чем ехала и за чем: ТВОЙ СТИХ, т. е. преображение вещи. Дура я, что я надеялась увидеть воочию твое море – заочное, над’очное, вне-очное. «Прощай, свободная стихия» (мои 10 лет) и «Приедается все» (мои тридцать) – вот мое море.
Борис, я не слепой: вижу, слышу, чую, вдыхаю всё, что полагается, но – мне этого мало. Главного не сказала: море смеет любить только рыбак или моряк. Только моряк и рыбак знают, что это. Моя любовь была бы превышением прав («поэт» здесь ничего не значит, самая жалкая из отговорок. Здесь – чистоганом.)
Ущемленная гордость, Борис. На горе я не хуже горца, на море я – даже не пассажир! ДАЧНИК. Дачник, любящий океан… Плюнуть!
Рильке не пишу. Слишком большое терзание. Бесплодное. Меня сбивает с толку, выбивает из стихов, – вставший Nibelungenhort[42] – легко справиться?! Ему – не нужно. Мне – больно. Я не меньше его (в будущем), но – я моложе его. На много жизней. Глубина наклона – мерило высоты. Он глубоко наклонился ко мне – м.б. глубже, чем … (неважно!) – что я почувствовала? ЕГО РОСТ. Я его и раньше знала, теперь знаю его на себе. Я ему писала: я не буду себя уменьшать, это Вас не сделает выше (меня не сделает ниже!), это Вас сделает только еще одиноче, ибо на острове, где мы родились – ВСЕ – КАК МЫ.
- Durch alle Welten, durch alle Gegenden
- an allen Weg’enden
- Das ewige Paar der sich-Nie-Begegnenden[43].
Само пришло, двустишием, как приходит все. Итог какого-то вздоха, к которому никогда не прирастет предпосылка.
Для моей Германии нужен был весь Рильке. Как обычно, начинаю с отказа.
О Борис, Борис, залечи, залижи рану. Расскажи, почему. Докажи, что все так. Не залижи, – ВЫЖГИ рану! «Вкусих мало меду» – помнишь? Что – мед!
Люблю тебя. Ярмарка, ослиные таратайки, Рильке – все, все в тебя, в твою огромную реку (не хочу – море!). Я так скучаю по тебе, точно видела тебя только вчера.
М.
St. Gilles, 25 мая 1926 г., вторник
Борис, ты меня не понял. Я так люблю твое имя, что для меня не написать его лишний раз, сопровождая письмо Рильке, было настоящим лишением, отказом. То же, что не окликнуть еще раз из окна, когда уходит (и с уходящим, на последующие десять минут, всё. Комната, где даже тебя нет. Одна тоска расселась).
Борис, я сделала это сознательно. Не ослабить удара радости от Рильке. Не раздробить его на два. Не смешать двух вод. Не превратить ТВОЕГО СОБЫТИЯ в собственный случай[44]. Не быть ниже себя. Суметь не быть.
(Я бы Орфею сумела внушить: не оглядывайся! Оборот Орфея – дело рук Эвридики. («Рук» – через весь корридор Аида!) Оборот Орфея – либо слепость ее любви, невладение ею (Скорей! скорей!) – либо – о, Борис, это страшно – помнишь 1923 год, март, гору, строки:
- Не надо Орфею сходить к Эвридике
- И братьям тревожить сестер —
Либо приказ обернуться – и потерять. Все, что в ней еще любило – последняя память, тень тела, какой-то мысок сердца, еще не тронутый ядом бессмертья, помнишь?
- – – … С бессмертья змеиным укусом
- Кончается женская страсть!
все, что еще отзывалось в ней на ее женское имя – шло за ним, она не могла не идти, хотя, может быть, уже не хотела идти. (Так, преображенно и возвышенно, мне видится расставание Аси с Белым – не смейся – не бойся.))
В Эвридике и Орфее перекличка Маруси с Молодцем – не смейся опять! – сейчас времени нет додумать, но раз сразу пришло – верно. Ах, м.б. просто продленное «не бойся» – мой ответ на Эвридику и Орфея. Ах, ясно: Орфей за ней пришел – ЖИТЬ, тот за моей – не жить. Оттого она (я) так рванулась. Будь я Эвридикой, мне было бы… стыдно – назад!
О Рильке. Я тебе о нем уже писала. (Ему не пишу.) У меня сейчас покой полной утраты – божественного ее лика – ОТКАЗА. Пришло само. Я вдруг поняла. А чтобы закончить с моим отсутствием в письме (я так и хотела: явно, действенно отсутствовать) – Борис, простая вежливость не совсем или совсем не простых вещей. – Вот. —
Твой чудесный олень с лейтмотивом «естественный». Я слышу это слово курсивом, живой укоризной всем, кто не. Когда олень рвет листья рогами – это естественно (ветвь – рог – сочтутся). А когда вы с электрическими пилами – нет. Лес – мой. Лист – мой. (Так я читала?) И зеленый лиственный костер над всем. Так? —
Борис, когда мне было шесть лет, я читала книжку (старинную, переводную) «Царевна в зелени». Не я – мать читала вслух. Там два мальчика убежали из дому (один: Клод Бижар – Claude Bigeard – Бижар – сбежал – странно?), один отстал, другой остался. Оба искали царевну в зелени. Никто не нашел. Только последнему вдруг неожиданно хорошо стало. И какой-то фермер. Вот все, что я помню. Когда мать проставила голосом последнюю точку – и – паузой – конечное тирэ, она спросила: «Ну, дети, кто же была эта царевна в зелени?» Брат (Андрей) сразу ответил: «Почем я знаю», Ася, заминая, начала ластиться, а я только покраснела. И мать, зная меня и эти вспышки: – «Ну, а ты как думаешь?» – «Это была… это была… НАТУРА!» – «Натура? Ах ты! – Умница». (Правда, ответ запоздал на век? 1800 г. – Руссо.) Мать меня поцеловала и обещала мне, вне всякой педагогики, в награду (спохватившись, скороговоркой) «за то, что хорошо слушала»… книжку. И подарила. Но гнуснейшую: Mariens Tagebuch и, что еще хуже: Машин дневник, противоестественный, п.ч. Маша – и тетя Гильдеберта, и праздник «Трех Королей» (Dreiknigsfest) и пр. Противоестественный потому еще, что мир непреложно делился на богатых девочек и бедных мальчиков, и богатые девочки этих бедных мальчиков, сняв с себя (!), одевали (в юбки, что ли?). Аля эту книгу читала и утверждает, что там тоже был мальчик, который сбежал в лес (п.ч. его бил сапожник), но вернулся. Словом: НАТУРА (как – часто) повлекла за собой противоестественность. Эту ли горькую расплату за свою природу имела в виду мать, даря? Не знаю.
Борис, я только что с моря и поняла одно. Я постоянно, с тех пор как впервые не полюбила [45], порываюсь любить его, в надежде, что может быть выросла, изменилась, ну прото: а вдруг понравится? Точь-в-точь как с любовью. Тождественно. И каждый раз: нет, не мое, не могу. То же страстное выгрыванье (о, не заигрыванье! никогда), гибкость до предела, попытка проникнуть через слово (слово ведь больше вещь, чем вещь: оно само – вещь, которая есть только – знак. Назвать – овеществить, а не развоплотить) – и – отпор.
И то же неожиданное блаженство, которое забываешь, как только вышел (из воды, из любви) – невосстановимое, нечислящееся. На берегу я записала в книжку, чтобы тебе сказать: Есть вещи, от которых я в постоянном состоянии отречения: МОРЕ, ЛЮБОВЬ. А знаешь, Борис, когда я сейчас ходила по плажу, волна явно подлизывалась. Океан, как монарх, как алмаз: слышит только того, кто его НЕ поет. А горы – благодарны (божественны).
Дошла ли наконец моя? (Поэма Горы.) Крысолова, по возможности, читай вслух, полувслух, движением губ. Особенно «Увод». Нет, всё, всё. Он, как «Молодец», писан с голосу.
Мои письма не намеренны, но и тебе и мне нужно жить и писать. Просто – перевожу стрелку. Ту вещь о тебе и мне почти кончила. (Видишь, не расстаюсь с тобой!) Впечатление: от чего-то драгоценного, но – осколки. До чего слово открывает вещь! Думаю о некоторых строках. – До страсти хотела бы написать Эвридику: ждущую, идущую, удаляющуюся. Через глаза или дыхание? Не знаю. Если бы ты знал, как я вижу Аид! Я, очевидно, на еще очень низкой ступени бессмертия.
<На полях:>
Борис, я знаю, почему ты не идешь за моими вещами к Н<адежде> А<лександровне>. От какой-то тоски, от самообороны, как бежишь письма, которое требует всего тебя. Кончится тем, что все пропадет, все мои Гёт’ы. Не перепоручить (не перепоручишь) ли Асе? Жду Шмидта.
М.Ц.
Я не слишком часто пишу? Мне постоянно хочется говорить с тобою.
26 мая 1926 г., среда
Здравствуй, Борис! Шесть утра, все веет и дует. Я только что бежала по аллейке к колодцу (две разные радости: пустое ведро, полное ведро) и всем телом, встречающим ветер, здоровалась с тобой. У крыльца (уже с полным) вторые скобки: все еще спали – я остановилась, подняв голову навстречу тебе. Так я живу с тобой, утра и ночи, вставая в тебе, ложась в тебе.
Да, ты не знаешь, у меня есть стихи к тебе, в самый разгар Горы (Поэма конца – одно. Только Гора раньше и – мужской лик, с первого горяча, сразу высшую ноту, а Поэма конца – уже разразившееся женское горе, грянувшие слезы, я, когда ложусь, – не я, когда встаю! Поэма горы – гора, с другой горы увиденная, Поэма конца – гора на мне, я под ней). Да, и клином врезавшиеся стихи к тебе, недоконченные, несколько, взывание к тебе во мне, к мне во мне.
Отрывок:
- …В перестрелку – скиф,
- В христопляску – хлыст,
- – Море! – небом в тебя отваживаюсь.
- Как на каждый стих —
- Что на тайный свист
- Останавливаюсь,
- Настораживаюсь.
- В каждой строчке: стой!
- В каждой точке – клад.
- – Око! – светом в тебе расслаиваюсь,
- Расхожусь. Тоской
- На гитарный лад
- Перестраиваюсь,
- Перекраиваюсь…
Отрывок. Всего стиха не присылаю из-за двух незаткнутых дыр. Захоти – и стих будет кончен, и этот, и другие. Да, есть ли у тебя три стиха: ДВОЕ, посланные мною тебе летом 1924 г., два года назад, из Чехии? (Елена: Ахиллес / – Разрозненная пара, – Так разминовываемся – мы, Знаю – один / Ты – равносущ / Мне.) Не забудь ответить. Тогда пришлю.
Борис, у Рильке взрослая дочь, замужем где-то в Саксонии, и внучка Христина, двух лет. Был женат, почти мальчиком, два года – в Чехии – расплелось. Борис, последующее – гнусность (моя): мои стихи читает с трудом, хотя еще десять лет назад читал без словаря ГОНЧАРОВА. (И Аля, которой я это сказала, тотчас же: «Я знаю, знаю, утро Обломова, там еще сломанная галерея».) Гончаров – таинственно, а? Тут-то я и почувствовала. Когда Tzarenkreis – из тьмы времен – прекрасно, когда Обломов – уже гораздо хуже. Преображенный – Рильке (родит<ельный> падеж, если хочешь? Рильке’м) Обломов. Какая растрата! В этом я на секунду увидела его иностранцем, т. е. себя русской, а его немцем. Унизительно. Есть мир каких-то твердых (и низких, твердых в своей низости) ценностей, о котором ему, Рильке, не должно знать ни на каком языке. Гончаров (против к<оторо>го, житейски, в смысле истории русской литер<атуры> такой-то четверти века ничего не имею) на устах Рильке слишком теряет. Нужно быть милосерднее.
(Ни о дочери, ни о внучке, ни о Гончарове – никому. Двойная ревность. Достаточно одной.)
Что еще, Борис? Листок кончается, день начался. Я только что с рынка. Сегодня в поселке праздник – первые сардины! Не сардинки, потому что не в коробках, а в сетках.
А знаешь, Борис, к морю меня уже начинает тянуть, из какого-то дурного любопытства – убедиться в собственной несостоятельности.
Обнимаю твою голову – мне кажется, что она такая большая – по тому, что в ней – что я обнимаю целую гору, – Урал. «Уральские камни» – опять звук из детства. (Мать с отцом уехали на Урал за мрамором для Музея. Гувернантка говорит, что ночью крысы ей отъели ноги. Таруса. Хлысты. Пять лет.) Уральские камни (ДЕБРИ) и Хрусталь графа Гарраха (Кузнецкий) – вот все мое детство. На его – в тяжеловесах и в хрусталях.
Где будешь летом? Поправился ли Асеев? Не болей.
Ну, что еще?
– ВСЁ! —
М.
<На полях:>
Замечаешь, что я тебе дарю себя ВРАЗДРОБЬ?
Письмо 57
<май 1926 г.>
Цветаева – Пастернаку
Б.
Море я полюблю, когда начну его писать, займусь им, вникну в него.
Ты в слово современный вкладываешь всё, что я во вневременный.
Ты более чем кто-либо оговорочен.
У меня мое море, наше с тобой.
Письмо 58
5 июня 1926 г.
Пастернак – Цветаевой
Горячо благодарю тебя за всё. – Вычеркни меня на время, недели на две, и не больше чем на месяц, из сознанья. Прошу вот зачем. У меня сейчас сумбурные дни, полные забот и житейщины. А мне больше и серьезнее, чем даже в последнее время, надо поговорить с тобой. Поводы к этому разбросаны в твоих последних письмах. Этого нельзя сделать сейчас. Я между прочим до сих пор не поблагодарил Рильке за его благословенье. Но и это, как и работу над Шмидтом, как и чтенье тебя (настоящее), и разговор с тобой, придется отложить. Может быть я ошибаюсь в сроке, и все это станет возможно гораздо скорее. – У меня сейчас нет своего угла, где бы я мог побыть с твоей большой карточкой, как это было с маленькою, когда я занимался в комнате брата с невесткой (оба на полдня уходили на службу). И я о ней пока не хочу говорить, по малости того, что я бы сейчас сказал, в сравненья с тем, что скажу. У меня на руках в теченье дня были «Поэма Горы» и «Крысолов». Я охотно отдал их на прочтенье Асе по той же причине непринадлежности себе. Я их прочел по одному разу. При этом недопустимом и невозможном, в твоем случае, чтении, мне показалось, что несколько новых, особенных по поэтическому значению, магических мест есть в «Крысолове», удивительно построенном и скомпанованном. Эти места таковы, что, возвратившись к ним, я должен буду призадуматься над определеньем неуловимой их новизны, новизны родовой, для которой слова на языке м.б. не будет и придется искать. Но пока считай, что я тебе ничего не сказал. Больше чем когда-либо я именно в этот раз хочу быть перед тобою зрелым и точным. Асе больше понравилась (и больше «Поэмы Конца») – Поэма Горы. По первому чтенью я отдаю предпочтенье «Крысолову» и во всяком случае той стороне в нем, о которой пока еще ничего не сказал – Эренбург пришел ко мне, пробыв тут вне досягаемости неделю. Он еще не все мне передал. Из оттисков только «Гору» и «Крысолова» в 1-м экземпляре. На квартире, где он остановился, его никогда не застать. – Лучше всего с фуфайкой и с кожаной тетрадью для стихов. Обе положил, первую в ожидании зимы, вторую – в ожиданьи (безнадежном) какой-нибудь неслыханной мысли, – без горечи и боли, которая вызывается во мне взглядами других подарков, устремленными в мою теперешнюю пустоту. Деньги, до полученья, мечтал отдать Асе. Но они пришли в очень критическую минуту, и мне, пока что, от этой мечты приходится отказаться. Положенье, на первый взгляд, такое. Человек бушевал и обновлялся при виде маленькой карточки и вот получил большую. Человек обезумел от некоторых мест поэмы и вот получил две. На него пролился золотой дождь, и с его каплями в волосах он адресуется к источнику: погоди, мол, я завтра поблагодарю тебя. Как бы ни было велико у тебя искушенье увидать это в таком роде, как бы ни было велико правдоподобье образа, гони этот призрак, ничем не похожий на истину. Лучше всего было бы в точности исполнить просьбу: забыть меня на месяц. Ради Бога, не взрывайся. Впрочем, я готов допустить и крайность с твоей стороны. Я так в своих надеждах тверд, что готов все начать сызнова. – Была у меня мысль послать тебе в этот промежуток написанную половину Шмидта, «Поверх барьеров» и еще всякой дребедени с условьем, чтобы ты мне об этом ни слова не писала, пока я не возобновлю человеческого разговора с тобой. Но Шмидта не хочу окружать оговорками и вообще не пошлю, пока не будет кончен. С тем падает и весь план. Опять были частные совпаденья: блюдце (о море), множество выражений, рифм и пр. в поэмах.
Очень хочется все поскорее устроить с семьей, остаться одному и опять приняться за работу. Разгон, верно, упущен, но что делать. Боюсь лета в городе – духоты, пыли, бессонницы, накатов чужого, но заразительного скотства; идеи ада (бесформенного страданья). Если же воспользоваться одним из сотни приглашений, боюсь захлебнуться благодатностью новых впечатлений, освеженья, которое скажется никак не сейчас, а обязательно через годы. Боюсь влюбиться, боюсь свободы. Сейчас мне нельзя. То, что в руках у меня, не так держу, чтобы отложить в сторону. За год ухвачусь ловчее, т. е. – метафоры неуместны – прикован пока к данному подоконнику и к верстаку чудовищностью расходов и невыравнявшимся заработком. Весной был выпад категоризма. Я рванулся было вон из круга вынужденного приниженья Жени, тебя, себя самого и (какой глупый порядок) всего мира. Удручает кажущийся возврат к сеянью обид и обиженности. Я говорю о нравственной неуловимости, которою пересыпан обиход в том случае, когда единственное чистое и безусловное его место составляет работа.
Тебе кажется, что это пусть горько, но нормально. Мне нет.
7 июня 1926 г.
Совпаденья словаря и манеры таковы, что предположенное все-таки вышлю, чтобы не казалось, что Шмидта и Барьеры написал под влияньем Крысолова. О Барьерах. Не приходи в унынье. Со страницы, примерно, 58-й станут попадаться вещи поотраднее. Всего хуже середина книги. Начало: серость, север, город, проза, предчувствуемые предпосылки революции (глухо бунтующее предназначенье, взрывающееся каждым движеньем труда, бессознательно мятежничающее в работе, как в пантомиме) – начало, говорю я, еще м.б. терпимо. Непозволительное обращенье со словом. Потребуется перемещенье ударенья ради рифмы – пожалуйста: к услугам этой вольности областные отклоненья или приближенье иностранных слов к первоисточникам. Смешенье стилей. Фиакры вместо извозчиков и малорусские жмени, оттого что Надя Синякова, кот<орой> это посвящено, – из Харькова и так говорит. Куча всякого сору. Страшная техническая беспомощность при внутреннем напряжении, м.б. большем, чем в следующих книгах. Есть много людей, ошибочно считающих эту книжку моею лучшею. Это дичь и ересь, отчасти того же порядка, что и ошибки твоей творческой философии, проскользнувшие в последних письмах. Прости за смелость, – я это кругом обошел и знаю.
<На полях:>
Опечаток больше, чем стихов, потому что жил тогда (в 16 г.) на Урале. Постарался Бобров. Типический грех горячо преданного человека. Т. е. правил и выпускал он.
О Шмидте два слова. Нетерпеж послать (только послать, на почту снесть). Между 7й и 8й цифрой пропуск. Будет письмо к сестре (совсем другой человек пишет, нежели авт<ор> писем к «предмету»). Очень важная вставка. Почти готово, – но дошлю со 2-ой частью, где только и начинается драма. (Превращенье человека в героя в деле, в кот<орое> он не верит, надлом и гибель.) Будь ангелом, сделай милость, не пиши о вещах, пока я подробно в Крысолове не отчитаюсь. Будь другом, все равно, понравится ли, нет ли, пока молчи. Зачем остальная дребедень, объяснил уже раньше.
Ася называет его Сережей, и я подружился с этим именем. Все им очарованы, кто знает, и говорят одно хорошее. Мне кажется, что я его за что-то люблю, п.ч. мне как-то от него больно. Нет, просто люблю его и по-мужски, чудесно, уважаю.
Мне позвонили из «Комсомольской правды» (неслыханный случай) с просьбой разрешить напечатать «Мне 14 лет» (выбор, для комсомола!). Когда напечатают, будет возможность, если захочешь, со ссылкой на № комсомола в Верстах! Ты меня ненавидишь, я это чувствую.
Письмо 59
6 июня 1926 г.
Цветаева – Пастернаку
<О поэме «Попытка комнаты»:>
Я хотела дать любовь в пустоте: всё в ничто. Чувств<ую>, что любовь не получ<илась>, п.ч. есть вещи больше. Они – получились. Кроме того, у меня к тебе (с тобой) странная робость, скудость. Не затрагиваю. Точнее: не дотрагиваюсь. Ты ТО, что я люблю, не ТОТ, кого люблю.
Письмо 60
<нач. июня 1926 г.>
Цветаева – Пастернаку
<Среди поправок к поэме «Попытка комнаты»:>
Борис, как я бы хотела тебе показать свои чернов<ики>. Тебе – тебе – тебе одному, никому больше. Тебе, не соглядатаю, а содеятелю, сопреступнику. Для одного 4-стишия столько столбцов и смыслов. <Над строкой: для одной рифмы сколько> Это крайняя заумная изощряемость мысли, изощряемость, доводящая нас до тупика и бросающая на постель. Ум за разум!
Письмо 61
10 июня 1926 г.
Пастернак – Цветаевой
Тех писем не нагнать и не задержать в дороге. Впрочем, завтра попробую послать воздушной. – Ничего в них нет страшного или дурного. Но ими говорит то угнетенье, в котором я находился, пока не увидал второго письма Рильке к тебе. Теперь я люблю всё (тебя, его и свою любовь) так же бесконечно, как, в последний раз, 18-го мая (день твоей молчаливой пересылки). Знаешь, что меня тяготило последнее время? В твоих словах о нем мне стали мерещиться границы – тезисы об одиночестве и творчестве, вещи известные мне, как и тебе, не меньше; но, как это бывает со всем краеугольным, когда я его признаю и с ним соприкасаюсь, известные мне небрежнее, мимоходнее, обязательно в какой-нибудь частности, известные мне легче и живее, чем в твоей бесспорной формулировке. Ты же выражала их почти как ложь. Я боялся, что ты любишь его недостаточно. Мне трудно все это рассказать тебе с начала, с того предвосхищенья, которым была внушена вся весна, и поездка к тебе, и письмо к нему, и чутье всего, что должно было последовать: потянуть, полететь на нас из будущего. Я прекрасно понял (и это есть у меня в неотосланном письме) породистость и душевный такт твоей сдержанности при пересылке. Но именно то, что этому прирожденному движенью было оказано предпочтенье перед случайностью промаха (не промолчать, оказаться не золотой, а неизвестного состава), меня и огорчило. Уже этот конверт бесконечность затуманивал, если не упразднял. Моей, предвидевшейся мне (бесконечности) на наш счет, я в красоте твоей сдержанности не узнал. Марина, тебе не придется негодовать и удивляться: я сам дальше се это объясню, дай только договорить мне, это я не обвиняю, а оправдываюсь. И все, что ты потом ни писала, увеличивало несходство. Теперь все ясно. Я позволял своему чувству жить допущеньем, что мы светопрозрачны друг для друга, т. е. что мое письмо к нему прошло через тебя и что мои домыслы о вашем знакомстве равносильны невиденным фактам. Твои же слова о нем, т. е. та сторона их, которая была производной и шла в ответ на мою путаницу <подчеркнуто дважды> и беспокойство, не только не успокаивали, а их усугубляли. Я сказал уже. Двумя химерами отдавали эти ответы (моя вина). Мне представилось, что у тебя есть границы, которые я могу увидеть (представляешь точность горя!). Я пришел к мысли, что ты его не любишь, как надо и можно, как я (представляешь и это!!). А ты еще подливала масла в огонь: Гончаров, Marine и пр. Теперь эти химеры рассеяны, не тобою, п.ч. даже в твоем последнем письме (лавр оценен и съеден) – ты продолжаешь бить меня по тому же больному месту: тычешь границами (выдуманными) его якобы и своего чувства к нему, а вместе с тем, в этой части и неизбежно, при всей моей reconnaissance[46] к тебе («Благонамеренный», Цветаева), – и призраком своих собственных.
Химеры рассеяны его изумительным вторым письмом к тебе. По этому ответу легко заключить о твоих к нему. Вот чего мне все время недоставало, и удивительно, как ты этого не поняла. Вместо того, чтобы переписывать его строчку о силе моего письма, ты должна была именно хоть строчку (т. е. знак только какой-нибудь) дать из его письма о твоей силе, из его письма о его силе с тобою. Тогда бы время не перекосилось так, как это случилось. Правда, однажды ты наконец догадалась сказать мне, как это велико у тебя и как велика отдача, и этого было бы за глаза довольно с меня, когда бы в том же письме ты не рассердилась на что-то и не затемнила сказанного первым приступом межевых страстей. Теперь все однородно, уподоблено, поднято на исходную высоту, вольно порознь и благодатно в целом. Больше сноситься об этом не надо 2[47]. Горячо верю, что если ты уже успела провиниться перед той стороной (а как мне этого не бояться при твоих письмах со схемами), то задолго до этих рассуждений (воображаю, как они тебе отвратительны) все восстановлено тобою же. Ужасно страдаю, что не могу написать ему сейчас, что не пора. Я уже говорил тебе, что у меня сумбур, пыль и моль летает, и деньги доставать, и своих отправлять за границу. Крысолова перечел и хочу сегодня же написать тебе о нем. Если это примут воздушною, то придет через дня три-четыре вслед за этим. Нам надо любить друг друга по твоим правилам («Благодарность»). И я не ошибся в тебе <подчеркнуто дважды>. Но я так верю каждому твоему слову, что когда ты принялась умалять или оледенять его, я принял это за чистую монету и пришел в отчаянье, в котором бы и остался, если бы не его письмо к тебе (от 10/V). Оно тебя мне вернуло.
Эта радость пришла вчера. Перед этим ты мне снилась два раза подряд. Ночью (я лег в 5-м часу утра) и днем (досыпался в сумерки). Смутно помню только ночной сон. Ты сюда приехала. Я тебя водил к твоим младшим сестрам (которых нет) в несколько домов, каждый из которых ты признавала домом своего детства, они выбегали в том возрасте, в котором ты их покинула, и так, в этом повторно колеблющемся шуме сменяющихся варьянтов какой-то очень глубокой темы (обладал ею я, и ты была девочкой перед моей душевной сединой), колтыхаясь, с горки на горку, из-под полка под полок, проволоклась перед нами летняя, сутолочная, неподвижно горящая Москва.
Крепко тебя обнимаю. Прощай мне всё.
Письмо 62
12 июня 1926 г.
Цветаева – Пастернаку
Борис, я боюсь твоего следующего письма. Мне нужно с Вами поговорить – я этого боюсь пуще <пропуск одного слова>. Раз ты недоволен, я виновата – в чем? И подтасовка вин. Не внушай мне виновность, слишком легко, не становись в нескончаемый ряд моих обвинителей, когда все и вся обвиняют, только один ответ: Не виновата. Никогда. Ни в чем. Если я виновата – виноват Бог. Не внушай мне – моей еще раз виновностью – правоты. Не забрасывай мою голову назад, не ставь меня одну против всех и тебя. Я не виновата, что я такая родилась. Моя жизнь – по нотам. Ноты – на белом небесном листе.
Знаю, о чем еще, кроме вины: о вине будущей. Оставь это. Рассчитывай только на непредвиден<ность>, никаких замыслов и путей к осуществлению тебя в моей жизни, себя в твоей у меня нет. Год бы думала – не придумала. Не предрешай. Я не хочу тебя бояться. Судьба не предупреждает. Не предупреждай и ты.
<Приписка между абзацами:> Увидим в какую сторону.
Если ты решил все миром и ладом – тоска. Если ты решил – огнем и мечом – тоска. Не решай за жизнь, вспомни свои слова о деревьях. Не вмешивайся. Есть тысячу <так!> непредвиден<ностей>, которые ты (я) опускаем. Вспомни свою волну (на бок). Не я волна. Не ты.
Не иди ко мне с готовым <оборвано>
Ненавижу жизнь <оборвано>
Я боюсь тебе писать – а много нужно сказать – и о Рильке, и еще. Вот его новый адрес: <не вписан>. Ты просишь забыть на месяц, а сам забудешь через час <вариант: два> (уже забыл <вариант: что просил>). Забыть в дне, не ждать писем, не писать, не мешать. Помни, что ты сам меня просил об этом.
«Боюсь свободы, боюсь влюбиться». Это мне напомнило один долгий, до-весенний, совместный островитянский день на траве, на груди. И, на обратном пути, спутник, задумчиво. – «Как мне бы хотелось – вокруг света! Но конечно не одному. Как бы мне хотелось – влюбиться!» – И я, матерински: «Влюбитесь! Сбудется!» Борис, только что – ближе нельзя, глубже нельзя, рот и сердце, полные мной и – «влюбиться!».
Вы не похожи с тем человеком, но сказали мне одинаков<о>, т. е. ясно и явно: ты не в счет.
От этого твоего возгласа мне стало… старше и спокойнее. И еще – глаза раскрылись! У тебя была волна ко мне, меня, препятств<ия>, – не было, разобьешься о любое (влюбленность). И еще: мы не хотим любить новое (и старого дост<аточно>), мы хотим целовать новое. —
Картина простая: дом, родство, вечная ценность – я (где-то – когда-то), милая сердцу прохлада – и: новый рот <над строкой: текущий счет <творчества?>>. Ты непосредственнее меня, у меня бы такая вещь не сорвалась, уже потому, что в другого – вонзается.
Одному рада: тяж<есть> заминк<и> с Рильке этой твоей «влюбленностью» снята. Совсем.
Мне не больно. Мне взросло и ясно.
Мне очень жаль тебя за твою трудную жизнь. Это у нас с тобой [всегда] останется: союзничество сочувствия <оборвано>
Вот тебе письмо Мирского, в котором, надеюсь, растворится мое. (Не я в Мирском – [то, о чем я] – в том, о чем он.)
<На полях:>
Дошли ли письма Рильке? Остальные дошлю, когда у тебя будет время.
Письмо 63
<сер. июня 1926 г.>
Цветаева – Пастернаку
Ты не дум<аешь> о том, что мы с тобой клеймленые какие-то? И – перескоком – сколько сглазу! Нас с тобой обглядят (как обгложут). О, как я ненавижу глаза, регистрацию их. Я почему-то сейчас увид<ела> нас с тобой – в июле – вниз по Пречистенскому бульвару. Ты с тем раскланиваешься, я с тем, и еще, и еще… Борис, никогда я еще ни одной встрече так не ужасалась, как нашей: я не вижу места свершения ее. Твоя мысль была гениальна: Рильке. У меня есть виды его жилища: Muzot, замок XIII века, одинокое зданье, в горах.
Сначала я безумно любила твои стихи, потом – свои стихи к тебе – потом свои возвраты к тебе (ТЫ – близ<ко>), а сейчас, кажется, просто тебя.
Письмо 64
<ок. 13 июня 1926 г.>
Пастернак – Цетаевой
Мой друг.
Я прочел еще раз Крысолова, и у меня уже написано полписьма об этой удивительной вещи. Ты увидишь и не пожалеешь. Я не могу дописать его сейчас. Я все расскажу тебе потом. В разговоре о Крысолове будут ссылки и на свое: недавнее, нехорошее (Высокая Болезнь) – (не люблю) – (прилагаю); и на одно давнее, подлинное, нигде не напечатанное (перепишу и вышлю, при той первой возможности, кот<орая> будет и возможностью продолженья письма). Ни о чем высланном уже и высылаемом (ни даже о Барьерах) ничего не говори, пока не получишь «Чужой Судьбы» (рукоп<ись> 1910 г.) и письма о Крысолове. Тогда и спрошу обо всем в целом, т. е. посоветуюсь с тобой, как быть, и поправимо ли десятилетье. Да, еще посылаю вставку под 8ю цифру в Шмидта, письмо к сестре. На все посланное смотри как на судебный матерьял. Исподволь посылаю, чтобы под руками был, когда заговорим. В письме о Крысолове будет не о вещи только, о многом еще, много личного, – словом, обо всем, вызванном вещью. Поэмы Горы не перечитывал. Вот отчего о ней речи пока нет. Всеми помыслами люблю тебя и крепко обнимаю. Не верю в свой год до тебя. Что под встречей с тобой понимаю, если это требует еще разъясненья, тоже в Крысолововом письме.
Письмо 65
14 июня 1926 г.