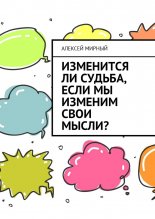Чрез лихолетие эпохи… Письма 1922–1936 годов Пастернак Борис
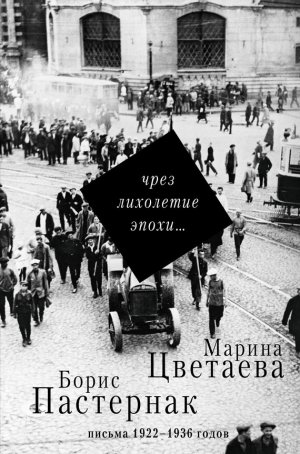
Письмо 172
31 декабря <1929 г.>
Цветаева – Пастернаку
Телеграмма
SANTE COURAGE FRANCE MARINA[158]
Письмо 173
7 января 1930 г.
Эфрон – Пастернаку
Мой адр<ес>: Chteau d’Arcine
St. Pierre de Rumilly
H<aute> Savoie
Милый, милый Борис Леонидович,
– Пишу Вам в дни русских праздников. Знаю о Вас от М. Дай Вам Бог в наступившем тридцатом исполнения Вашего основного желания.
А я сейчас далеко от М. – в горах. Сюда выслали меня врачи. Живу так, как, кажется, никогда не жил. И чувствую себя обжорой – берущим и ничего не дающим взамен (вот Вас бы сюда!). Надеюсь к лету перетянуть и М. сюда.
Продолжаете ли свою «Повесть»? Читали ли, что написал о Вас Мирский? А я написал о Вас во французском журнале, в самом неожиданном, и Вами открылся в нем русский отдел. Когда увидимся – покажу.
Братски обнимаю Вас.
Ваш С.Э.
Письмо 174
19 января 1930 г.
Пастернак – Цветаевой
Я еще не поблагодарил тебя за телеграмму, а от тебя третье письмо, и это мне не дает покою. Ты еще летом окольно и издалека говорила об оказии. Но только из рождественского твоего письма в первый раз узнал, кто это. Я три раза ходил к В<ере> А<лександровне> и не заставал ее дома. Вчера мне посчастливилось прийти ко времени их обеда. Я получил шарф и ридикюль для Аси, ужасно тебя благодарю. Но ходил я не за этим, а главным образом за твоей статьей о Рильке и за другой, о Гончаровой. Представь, она их и не повезла. Это было для меня большим разочарованьем. Я затем и задерживал ответ тебе, чтобы написать по прочтении статей, и о них, первым делом. На нее нельзя сердиться. Но оловина установлений, имеющих силу в любом государстве в какое угодно время, исходит от передового населенья, от того, как себя люди ведут. И в тех случаях, когда я сознаю совершенную чистоту и невинность того, что я делаю, мне и в голову не может прийти, каким ложным истолкованьям может подвергнуться или даже принято подвергать эти вещи. Чем верить в какую-то атмосферическую неврастению, я лучше ошибусь, веря в широкое здоровье воздуха, которым я дышу. По той же причине, по которой В.А. не привезла статей, она не ответила на письма С.Я. и Д<митрия> П<етровича>, и не ответит.
А я всегда с ужасной тягостью подчиняюсь вынужденной «конспирации», испрошенной со стороны, т. е. недописыванью инициалов и прочей ерунде этого порядка. И это всегда бывает, когда приходится говорить о других, о милых, робких, суеверных и пр. людях. От В.А. же узнал впервые о серьезном желаньи Святополка приехать сюда (Прокофьев говорил об одном Сувчинском). Однако В.А. не верит, чтобы он получил разрешенье. А это изменило бы всю мою жизнь.
Как ты замечательно пишешь! И всего больше тебя и жизни, т. е. музыки земного притяженья в твоих спокойных описаньях. Над будками и дворовым выкачиваньем в эпических скобках поднялось французское Рождество, и я его провел с тобою не в силу какого-нибудь своего влеченья, а силой чуда производимого тобою привычно-размеренно, поденно и затрапезно, без восклицательных знаков, за которыми никогда не бывает никаких чудес.
Вчера я получил от С.Я. письмо и сегодня ему отвечу. Я ужасно ему обрадовался. Я мысленно уже писал тебе, и вот о чем, когда его получил. Я хотел у тебя попросить прощенья, что долго не отвечал, зная в особенности, что ты одна, и что это, по моему собственному опыту, может значить. И тут я делал сближенья с тем засореньем нервов, которого я никогда не ведал в моем до-семейном одиночестве, веселом и огромном, и которым я заболеваю всякий раз в квартире, признавшей фактом меня и моих, и меня – благодаря последним. Разреши не вдаваться в тонкости: ты либо знаешь это, либо от этого счастливо избавлена. Далее я жалел, что мало знаю С.Я., потому что только о нем бы и писал тебе все это время, и ты бы радовалась. Его страшно любят люди, имеющие касательство до тебя и меня. Назову, чтобы кого-нибудь вспомнить, Асю и Антокольского. В их рассказах по посещеньи тебя он участвовал в превосходной даже, против тебя, доле. И то, что я люблю его – не фраза, не желанье какой-то сердечной позы, не лирическое намеренье: все это было бы для него обидно, и я бы это спрятал, не показав. Он замечательный человек, мне это известно. Нутро же его – это я сам в некоторой высокой степени, забрасывающей в области, куда я не попал (п.ч. часто там, где он возводил себя в степень, я извлекал корень). Последнее, впрочем, вздор, инерция разбежавшейся фразы, и я бы должен был это зачеркнуть; но в данном месте тебя бы заинтересовало, что именно зачеркнуто. Вот почему это схематическое закругленье (как я их ненавижу, а вот и сам не свободен иногда!) оставляю. Кроме того, я хотел тебе признаться, что твоя цитация дачи и общего крова резанула меня, представив (против твоей воли) большим пошляком, чем я мог себя считать. – И тут пришло его письмо. —
А у В.А. я застал служащего Нац<иональной> библ<иотеки> в Париже, очень милого человека, наговорившего мне кучу приятностей. Он отправляется с С<мышляевы>ми в Ростов, на Кен-озеро и на Ледов<итый> океан. Я плохо говорю по-фр<анцузски> и еще более того смущаюсь. Они вернулись с обхода букинистов и, жуя, запивая вином и пр., раскладывали покупки, хвастая сходностью купленного. Я увидал старый «Петербург» Белого, твою Вишняковскую «Разлуку», несколько сборников народн<ых> песен; – но меня тотчас отвлекли, – были еще гости, и я только успел сказать ему, чтобы он достал твои Версты и не верил твоему мненью о них, – что ты их недооценила. С<мышляев>ы же однажды отдыхали с Женею в здешнем d’Arcine (в «Узком»; я ни разу ни в каком доме отдыха Цекубу не жил и, кажется, единственное изо всех «кубистов» исключенье: Женя – дважды, Ася – просто несчетное число раз). И – не знаю, врут ли или верить – Женя им понравилась. И тут ты оценишь весь клубок: Ист<орический> музей; круглый стол с гостями (И.Н.Розанова ты ведь знаешь?); ты и твои подарки мне (что прозы не будет, я еще не знал); француз, осыпавший меня комплиментами и пожирающий глазами; d’Arcine – Узкое; любят Женю, – и все это почти что в Париже. – Выхожу блаженный, бездонно облагодетельствованный; шестой час, вечер уже наступил, мне на Петровку в кассу за билетами на конц<ерт> Оборина. Думаю, теперь обязательно что-то случится «эгоцентрическое», и тут же предвосхищаю, знаю, мол, – что: по дороге на Петровку увижу в витрине «Недр» (книжного магазина) «Поверх барьеров» или что-нибудь подобное, не более того. Но вместо «Недр» – пустое помещенье с огромной надписью, что Недра переведены туда-то и туда-то (куда – не успеваю прочесть)… а дальше, в двадцати шагах, за углом Большого Театра, последнею в огромном хвосте дожидающихся автобуса – Женя. Я страшно ей обрадовался. Так ли это у тебя, т. е. любишь ли ты также, чтобы любили близкого тебе человека, и тогда ли только убеждаешься, как он близок тебе? —
Прервал письмо. Зашла Ася с сыном Ад. Герцык. Я совершенно не нужен ему, Ася же, вперед взвинтив себя, успела, верно, внушить ему, как важно для него со мной познакомиться. Такая страсть ко взаимным пронзеньям и к сталкиванью людей, которых ни жизнь, ни случайность без ее вмешательства не столкнули б – единственный ее недостаток, но я его терпеливо сношу во вниманье к остальным ее заслугам и достоинствам. Но часто это бывает очень неловко. – Зачем дали Муру «Зверинец», и как ты могла это допустить? Я не знаю на свете книжки нелепее и неудачнее: совершенно неизвестно, для кого она написана. В ней есть два-три места поэтически-жизненных; однако для того, чтобы быть предназначенными для взрослых, они должны были бы отличаться большей серьезностью. То же, что для детей она никак не годится, ясно не только автору, читателю и издателю, но и бумаге, которая это стерпела, как и многое. Этот Зверинец вместе со столь же прекрасною Каруселью были написаны в самую тяжелую для меня пору, весной 25 года; и – в частности, Зверинец в те самые дни, когда одна девушка передала мне по оказии твое письмо о рождении Мура (Feuerzauber[159] со спиртовкой, помнишь!). Мне тогда очень благоволил Чуковский, но даже и его усилья, конечно, ни к чему со Зверинцем не могли привесть: легче было устроить десть чистой писчей бумаги по детскому отделу, чем эту остроумную рукопись. Чуковский писал мне неслыханно лестные и по-настоящему сердечные письма. Он готов был в лепешку расшибиться, чтобы мне помочь. И тогда-то родилась Ломоносова, о которой ты вновь прочла в моем письме к Д<митрию> П<етровичу>, которое так же нужно было тебе показывать, как давать Зверинец Муру. – Но как все это связано, а! – «Зв<еринец>» же из милости издали в прошлом году для какого-то n-го возраста, об определимости к<оторо>го лучше не думать. – Мне правда стыдно перед Муром. Я мечтал о будущей дружбе с ним, а теперь навек вами перед ним опозорен. – Книжки достану и пришлю.
Однако пора кончать. Знаешь ли, как начался у меня год, т. е. что сопутствовало твоей телеграмме (очень хорошо France[160] в виде пожеланья!), т. е. кто был тебе спутником в этот день? Я получил книгу от R.Rolland’a, с надписью, в конце которой есть тоже пожеланье bonne traverse de l’un а 1’autre bord[161] (хотя в смысле переправы с востока на закат, из молодости в старость). Это подстроила Майя (М.П.Кудашева, помнишь?). С ее слов он знает о тебе и обо мне. Она золотой человек и очень скромная и умная. Жалко, что эта тема к концу пришлась, потому что так ни о ней нельзя писать, ни о том, как меня взволновал этот подарок. Я не умею «переписываться с великими людьми», и этого не было у меня в жизни. Но мне и по-фр<анцузски> бло отвечать R.R<olland> легче и вольнее, чем в свое время по-русски Горькому.
<На полях:>
Прости за длинное письмо. Негде даже и поцеловаться.
Твой Б.
Письмо 175
20 января 1930 г.
Пастернак – Эфрону
Дорогой мой Сергей Яковлевич!
Единственное мое намеренье крепко Вас расцеловать за вашу братскую подпись. Братом меня назвали с тех же гор, где теперь и Вы, в самый первый день года. Я получил от R.Rolland’a книгу с надписью, в которой встречается то же слово, и теперь, после Вашего случая, оно мне кажется альпийским.
Все о Вас знаю из письма М.И. Она даже с Ваших слов описала мне местность, которою Вы окружены, и я ее вижу. Новостью для меня был точный Ваш адрес, радостью, и преогромной – Ваше письмо.
Из рождественского письма М.И. узнал впервые о ее прозе, посланной с оказией. Ходил к В<ере> А<лександровне> и только на третий раз застал ее дома. Она ни Вам, ни Дм<итрию> Петровичу не сможет ответить по той же причине, по какой не повезла с собой и прозу. Хотя совесть ее так же чиста, как у меня, и у нее никакого повода нет впадать в суеверную сторожкость обывателя, она предпочитает воздерживаться от переписки с заграницей, т<ак> к<ак> на этой почве бывает много недоразумений.
Поправляйтесь, пользуйтесь случаем, в санатории наш брат попадает не часто. И сколько, наверное, кругом Вас бездельников, которым это совсем не нужно!
Мне становится все трудней год от году. Никто кроме меня в этом не виноват. Когда-то я естественно рос из своего одиночества, не задумываясь над тем, к чему этот рост ведет и что значит. Потом это изменилось. Начиная с «Девятьсот пятого» я пишу не от себя, а все для кого-то. Между тем ответа я от этого местоименья не получаю и с тем, что до меня доходит, жизни завести не могу. В отношеньи меня здесь уже успели застыть кое-какие холодно-лестные суперлативы, и при пользованьи ими в них не заботятся даже внести разнообразья. Правда, словарь, которым приходится пользоваться нашей критике, беден и ограничен; значащих слов в нем почти нет, – отсюда и стереотипы. «Повесть» я писал прошлой весной, добрую ее долю – с хорошим волненьем. По-настоящему ее принял только Пильняк с молодежью, им руководимой. Но вот и все, что я от нее видал. Дм<итрию> Петровичу я недавно напомнил, что заграничная моя звезда сводится к Вашим совместным усильям. Но я позабыл прибавить, что эта ясность причин и источников меня радует, а не смущает. Я этой «перепиской с друзьями» счастлив, это именно то, чего мне недостает в моей здешней судьбе: – очень хорошо, что все это узко, субъективно и спорно; я участвую в общем разговоре и – не одинок.
Но сколько бывает случаев радоваться всему происшедшему, и неописуемой трудности времени, и его суровости и пр. и пр.! Они неисчислимы. Вдруг забредет что-нибудь такое с «поэтом-вещуном» (это – Тютчев, если помните(!!!)) на устах; с «пушкинской простотой» вегетарьянского стиха, в жизни не убившего и мухи. Или, например, статью Люб. Столицы об Адел. Герцык вам покажут. Бог ты мой! И еще ты стонешь?! И главлит не по тебе?!
Так это все еще «пишет» и «размышляет»! И сквозь мир зримый незримый провидят? И отметинки остались, как накладывать? А кощунства-то сколько (не говоря уже о посвященности в судьбу и назначенье форм!). Евангелисты бедные старались, показали безумно-правое, молниеносно-вечное, – отвесно-молодое (как лошадь в мыле, как трава в росе) – тысячелетья шли, только искры сыпались, – так гениален заряд, – а послушать иную такую, так это ведь нечто губернское, только под косынкой и понятное, то самое, что стали прозирать, когда табак перестали нюхать, ну, знаете, что под кивки и вздохи сказывается; такая, знаете, безыскусственность; наследство небольшое, но много ли человеку нужно. А мы-то думали… Так вот они, первоприглашенные вселенной! Мы-то щурились – лицо в улыбку – на небо глядя. А тут маститая кресло просидела при спущенных занавесках, сидит и истины нижет, что зерно клюет, птица певчая. Говорят тоже, Ходасевич не выдержал, юбку надел, но не верю. – Или вдруг с противоположной стороны заедет. Что-нибудь золотозубое в элегантно сшитом пиджаке, показываясь, как в фокстроте, рассказывает вам, как прелестно оно прокатилось по Германии. И лезвия для бритв передает и просит написать, что «привет Ваш передан; благодарю Вас». Но позвольте, я отказываюсь, я лезвий никогда приветами не называл, я напишу как есть, называя вещи их именами. Плеск рук, глаза с тарелку, вы непрактичны, я Вам услугу, а Вы меня губить, и пр. и пр., и все явленье, как платок, надушено спекуляцией, духами, мерзость которых нами тут позабыта.
Чувствуете ли Вы, чем близки эти противоположности? На одной только и мелют, что о духовном, но… но по душевной импотенции не знают, что такое бессмертие, и не желают его, потому что не могут его хотеть. На другой не успели ни разу им соблазниться ввиду заполненности жизни акциями и бутербродами.
Революция есть ответ оскорбленной истории: ее бурное объясненье по всем пунктам с человеком, по тем или иным причинам к бессмертию безразличным. Да здравствует революция. Обнимаю Вас.
Ваш Б.П.
Письмо 176
2 марта 1930, Chteau d’Arcine
Эфрон – Пастернаку
Родной мой – Борис Леонидович,
– Спасибо, спасибо, спасибо и за письмо Ваше и за книжку.
То, что Вы прислали мне Ваши стихи именно в эти дни – совершенное чудо. Почему – скажу при свидании, в которое твердо верю.
Мне очень трудно писать Вам, и потому что я в письмах косноязычен, и потому что у меня еще никогда и ни к одному человеку не было такого предельно открытого дружеского притяжения (и, верно, оттого кажется, что все, о чем я могу Вам написать – Вы уже давно знаете).
Никогда так не любил и не нуждался в Ваших стихах, как сейчас.
С благодарностью Вас обнимаю.
Ваш С.Эфрон
Письмо 177
18 апреля 1930 г.
Пастернак – Цветаевой
Дорогая Марина!
Ты все знаешь уже, вероятно, из газет. Если можно, удовлетворись тем немногим, что прибавлю о себе. Три дня я был весь в совершившемся, плакал, видел, понимал, плакал и восхищался. На четвертый день меня отлучили от событья, и этого было достаточно, чтобы мое чувство, объявленное чужим и далеким, перестало на него отзываться на общей церемонии. Я нигде не мог пристроить двух столбцов о нем, которые ничего страшного, кроме признанья красоты его свободного конца, не заключали. Сохрани, пожалуйста, этот факт в тайне. Если бы тут узнали, что он стал известен у вас, я бы стал мишенью ежедневной клеветы, а это менее чем когда нужно мне.
Все это совершенные пустяки вот почему. В дальнейших главах «Охранной Грамоты», которые я написал зимой, он и его смысл и его роль и обаянье и главное: его значенье в моей судьбе даны так, что это покажется многим неожиданным. Я потому с самой осени и не видал его, что все ждал, когда главы эти будут переписаны, и даже не посвящал в эти планы. – Дорогая моя, друг мой, прости, что не пишу тебе. Это некоторое время еще будет продолжаться. Меня очень мучит, что я не знаю твоего «Перекопа». Волны восхищенья разрозненно доходят до меня, вероятно это замечательно. Из твоих сообщений меня сильнейше коснулось все о французских переводах, это было самым реальным и счастливым изо всего, что я узнал «заграничного» за этот год. Твоя французская строфа настолько твоя, что сливает оба языка в один, как сливаются немецкий с французским под St. Gothard’ом (?). Ты страшно ты во всем этом и страшно мне нравишься верностью в этом всему, что в тебе всегда восхищало. Я и от Володи ждал чего-то подобного. Я думал, что он по-своему раздвинет рамки жизни и роковой предугаданности всеми, т. е. исчезнет в неизвестность или обманет ожиданье еще чем-нибудь. Но мне казалось, что, обманув, останется жить, чтоб совершенствовать неожиданность, а о таком именно исходе я не думал. Но, разумеется, и он (т. е. конец) того же высокого рода. Не поддавайся волненью или тревоге, работай как до сих пор, я люблю тебя, если это тебе нужно, и крепко целую. Неандер был, благодарю за подарки, но деньги он сам переведет, а я сейчас не могу. Пусть С.Я. простит, что до сих пор не ответил ему.
<На полях:>
Тут превосходную лирику выпустил М.Кузмин, и я написал ему как раз накануне самоубийства В.М<аяковского>.
Письмо 178
24 апреля 1930 г.
Эфрон – Пастернаку
Мой дорогой Борис Леонидович,
Я знаю – какой удар для Вас смерть Маяковского. Знаю – кем он был для Вас.
Обнимаю Вас крепко со всей любовью и со всей не-проявленной дружбой.
Ваш С.Эфрон
Письмо 179
<май 1930 г.>
Пастернак – Цветаевой
Дорогая Марина! Ася давно просила переслать тебе эти карточки. Прости, что позабыл вложить в последний раз. Огромное тебе спасибо за твое письмо. В нас сказалась одна и та же забота друг о друге, но как оценить твою, принимая во внимание мое свинское поведенье последних месяцев.
Мне немного нездоровится, утомлен, недосыпаю, весь день хожу с мутной головой.
Когда застрелился Маяковский, я два дня прокипел в здоровом, чистом, укрепляющем горе. Я давно-давно не чувствовал так отлично – не скажу: себя, но отчетливую размещенность всего любимого: особенности столетья, тебя, твоих, язык, задачи, недооткрытые области поэтического знанья, – прости за вздорное теченье фразы, так к слову пришлось.
Я писал тебе, что во всем перечувствованном получил скорый отпор. Было бы ложной аффектацией задерживаться на этом случае дольше, чем я на нем задержался на практике. Эта мелочь и в письме должна была уписаться в одну строку, как и в жизни она заняла одно мгновенье.
Но с этого мгновенья меня как-то залихорадило. Однако ты не беспокойся. Это наполовину нечто мнимое, хотя я так создан, что мне от одного соприкосновенья с умственной пошлостью обметывает губы: от одной мысли, что выход из рабочей сосредоточенности подобен разврату и загрязненью крови. Я скоро возьму себя в руки: да это уже почти и случилось.
Моя работа затрудняется происшедшим. Я начерно писал зимой о Маяковском, крупно (в замысле), горячо и живо. Но как о живом, в расчете, что попадется на глаза живому и чем-нибудь ему да послужит. Иное дело теперь, когда все это надо вести холоднее и суше, чтобы не потеряться перед разом разросшейся натурой: ибо теперь – так я понимаю – писать о нем значит писать об истории гос<ударства> целого, и этот образ впервые для себя откапывать, обтирать, – и заводить в душе. (Скользни и забудь: – приблизительности непозволительно невоплощенные.)
Я с просьбами. Передай, пожалуйста, Дм<итрию> П<етровичу>, что я страшно его благодарю за Eliot’a и рад подарку, но чтобы простил, что не скоро ему напишу. Пусть также за то же не сердится на меня С.Я. – Можно ли поместить во 2-м изд<ании> Барьеров стихи к тебе? [162] Я их доправлю.
Вышли новыми изданьями «Две книги» (хорошее изданье) и «Девятьсот пятый» (в отвратительном виде). Если кому нужно будет, напиши.
Не сердись на меня и не суди по этим письмам. У меня нет сил победить их бессодержательность, т. е. диссимулировать ее. Твой Б.
А почт<овая> марка – твой «Перекоп». Заметила?
Письмо 180
20 июня 1930 г.
Пастернак – Цветаевой
Дорогая Марина!
Я хочу, чтобы ты это знала. Этой весной я хлопотал и получил отказ. Я писал Г<орькому>, слово которого в этих вопросах всесильно, и вчера получил ответ. Под разными предлогами он отклоняет мою просьбу и советует подождать. Не могу, но хотел бы научиться верить, что это слово что-нибудь значит, т. е. что время изменит что-то и приблизит, что это не навсегда, что попытку можно будет возобновить.
Оттого и не писал. Все последнее время был в большом волненьи. Верил почему-то в успех. Когда не нужно – любят, говорят, раскупают изданье за изданьем, прощают (сильнейшее из имеющихся) противоречье всему, что возведено в канон. Когда нужно, – узнаёшь, что прикован за ногу, и никто палец о палец не ударит тебе в освобожденье. Настроенье соответствующее. Не начинать, – не знал бы, испытанье не из приятных.
Пока это свежо, трудно даже письмо дописать. Оно – тебе и С.Я. Главное в сообщении. Можно сказать Д<митрию> П<етровичу>, но никому больше. Да и больше некому.
В этом году выдумали почему-то под Киев на дачу. Идея знакомых, одного из которых, пианиста Нейгауза, кажется, знает П<етр> П<етрович>. Семья с конца мая уже там, завтра и я еду. Адр<ес> будет такой: Ирпень, Киевск<ий> окр<уг>, Ю<го>-З<ападная> ж. д. Пушкинская 13, мне. Люди, сманившие туда, гл<авным> обр<азом> тот же Н<ейгауз>, – очень милые.
Итак, придется смириться и временно перестать об этом думать. Но осенью возобновлю попытки отн<осительно> Жени и Женички.
Не сумею тебе этого описать толком, но на Кузнецком, прямо от секретаря Г<орького>, с его письмом (прочитанным) в руках, и больше: переходя через дорогу и остерегаясь автомобилей, – именно в этой обиде и, – относительном, – несчастьи, вспомнил о поэзии, о том, скажем, чем занимался иногда Верлен (чтобы не бубнить все о том же R<ilke>). И мне хочется и тебе об этом напомнить, если ты так же полно забываешь себя, как я тут, – годами. И вдруг, в огорченьи, приходится становиться собой, ничего, за закрытьем всех выходов, другого не остается. —
Мне придется в ближайшие месяцы позаботиться о книге прозы и о злополучном, чтоб его черт побрал, романе в стихах. На подготовку книги я смотрю всегда как на первую, в настоящем смысле слова беловую, после тех черновиков, какими были отдельные части целого или отдельные вещи сборника, появлявшиеся в журналах. По-моему, это тебе близко и «После России» собрано и вновь написано именно так. Вот и попробую. – Часто болею, ложность положенья растет, своей судьбы не понимаю. Из Ирпеня лучше напишу. Когда ты попросила меня написать С.Я., мне тоже было очень тяжело. Простила ли ты мне, и он, что просьба осталась без исполненья? Ответь. Эта вина меня очень мучает.
Письмо 181
12 октября 1930 г.
Пастернак – Цветаевой
Дорогая Марина.
Писал тебе на днях. Сейчас получил письмо, очень меня огорчившее. Ни в намереньях, ни в возможностях перемен не произошло, но сейчас выплачивают деньги с ужасными задержками. Это общее явленье. Мне давно должны в издательстве, однако и сами они не знают, когда смогут уплатить. Вторую неделю живем без денег, и т<ак> к<ак> это удается все хуже, то выход все равно придется найти до уплаты задолженного. Но т<ак> к<ак> и это все гадательно, то я уже кое-что предпринял и думаю, что результаты опередят письмо. Прости, это гораздо меньше должного и обещанного, но рассчитывай на остальное. Только пока не сообщай мне способа, а несколько спустя. Последние дни – так сошлось – я все пишу за границу, а к этому всегда относятся подозрительно, – а тут еще о деньгах – боюсь, что прямой мой долг перед тобой поймут превратно.
Это именно то не-письмо, которым ты мне разрешаешь ответить.
А ты мне сообщи про радость, – никак не могу догадаться, и никто еще не привозил.
Целую тебя и С.Я. Пиши скорее, не сердись на меня.
Б.
Письмо 182
5 ноября 1930 г.
Пастернак – Цветаевой
Дорогая Марина!
Не удивляйся, пожалуйста, – но я серьезно не уверен, не писал ли я тебе уже это все.
Твой перевод ошеломил меня. Это верх артистизма во всей его силе и смысле. Просто-напросто это гениально и легко предречь, что твой вклад во фр<анцузскую> лирику отразится на ее развитьи. – Но еще удивительнее русская сторона дела. Принято считать, что наибольшей статочностью обладает наиболее естественное, вероятное, справедливое. Наверное, так бывает во всем свете, кроме одних нас. И если бы твой случай задали как задачу; т. е. спросили, кто из современников способен в расцвете сил и достигнутого перейти из языка в язык и разом без переходов занять на этом новосельи прежнее, только что покинутое место, – то разумеется, это была бы ты, и за ответом не стоило бы лазить в конец задачника. Это была бы наперед ты – и ты одна, но именно в отвлеченьи от русских условий. И то, что традиция нашей судьбы побеждена тут, кажется мне самым оглушительным. Все, естественное в отношеньи Verger (я только о факте, я книги не видел), в твоем русском случае сверхъестественно.
Как еще сказать тебе о действии твоих столбцов и всей этой новости? Прими во вниманье, что тут у нас свирепейшая проза, и я старюсь, и мне не до преувеличений. Так вот, утрачивая чувство концов и начал в этом бесплотно капканном времени, я в твоем труде обретаю для него дату. Это год твоего фр<анцузского> Молодца и его близкого выхода, говорю я себе, и нечто похожее на хронологию ложится в окружающий хаос. – Ты убьешь меня и разогорчишь на всю жизнь, если снимешь посвященье. Хотя ты обещаешь его сохранить, я так дорожу этим счастьем, что боюсь, как бы в последнюю минуту что-нибудь не изменило твоего решенья. «М<олоде>ц» в свое время побыл у меня не более недели. Я носил его М<аяковско>му. Там его куда-то заложили. Так я его по сей день и видал. Сходна судьба и Асина экземпляра.
Итак, поздравляю, поздравляю, поздравляю. Ты молодчина из молодчин, под тобой земля, над тобой небо, кругом воздух, ты реальна, ты электрический неразменный заряд, не все обман, не все басня.
Настоящим, мгновенным откликом на твой перевод было письмо к Майе с описаньем происшедшего и просьбой разыскать тебя. Знаешь ли ты, что она в Париже? Я его отправил простым, но почему-то верю, что дошло, хотя от нее ни привета ни ответа. Но все равно, все это в духе года, так, верно, и надо. Все смолкло. У меня было хорошее лето, жили под Киевом (ах, какой город чудесный!) с отличными людьми. Один из них, знакомый П<етра> П<етровича>, рассказывал о нем и показывал его квартиру. Он же играл много, – прекрасный музыкант. Жили дружбой, работой, вечерами, природою, обманчивостью допущенья, что все это и есть все. Пишу и чувствую, что издалека ты, в особенности же мужчины (С.Я., Д<митрий> П<етрович>, П<етр> П<етрович>) должны меня за этот замогильный тон презирать. Что ж делать. Сейчас из-под Москвы от Б.Н.Б<угаева> (А.Б<елого>) получил письмо, как из Сахары в Сахару. Еще раз поздравляю тебя живую, новую, беспромашливую, гениальную. Поцелуй С.Я.
Твой Б.
<На полях:>
О себе не пишу не случайно. Это – не тема, пока лучше не надо. А без этого, верно, тебе читать скучно: себя самое не хуже моего знаешь, а только ты тут и есть.
Письмо 183
5 марта 1931 г.
Пастернак – Цветаевой
Дорогая Марина!
У меня в руках твое письмо к Асе. Гляжу на твою строчку: «Мне ему писать сейчас неудобно, он мне давно не пишет, – письмами не считаюсь, но ввиду его переезда и т. д. не хочется так напоминать о своем существованьи». – Гляжу, – краснею. Ты права. Но не вини меня. – Итак, сперва о деле. Я бессовестно виноват перед тобой, что в свое время не сходил к Вавиной матери. Но то было как раз в начале и разгаре всего воспоследовавшего, и помешало мне, что у меня тогда не было денег. Я безбожно запустил дела, – они и сейчас еще не в порядке, но на днях поправлю, надеюсь. Тогда пойду, – это обязательно, и, вероятно, с двухсрочной сразу помощью. Тогда извещу. – Ты не обижайся, я никому не писал давно, и в свое извиненье буду ссылаться на твой случай: не писал, мол, даже и М.Ц.
По-видимому, тебе что-то известно. Вопросы предшествующего твоего письма Асе тому доказательством. Итак, как можно короче. Мы лето провели с семьей музыканта (удивительного!) Н<ейгауза>. Я к ним привязывался день ото дня все больше. Действовали силы, к<оторы>м я никогда не умел сопротивляться: его одухотворенный дар (большого полета и широкого, охватывающего философию и поэзию, кругозора) и ее удивительная красота, высокой, ходовой, инстинктивной одухотворенности. Это называлось дружбой, каждая встреча кончалась признаниями, я обращал их к обоим, и в игре свойств, которые меня к ним притягивали и в них ослепляли, он и она казались мне иногда как бы братом и сестрой между собою (ты понимаешь?): я не мог отделаться от чувства одинаково беспредельной свободы по отношенью к обоим. Осенью я понял, что люблю ее, понял с той восхитительной ясностью, немного страшной, как это понимают в начале жизни. Я написал обоим по балладе. Вторую, посвященную ей, привожу. Разумеется, это неизмеримо хуже стихов «Сестры», и ты права будешь, найдя форму и словарь сплошной пошлостью. Но я тебе пишу о том, как жил и живу, а не о том, что сделал. Так вот, первым сильно пережитым обращеньем к лирике после долголетнего перерыва были эти осенние месяцы. Я тогда кончил Спекторского. Ты увидишь, это не совершенно пустое место. Какое-то значенье ему присвоится. И там имеешься ты, ты в истории, моей и – нашего времени. – А вот баллада.
- На даче спят. В саду, до пят
- Подветренном, кипят лохмотья.
- Как флот в трехъярусном полете,
- Деревьев паруса кипят.
- Лопатами, как в листопад,
- Гребут березы и осины,
- На даче снят, укрывши спину,
- Как только в раннем детстве спят.
- Ревет фагот, гудит набат.
- На даче спят под шум без плоти,
- Под ровный шум на ровной ноте,
- Под ветра яростный надсад.
- Льет дождь, – он хлынул с час назад,
- Кипит деревьев парусина,
- Льет дождь. На даче спят два сына,
- Как только в раннем детстве спят.
- Я просыпаюсь. Я объят
- Открывшимся. – Я на учете.
- Я на земле, где вы живете
- И ваши тополя кипят.
- Льет дождь. – Да будет так же свят,
- Как их невинная лавина…
- Но я уж сплю наполовину,
- Как только в раннем детстве спят.
- Льет дождь. Я вижу сон. Я взят
- Обратно в ад, где все в комплоте,
- И женщин в детстве мучат тети,
- А в браке дети теребят.
- Льет дождь. Мне снится. Из ребят
- Я взят в науку к исполину
- И сплю под шум, месящий глину,
- Как только в раннем детстве спят.
- Светает. Мглистый банный чад.
- Балкон плывет, как на плашкоте.
- Как на плотах, – кустов щепоти,
- И в каплях потный тес оград.
- (Я видел вас пять раз подряд.)
- Спи, быль. Спи жизни ночью длинной.
- Усни, баллада, спи, былина,
- Как только в раннем детстве спят.
Потом мы переехали в Москву. В каком-то надломе самовнушенья я продолжал обращаться к обоим, не разделяя их, и не любил попадать туда в отсутствие Г<енриха> Г<уставовича>. Но когда мы собирались втроем, нам ясно становилось, что это уже действует ее власть, ее судьба и история, что моя жизнь их разделила и выдвинула ее вперед. 1-го января он уехал в труднейшее по теперешним топливным и продовольственным условьям концертное турне по Сибири. Я этого не хотел, я страшно боялся его отъезда. Я знал, что раньше или позже наши судьбы скрестятся, что мое чувство прорвется и тогда уже ни у каких границ не остановится. Но в его отсутствие во все это могло замещаться что-то нечестное. Однако он должен был уехать. Он возвращается через две недели. Я жду его с нетерпеньем, без всякого чувства вины. Я вновь и вновь забываю, что все случившееся касается его непосредственно, а вовсе не через меня и мою неизменившуюся привязанность к нему, как неепейшим образом представляет это все все мое ожиданье. Я не знаю, как все распутается и что будет с нами четырьмя и детьми.
Теперь мне хочется сказать тебе несколько слов о Жене. Уничтожь, умоляю тебя, все хоть сколько-нибудь дурное, что я говорил или писал о ней под влияньем минуты. Это было непростительной низостью с моей стороны, и, в прошлом, я заслуживаю некоторого снисхожденья лишь тем летом 26-го года, когда мне так хотелось к тебе и я думал с ней расстаться. Теперь сходная обстановка, но разрыв был доведен до конца, и тут только я увидел, каким преступником по отношенью к ней был в душе все эти годы. Этого раскаянья недостаточно, чтобы невозможное сделать возможным: рядом с этим пристыженным состраданьем высится живая, все победившая бесконечность, – все затмевается ею. Но Женя – человек, мизинца которого я не стою и никогда не стоил, и это первая правда, произнесенная мною о ней за всю нашу совместную жизнь. Она, верно, безбожно идеализирует меня в разлуке, я не знаю, что мне сделать, чтобы унять ее страданье, у меня готово и самопроизвольно рвется навстречу к ней чувство глубочайшей дружбы, я знаю, что оно несоизмеримо лучше (и для нее) того дурного и двойственного прошлого, к которому она зовет вернуться, но она живет в мираже страданья, прикрашивает прошлое и в будущем ничего хорошего не видит. Мне страшно трудно.
<На полях:>
Мой временный адр<ес:> Москва 40, 2-я ул. Ямского поля, д. 1а, уч. 21, кв. Б.А.Пильняка, – мне. Если письмо не застанет, перешлют. Но не отвечай письмом необдуманным или несправедливым, я как-то боюсь этого. Все равно я останусь с тобой хорошей и ничего недоброго твоего не пойму. Прости.
Тв<ой> Б.
Приписки не зачеркиваю, хотя уже стыжусь ее: только что получил твое письмо. Зачем ты напоминаешь о нашем совместном? Неужели ты думала, что тут может что-ниб<удь> измениться? Я оттого ни словом его не коснулся, что это – самоочевидность, которой ничто никогда не поколеблет.
Но твой упрек, что ты узнала последней – несправедлив. Пишу тебе первой, никому ничего не писал, как разнеслось, – не понимаю. Источник осведомленности Р<аисы> Н<иколаевны> для меня – тайна. Ни Женя, ни я давно не писали ей. И – последнее. Ничего не знаю. Может быть вернусь к Ж<ене>. Но люблю З<ину>. И тебя и Памир. И Ж<еню>. И – Р.Н.
В мае-июне, если буду жив, пошлю тебе две новых книги, «Охр<анную> Грамоту» и «Спекторского». Не обошлось без цензурных стеснений, но удачи перевешивают, и мне необъяснимо везет.
Письмо 184
<18 марта 1931 г.>
Цветаева – Пастернаку
Баллада хороша. Так невинно ты не писал и в 17 лет – она написана тем из сыновей (два сына), который крепче спит. Горюю о твоем. Но – изнутри Жени, не мальчика. Какое блаженство иметь тебя – отцом раз, тебя отцом на воле – два. Если он твой – ему лучшего не надо. Ты бы в детстве дорого дал – за себя, отсутствующего.
Б<орис>, из памяти: когда я через Смиховский холм (мою «гору») шла от С. к Р<одзевичу> и через Смиховский же холм – от Р. к С. – туда была язва, оттуда рана. Я с язвой жить не могла. (Помнишь того богача из хрестоматии, созвавшего друзей и в конце пира – под пурпуром – показавшего им язву? Ведь пировали – они.) Моя радость, моя необходимость в моей жизни не значили. Точнее: чужое страдание мгновенно уничтожало самую возможность их. С. больно, я не смогу радоваться Р. Кто перетянет не любовью ко мне, а необходимостью во мне (невозможностью без). Я знала – да так и случилось! – что Р. обойдется. (М.б. за это и любила?!)
Катастрофа ведь только когда обоим (обеим) нужнее. Но этого не бывает. Для меня весит давность. Не: nous serions si heureux ensemble! – nous tions si malheureux ensemble![163]
Я не любовная героиня, Борис. Я по чести – герой труда: тетрадочного, семейного, материнского, пешего. Мои ноги герои, и руки герои, и сердце, и голова.
С Р. – никого не любила. Его вижу часто, он мне предан, обожает Мура, ничего не чувствую.
Вот тебе мой опыт.
У тебя еще сложнее: ведь и у нее – свое, тот же выбор. Но верь моему нюху: четверо легче, чем трое, что-то – как-то – уравновешено: четверостишие. Трое, ведь это хромость (четыре ноги). И еще: весь вес на одном (центральном: ней – как тогда – мне). Нет, слава Богу, что – четверо.
Еще, Б<орис> – уезжает Е.А.И<звольская>, раздает книги, как зверей – в хорошие руки – и вот частушка Переяславль-Залесского уезда:
- Не об том сердце болит —
- Который рядом сидит,
- А об том сердце болит —
- Который издали глядит.
Выиграет тот, кто проиграет.
Только расставшись с Р., я почувствовала себя вправе его любить и любила напролет – пока не кончилось.
Не совет. Пример. Отчет.
Я знаю только одну счастливую любовь: Беттины к Гёте. Большой Терезы – к Богу. Безответную. Безнадежную. Без помехи приемлющей руки. Как в прорву. (В огромную ладонь – прорвы. В проваленную ладонь – прорвы.) Что бы я с тобой стала делать дома? Дом бы провалился, или бы я, оставив тебя спящим и унося в себе тебя спящего – из него вышагнула – как из лодки. С тобой – жить?!
Дай ей Бог всего этого не знать, быть просто – счастливой, отстоять тебя у совести, Бога, богов, тебя. (№! что же у нее останется?? 1938 г.)
…А знаешь – дела дивные! – раскрываю Гёте «Aus meinem Leben»[164] и – эпиграф: – Es ist dafr gesorgt, dass die Bume nicht in den Himmel wachsen[165] – т. е. то, что постоянно, всю жизнь говорю о себе и своей жизни, – только у меня: – Es ist von Gott besorgt, dass die Bume[166] —
Ну – обнимаю.
Письмо 185
<ок. 27 марта 1931 г.>
Пастернак – Цветаевой
Дорогая Марина! Я писал тебе о неудачном состояньи моих дел, заботах и пр. Они неожиданно улучшились в тот самый день, как тебя, вероятно, достигли мои жалобы. Спешу этой открыткой успокоить тебя на мой счет. Мне даже удалось уже помочь моей старушке, и вдвое против того даже, на что она рассчитывала. Привет. Прости за торопливость почерка.
Письмо 186
10 июня 1931 г.
Пастернак – Цветаевой
Родной мой друг, Марина, вот уже несколько лет, что я тебе не писал по-настоящему. Дела у меня обстоят так. Женя с Женичкой (сыном) в Берлине или Мюнхене. Это Роллан помог, без него не добиться бы мне паспорта. Отец в письме называет Женю подстреленной птицей и о глазах мальчика говорит, испуганных, недоумевающих. Страшное письмо равносильное проклятью, с воспоминаньями о разговорах в Ясной Поляне, времени иллюстрированья Воскресенья, вероятно справедливое в отношеньи меня, и недалекое, не выдерживающее никакой критики в житейской своей философии. Ему 70 лет. Недавно он перенес тяжелый грипп, с осложненьем, угрожающим его – художника, зренью. Ему запрещено читать и волноваться, и вот он берет и пишет такое письмо, на двадцати страницах. Такое, т. е. после которого мне кажется, что у меня с ним было два разговора: один – всю жизнь, другой – в этом письме. Он обращается ко мне как к разоблаченному недоразуменью.
И добро бы шел этот гнев на меня, преступника, об руку с любовью к пострадавшим. Но к ужасу моему, я в словах его прочел боязнь, не свалено ли все это ему на шею, – и ту сердце у меня сжимается за своих, потому что ни на что, кроме нравственной поддержки и развлекающего участья, я в их сторону не рассчитывал, матерьяльно сам обеспечу (и частью уже сделал) и значит, в главных своих надеждах, быть может, обманулся. А между тем никогда уехавшие не были мне так безоговорочно близки, во всей чистоте, как сейчас, когда полу-сон, полу-обман совместного существованья прорван, и можно человека ценить во весь рост, и понятное тепло к нему совершенно бескорыстно. А о сыне? – Когда вера в то, что жизнь не оставит его своею милостью, крепка до осязанья. И не пойми меня превратно: все это при том, что я неотвратно буду думать и заботиться о них, и больше и лучше, чем когда, и впервые свято. И вновь свижусь.
Но покамест там мрак и печаль и мала надежда, что Женя поможет мне, что она произведет усилье и улыбнется наконец: сперва природе, потом себе и затем мне, и мы сдружимся (как я этого хочу!), и она увидит… Но пока это маловероятно, и я ошибся в своей родне: там некому ее этому научить.
И были самоубийственные волны в другой семье. Но Нейгауз человек высочайшей закваски; этот-то знает, что надо совладать, на то и брат мне, и, кажется, постепенно овладевает собой. Тут много подробностей, усугубляющих тягость испытанья. Во-первых, при жилкризисе все это происходит на старых нетронутых квартирах, а ты знаешь, что значит в таких случаях голос вещей, когда изо всех оглядок нужно рвануться в одно оздоровляющее завтра, а кругом вещи, и тут оказывается, что их развитье останавливается на последнем потрясеньи, и они только помнят и жалят и жалобят и ничего не хотят. Итак, ездил он концертировать, и оттуда слухи являлись – едва что-то не случилось, и я снаряжал ее к нему. Так на два дня сам попал в Киев. Вернулся в Москву, – З<инаида> Н<иколаевна> осталась в Киеве, а я на другой день с Гладковым и еще кое с кем поехал в Магнитогорск (на Урале), это уговорено было раньше, и вдруг срок подошел, когда я и думать позабыл о затее. Но не выдержал забот, тревог и призраков на зауральском, еле преодолимом почтою расстоянья, и всю поездку в смех обратил, повернув с трех суток пути из Челябинска (не доезжая 300 верст до Магнитной).
Погоди, если это тебе неинтересно. Существенное впереди и объяснит также, почему пишу. Но прежде всего. Возможность любить так, как позволяет она всем своим прирожденным складом, перекрывает все несчастья. Она совершенно как я, но в молчаливом своем явленьи еще более просветлена инстинктом, еще менее опорочена рассудком. Почти то же место в жизни, та же тень в тот же час.
Итак, она в Киеве с одним из сыновей, я только что с Урала, мне сейчас туда нельзя, у меня куча запущенных дел, Гаррик (Генрих Густавович) – в Москве, на той же, опустевшей квартире, я с Урала приезжаю в день его концерта, знакомые просят не ходить к нему, чтобы не волновать, на концерте почти лежу на стуле, скрытый спинами, чтобы не заметил. Он играет совершенно неслыханно, с неожиданностями такого полета, что право авторства самим звучаньем переуступается от Шопена и Шумана ему, он побеждает такое страданье, что, скрючившись, я реву и ноги готов ему целовать, думая, что меня не заметили. Но в антракте меня зовут к нему. Я говорю, что его на руках надо отнести с концерта. Потом он идет к устроителям (концерт благотворительный в пользу немцев Поволжья), и, сговорившись, мы сходимся в 3-м часу ночи у общих друзей (Асмусов). Потом светает. Замечают, как я разбит трехсуточной дорогой. Но нет сил даже подняться. Тут (странная логика) пристают – почитать тебя. Появляется Крысолов. Опять потрясаюсь твоей силой, твоим первенством. «Как гениально!» – слышится со всех сторон. «Гениально. Гениально», – твердит вполголоса Гаррик, – я гляжу, – все лицо мокрое, – слушает, улыбается и плачет. Это Асмусовский экземпляр у меня ничего твоего нет, раздавалось, возвращалось отдавалось вновь и вдруг не вернулось, и не всегда помню, кто. В шестом часу уходим, Генр<их> Густ<авович> забирает Асмусовского Крысолова с собой. Сейчас звонит (и это толчок к письму). «Да, знаешь, я все утро читал. Какая высота! Какой родной, единственно нужный человек, единственно необходимый!» —
Письмо пролежало неделю. Даже успел чернила сменить. Вдобавок к рассказанному: тебя везде знают. В Челябинске на тракторстрое подошли 2 молод<ых> человека из Комсомольской Правды, – спрашивали о тебе, знают Крысолова. – Сейчас я один в Москве. Зимой у меня резко переменилась жизнь. Теперь, когда я остаюсь надолго один, я почти мешаюсь в уме, так полно взорваны все связи с рядовою равнодействующей, со сговоренностью общежитья. Опять какая-то подлинность (в идеале) стала единственным делом. В апреле я страшно легко написал несколько простых стихотворений, одно за другим, и писал бы все лето, если бы З<ина> не уехала, а потом и я не сунулся в эту поездку. Дела продержат меня еще тут до конца месяца. Потом я заеду за ней в Киев, и мы поедем на Кавказ. На днях пошлю тебе вторую часть «Охр<анной Гр<амо>ты». Ее, по-видимому, будут переводить. Впервые за все эти годы стал подумывать о твоем возвращеньи, представил его себе. Пришли мне свое о Маяковском. Ася дала третью или четвертую подкладную копию (от руки), абсолютно слепую, – читать, как муз<ыкальную> пьесу собирать из лоскутков по полтакта. Что если бы ты вздумала написать мне не откладывая, и тогда, – в Киев. – Ул. Гершуни (бывш. Столыпинская) 17/19 кв. 9, Зинаиде Ник. Нейгауз для меня.
Письмо 187
<между 2 и 10 июля 1931 г.>
Цветаева – Пастернаку
Дорогой Борис, я стала редко писать тебе, п.ч. ненавижу зависимости от часа, – содержание, начертанное не тобой, ни даже мной – не начертанное, а оброненное случайностью часа. <Над строкой:> Мне хотелось бы, чтобы я писала тебе, а не такое-то июля именно мне диктовало. Пиши я тебе вчера, после того-то и того-то – я бы тебе написала одно, пишу тебе нынче – читаешь это, неизбежно-другое, чем завтра прочел бы. В этом разнообразии не богатство, а произвол. Случайность часа и свои законы пера – где же тут ты, и где же тут я? Мне тебя, Борис, не завоевывать – не зачаровывать. Письма – другим, вне меня живущим. Так же глупо (и одиноко), как писать письмо себе.
Начну со стены. Вчера впервые (за всю с тобой, в тебе – жизнь), не думая о том, что делаю (и – делая ли то, что думаю?), повесила на стену тебя – молодого, с поднятой головой, явного метиса, работы отца. Под тобой – волей случая – не то окаменевшее дерево, не то одеревеневший камень – какая-то (как Евгений Онегин) столетней работы или: «игрушка с моря», из тех, что я тебе дарила в Вандее в 26-ом. Рядом – дивно-мрачный Мур, 3-х лет.
Когда я – т. е. все годы до – была уверена, что мы встретимся, мне бы и в голову, и в руку не пришло так выявлять тебя воочию – себе и другим, настолько ты был во мне закопан, завален, за <пропуск окончания слова>, зарыт. Выходит – сейчас я просто изъяла тебя из себя – и поставила. – Теперь я просто могу сказать: – А это – Б.П., лучший русский поэт, мой большой друг, говоря этим ровно столько, сколько сама знаю.
Морда (ласкательное) у тебя на нем совершенно с колониальной выставки. Ты думал о себе – эфиопе – арапе? О связи, через кровь, с Пушкиным – Ганнибалом – Петром? О преемственности. Об ответственности. М.б. после Пушкина – до тебя – и не было никого? Ведь Блок – Тютчев – и прочие – опять Пушкин, ведь Некрасов – народ, т. е. та же Арина Родионовна. Вот только твой «красивый, 22-летний»… Думаю, что от Пушкина прямая кончается вилкой, вилами, один конец – ты, другой – Маяковский. Если бы ты, очень тебе советую, Борис, ощутил в себе эту негрскую кровь (NB! в 1916 г. какой-то профессор написал 2 тома исследований, что Пушкин – еврей: ПЕРЕСТАВЬ), ты был бы счастливее, и цельнее, и с Женей и со всеми другими легче бы пошло.
Ведь Пушкина убили, п.ч. своей смертью он не умер никогда бы, жил бы вечно, со мной бы в 1931 году по Мёдону гулял. (Я с Пушкиным мысленно, с 16-ти лет всегда гуляю, никогда не целуюсь, ни разу, ни малейшего соблазна. Пушкин никогда мне не писал «Для берего отчизны дальней», но зато последнее его письмо, последняя строка его руки мне Борис, – «так нужно писать историю» (русская история в рассказах для детей), и я бы Пушкину всегда осталась «многоуважаемая», и он мне – милый, никогда: мой! мой!) Пушкин – негр (черная кровь, Фаэтон) самое обратное самоубийству, это всё я выяснила, глядя на твой юношеский портрет. Ты не делаешь меня счастливее, ты делаешь меня умнее.
О себе, вкратце. Получила окольным путем остережение от Аси, что если я сделаю то-то, с ней случится то-то – просьбу подождать еще 2 года до окончания Андрюши. Ясно, что не два, а до конца времен. Таким образом, у меня еще два посмертных тома. Большую вещь, пока, отложила. Ведь я пишу ее не для здесь, а именно для там, – реванш, языком равных. Пишу, пока, отдельное. Ряд стихов. Как только дашь наверный адрес – пришлю (боюсь, что и так уже в К<иев> запоздала!). Несколько дней назад тебе писал С.Я., просьбу его можешь исполнить смело, я – порукой.
– А жена? – Жена пока и т. д. – Ой, ой, ой, да ведь это же – разрушать семью! – Хороший, должно быть, человек.
Очень болен Дмитрий Петрович: грудная жаба. Скелет. Мы с ним давно разошлись, м.б. – он со мной, приезжает, уезжает – не вижу его никогда. Сережа видится в каждый приезд, у Сережи с ним отношения ровнее. Возвращаюсь к Дмитрию Петровичу: положение серьезное, но не безнадежное: при диэте, ряде лишений может прожить очень долго.
Это лето не едем никуда. Все деньги с вечера ушли на квартиру, как раз и внесла. Все эти годы квартиру оплачивал Дмитрий Петрович, сейчас в связи с лечением не может. Как будем жить дальше – не знаю, ибо отпадает еще один доход (300 франков в месяц, который одна моя приятельница собирала в Лондоне). Словом, верных ежемесячных у нас 700 франков на всё. Пожимаю плечами и живу дальше. (Раисе Николаевне ничего не пиши, о тяжелой болезни сына ты знаешь.)
М.б. Сережа на две недели съездит в деревню, к знакомым рабочим, обещают кормить, так что наша – только дорога. Сейчас он пытается устроиться в кинематографе (кинооператором), у него блестящие идеи, но его всё время обжуливают.
– Так что мой адрес на всё это время – прежний.
Да! ты пишешь о высылке II части Охранной Грамоты, у меня и I нет. Посылал?
Письмо 188
<кон. октября 1932 г.>
Цветаева – Пастернаку
Милый Борис, я всё горюю о Максе. Не носом в подушку, а – если хочешь – носом в тетрадь, п.ч. от тех слёз по крайней мере хоть что-нибудь остается.
Словом: 20-летие дружбы. Словом: большая тетрадь Живое о живом и ряд стихов, конца которому —
Письмо 189
<нач. мая 1933 г.>
Цветаева – Пастернаку
Борис, родной, получила от Аси вид Музея с известием о смерти брата. Музей снят сверху, перед ним дом с крестиком: с пометкой: дом, где живет Б.П. – . И, осознавая всё как-то сразу – приняла тебя, Борис, в свою семью.
Письмо 190
Пастернак – Цветаевой
<На книге: Борис Пастернак. Стихотворения. В одном томе. Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, 1933. Первоначальная надпись стерта и поверх нее написано:>
Марине.
Прости меня.
Целую Сережу. Сергей Яковлевич, простите и Вы меня. Я бы хотел, чтобы главное вернулось.
Я это должен еще заслужить.
Простите, простите. Простите.
Боря
Сначала надписал как книгу. Хоть и горячо, но как ни в чем не бывало; и стер. Потому что никакой книги нет, а только привет, – тебе и Вам. И – никакой надписи, а только:
простите.
Письмо 191
27 мая 1933 г.
Цветаева – Пастернаку
Борис, простить ведь не за то, что не писал 2 года (3 года?), а за то, что стихи на 403 стр., явно-мои, – не мне? И вот, задумываюсь, могу ли простить, и если даже смогу – прощу ли (внутри себя)? «Есть рифмы в мире сем, Разъединишь – и дрогнет» – вот мой ответ тебе на эти твои стихи в 1925 г. Теперь, не устраняя напряжения: я, опережая твою 403 стр. на 7 (?) лет, это твое не-мне стихотворение, сорифму твою не со мной, с не-мной, свою сорифму с тобой и твою со мной нав<еки> – по праву первенства – утвердила, – право первенства, Борис! – и вот ты, со звуком этого утверждения в ушах, обращаешь его к другому существу. Без моего «Есть рифмы в мире сем» ты бы этих стихов никогда не написал, ты здесь из меня исхо<дил>, из такой-то страницы. После России – и идешь со мной не ко мне. <Над строкой: Если ко мне – возвращаешься (полная рифма).> Плагиат, Борис, если не плагиат образа, смысла и сути.
На 403 стр. сверху надпись: – Если даже не мне – мне. И если даже не мне – мои <вариант: я >. Так книга и останется. (Для ясности: либо стихи написаны мне, либо я их написала.)
Дальше:
- Уходит с запада душа —
- Ей нечего там делать…
Эти ст<роки> я давно уже (в журнале?) слышу как личное оскорбление, отречение. И ты так <тяжко?> можешь меня оскорбить и от меня отречься. Дальше только ведь всё небо <вариант: Разве что еще от всего неба>, на котором ведь тоже «нечего делать» (а? тебе дело в делах).
Борис, рифмы оставь: твоя (с другой) жизнь <вариант: с другой ты можешь>, – перечисли и включи всё, не хочу ни реестра, ни лирики – но рифмовать (дело ТОЛЬКО в слове) себя ты ни с кем кроме меня не можешь – смешно – третейский суд из трех дураков и то рассмеется за очевидностью.
(Только в слове, во всем его, слова, и данного слова – для тебя охвате. Всегда хочу – ясности.)
Пиши стихи кому хочешь, люби, Борис, кого хочешь.
Если <оборвано>
Ты мой единственный единоличный образ (срифмованность тебя и меня) обращаешь в ходячую монету, обращая его к другой. Теперь скоро все так будут говорить. <Над строкой: Мы с вами срифмованы.> А я, тогда, отрекусь. Не вынуждай у меня этого жестокого вопля: (как раньше говорили: Ты мне не пара)
– Ты мне не рифма!
Ибо если я тебе не рифма, то естест<венным>, роков<ым> обр<азом> ты мне не рифма, м.б. лучше, м.б. вернее и цельнее. Тогда уж я свою органическую рифму на этом свете искать откажусь. А на том – всё рифмует <вариант: рифмуем>!