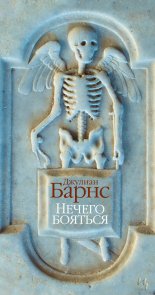Довлатов и окрестности Генис Александр
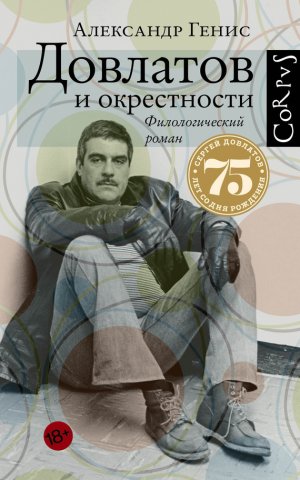
“Человек, – писал Сергей, – рождается, страдает и умирает – неизменный, как формула воды Н2О”. В поисках таких формул Довлатов для каждого персонажа искал ту минимальную комбинацию элементов, соединение которых делает случайное неизбежным. Этим довлатовские портреты напоминают японские трехстишия:
- Она коротко стриглась,
- читала прозу Цветаевой
- и недолюбливала грузин.
Хокку удивляют неразборчивостью. Эти стихи не “растут из сора”, а остаются с ним. Им все равно, о чем говорить, потому что важна не картина, а взгляд. Хокку не рассказывают о том, что видит поэт, а заставляют нас увидеть то, что видно без него.
Мы видим мир не таким, каким он нам представляется, и не таким, каким он мог бы быть, и не таким, каким он должен был бы быть.
Мы видим мир таким, каким бы он был без нас.
Хокку не фотографируют момент, а высекают его на камне. Они прекращают ход времени, как остановленные, а не сломанные часы.
Хокку не лаконичны, а самодостаточны. Недоговоренность была бы излишеством.
Это – конечный итог вычитания.
Они напоминают пирамиды, монументальность которых не зависит от размера.
Сюжет в хокку разворачивается за пределами текста. Мы видим его результат: жизнь, неоспоримое присутствие вещей, бескомпромиссную реальность их существования.
Вещами хокку интересуются не потому, что они что-то символизируют, а потому, что они, вещи, есть.
Слова в хокку должны ошеломлять точностью – как будто сунул руку в кипяток.
Точность для Довлатова была высшей мерой. Поэтому я горжусь, что он и у нас обнаружил “в первую очередь – точность, мою любимую, забытую, утраченную современной русской литературой – точность, о которой Даниил Хармс говорил, что она, точность, – первый признак гения”.
Только не надо путать точность с педантичной безошибочностью. Ее критерий – внутри, а не снаружи. Она – личное дело автора, от которого требуется сказать то, что он хотел сказать, – не почти, не вроде, не как бы, а именно и только.
Точность – счастливое совпадение цели и средства. Или, как говорил Довлатов, тождество усилий и результатов, ощутить которое, неожиданно добавлял он, легче всего в тире.
В литературе для Довлатова только один грех был непрощенным – приблизительность. В “Невидимой книге” он замечает: “Я хотел было написать: “Это – человек сложный…” Сложный, так и не пиши”.
Большинство, к сожалению, пишут – длинно, красиво и не о том. Читать такое – как общаться с болтливым заикой.
Чаще всего точность заменяют благими намерениями. Считается, что добро можно защищать любыми словами – первыми слева по правилу буравчика.
Точность, кстати, – отнюдь не то же, что простота. Но, включая в себя и темноту и сложность, она даже непонятное делает кристально ясным. Поэтому точность – необходимое свойство бессмыслицы и абсурда. Не зря Довлатов ссылался на Хармса.
В сущности, антитеза литературы – не молчание, а необязательные слова.
Пустое зеркало
Хотя Довлатов и говорил, что не понимает, как можно писать не о себе, он честно пытался. У него есть рассказы, написанные от лица женщины. В лучшем из них – “Дорога на новую квартиру” – рефреном служит фраза из дневника героини: “Случилось то, чего мы больше всего опасались”.
И все-таки это – не то. Безошибочно довлатовской его прозу делает сам Довлатов. Своим присутствием он склеивает окружающее в одно целое.
Довлатов-персонаж даже внешне не отличим от своего автора – мы всегда помним, что рассказчик боится задеть головой люстру. Этот посторонний взгляд сознательно встроен в его прозу – Сергей постоянно видит себя чужими глазами.
Сами себе мы обычно кажемся прозрачными, поэтому так быстро забываем, что сели в краску. Чтобы постоянно держать себя в фокусе чужого внимания, нужны более сильные потрясения, вроде расстегнутой ширинки или прорехи на брюках. Как раз таким инцидентом начинается один из довлатовских рассказов: “У редактора Туронка лопнули штаны на заднице”.
Сергей и себя любил изображать в болезненной, как заусеница, ситуации. Я этого не понимал, пока не испробовал на себе. Оказалось, что лучший способ избавиться от допущенной или испытанной неловкости – поделиться ею. Рассказывая о промахе, ты окружаешь себя не злорадными свидетелями, а сочувствующими соучастниками. В отличие от горя и счастья, стыд поддается делению, и гласность уменьшает остаток.
Сергей знал толк в таких нюансах. Расчетливо унижая себя в глазах окружающих, он понимал, что их любовь вернется с лихвой.
Так, в очередной раз описывая первую встречу с женой, Довлатов начинает с нелестной интимности: “Меня угнетали торчащие из-под халата ноги. У нас в роду это самая маловыразительная часть тела”.
Честно говоря, я всегда думал, что ноги бывают только у девушек. Но Сергей, живо интересовавшийся своей анатомией, никогда не надевал шортов, а когда увидел в них меня, почему-то решил, что я красуюсь икрами. Думаю, поэтому в “Записных книжках” он меня мстительно называет “плотным и красивым”.
На самом деле “плотным и красивым” был не я, а он. Склонный к полноте, Довлатов напоминал с удовольствием распустившегося спортсмена.
Толстым, однако, он бывал не всегда. Когда живот начинал выпирать арбузом, Сергей спохватывался и бешено худел. Довлатов смирял плоть с таким энтузиазмом, что даже следить за ним было утомительно. Как-то в период диеты он заказал в “Макдоналдсе” самое здоровое блюдо – “Chicken McNuggets”. Увидев, что по размеру, как и по всему прочему, эти самородки похожи на куриный помет, Довлатов рассвирепел и повторил заказ одиннадцать раз.
Худея, Довлатов занимался гимнастикой. Сам я этого не видел, но его пудовые гири в руках держал. Сергей ворчал, что мимо них не может спокойно пройти ни один интеллигент – помусолит, а назад не поставит. Купив незадолго до смерти домик в Катскильских горах (“полгектара земли, и на ней хижина дяди Тома”), Сергей стал совершать пробежки вдоль лесной дороги. Бегал он, по-моему, раза три и все-таки утверждал, что к нему успел привязаться койот.
Конечно, Сергею нравилось быть сильным. Как бывший боксер, он ценил физические данные. Восхищался Мохаммедом Али, да и про себя писал кокетливо: “Когда-то я был перспективным армейским тяжеловесом”. Вторая часть его неопубликованного романа “Пять углов” целиком посвящена боксу. Называется она “Один на ринге”. Довлатов жаловался, что злопыхатели переименовали ее в “Один на рынке”. Так же как и другое его раннее сочинение – “Марш одиноких”, которое стало “Маршем одноногих”. Уверен, что автором пародийных названий был, как всегда, сам Довлатов.
О своем боксерском тексте Сергей упоминает в письмах: “Я хочу показать мир порока как мир душевных болезней, безрадостный и заманчивый. Я хочу показать, что нездоровье бродит по нашим следам, как дьявол-искуситель, напоминая о себе то вспышкой неясного волнения, то болью без награды”.
Видимо, Сергей не счел этот головоломный проект выполненным: нам он рукопись показал, но печатать не стал. Насколько я помню, эта по-хемингуэевски энергичная, с драматическим подтекстом проза ловко использует профессиональный жаргон. Поразила одна деталь: в морге выясняется, что у боксеров мозг розового цвета.
Понятно, почему Сергей ушел из бокса. Но ностальгический интерес к дракам у него сохранился. Сергей даже носил с собой дубинку. Из-за нее нас не пустили в здание ООН, которое мы хотели показать гостившему в Нью-Йорке Арьеву. Сергей категорически отказался разоружиться, когда из-за начиненной свинцом дубинки взревел металлоискатель.
В довлатовских историях о ленинградских друзьях – Марамзине, Битове, Попове – мордобой фигурировал не реже, чем в “Великолепной семерке”. Возможно, это лишь дань шестидесятым, времени, когда тело ценилось больше духа. Во всяком случае, участники Сергея опровергают. Именно это произошло с одной из самых популярных баек, той, в которой Битов произносит на товарищеском суде речь: “Выслушайте меня и примите объективное решение. Только сначала выслушайте, как было дело… Дело было так. Захожу в “Континенталь”. Стоит Андрей Вознесенский. А теперь ответьте, – воскликнул Битов, – мог ли я не дать ему по физиономии?”
Впоследствии оба героя заявили, что инцидент действительности не соответствует. Вознесенский даже предложил это зафиксировать на бумаге, но Битов, говорят, уклонился – он человек умный.
Как-то Битов выступал в Нью-Йорке, где его с эмигрантской бесцеремонностью спросили, как он относится к Богу.
– Как Он ко мне, так и я к Нему, – отбился Битов.
– Ну, а Он к вам как относится? – не отставал спрашивающий.
– Как я к Нему, – устало ответил Битов.
Довлатов был очень крепким мужчиной. И роста он все-таки был огромного. “Высокий, как удои”, – описывал его Бахчанян. Что говорить, Сергей был таким здоровым, что не влез в обычный гроб.
И всю эту физическую силу Довлатов принес в жертву словесности. Брутальность, которую Довлатов не без самодовольства в себе культивировал, категорически противоречила его литературному автопортрету. Все описанные им драки кончаются для рассказчика одинаково: “Я размахнулся, вспомнив уроки тяжеловеса Шарафутдинова. Размахнулся – и опрокинулся на спину… Увидел небо, такое огромное, бледное, загадочное… Я любовался им, пока меня не ударили ботинком в глаз”.
Певец своих поражений, Сергей упивался пережитыми обидами и унижениями. В результате Довлатов оказался не только самым сильным, но и самым побитым автором нашего поколения.
Обычно бывает наоборот – физические недостатки мы скрываем куда яростнее, чем духовные. Сергей говорил, что человек охотнее признается в воровстве, не говоря уж о прелюбодеянии, чем в привычке соснуть после обеда. Если вы встретите в книге “от удара негодяй рухнул, как подкошенный” или “она застонала в моих объятиях”, будьте уверены, что автор не вышел ростом.
Не нуждавшийся в такого рода утешениях Довлатов толковал свои фиаско как возвращение природе полученной от нее форы. Но этот лежащий на поверхности мотив лишь маскировал тайный заговор, который Довлатов плел всю жизнь. Сергей тщательно следил за тем, чтобы не стать выше читателя. Как никто другой, он понимал выигрышность такой позиции.
Обычно текст украшает автора. Что и неудивительно: литературе мы посвящаем лучшие часы, а остальному – какие придется. К тому же автор находится в заведомо выигрышном положении по отношению к читателю. О себе и других он сообщает ему лишь то, что считает нужным. Автор знает больше нас, но не потому, что собрал все козыри, а потому, что подсмотрел прикуп.
Это не может не бесить. Чем большим молодцом выставляет себя автор, тем сильней читателю хочется увидеть его в луже. Довлатов шел навстречу этому желанию. Не боясь показать себя смешным и слабым, он становился вровень с нами. И этого читатели ему не забывают.
Сильного всегда любят меньше слабого, умного боятся больше глупого, счастливому достается чаще, чем неудачнику. Титану мироздания мы предпочитаем беспомощного младенца, и море побеждает реки, потому что оно ниже их.
Делясь с читателями грехами и пороками, Сергей не только удовлетворял наше чувство справедливости, но и призывал к снисхождению. Оно было для него первой, если не единственной, заповедью. “Мне импонировала его снисходительность к людям, – с нежностью пишет Сергей об отце. – Человека, который уволил его из театра, мать ненавидела всю жизнь. Отец же дружески выпивал с ним через месяц…”
Нетребовательность – и к другим и к себе – Довлатов возводил в принцип. Что отнюдь не делало его мягкотелым (“Дерьмо, – говорил он, – тоже мягкое”). В рассказах Сергея нет ни одного непрощенного грешника, но и праведника у него не найдется.
Дело не в том, что в мире нет виноватых, дело в том, чтобы их не судить. Всякий приговор бесчестен не потому, что закон опускает одну чашу весов, а потому, что поднимает другую.
Если Иешуа у Булгакова – абсолютное добро, то что олицетворяет дьявол Воланд? Абсолютное зло? Нет, всего лишь справедливость.
Идея воздать по заслугам настолько претила Сергею, что однажды он вступил в конфронтацию со всем “Радио Свобода”. Случилось это, когда американцы в ответ на террористические акции Ливии бомбили дворец Каддафи. Пока на работе возбужденно считали убитых и раненых, бледный от бешенства Довлатов объяснял, как гнусно этому радоваться.
К преступлению Сергей относился с пониманием, идею наказания не выносил. Им руководили не любовь, не доброта, не жалость, а чувство глубокого, кровного, нерасторжимого родства со всем в мире. Не надо быть как все, писал Довлатов, потому что мы и есть как все.
В его рассказах автор не отличается от героев, потому что все люди для Довлатова были из одной грибницы.
Лишить автора права судить персонажей – значит, оставить его без работы.
Довлатову и правда нечего делать в его прозе. В сущности, он тут служит тормозом. Автор не столько помогает, сколько мешает развиваться событиям. Он сопротивляется любому деятельному импульсу – изменить судьбу, переделать мир, встать с дивана. Чем быстрее мы идем в другую сторону, тем дальше удаляемся от своей. Бороться с враждебными обстоятельствами – все равно что поднимать парус в шторм. Поэтому несогласие с положением дел Довлатов выражал тем, что не пытался их изменить. “Всю жизнь, – пишет Сергей, – я ненавидел активные действия любого рода… Я жил как бы в страдательном залоге. Пассивно следовал за обстоятельствами. Это помогало мне находить для всего оправдания”.
Став литературной позицией, авторская бездеятельность обратилась в парадокс. С одной стороны, Довлатов – неизбежный герой своих рассказов, с другой – не герой вовсе. Он даже в зеркале не отражается. Уравняв себя с персонажами, рассказчик отходит в сторону, чтобы дать высказаться окружающему. Все силы Довлатов тратил не на то, чтобы ему помочь, а на то, чтобы не помешать.
Это куда сложнее, чем кажется. Как-то в Москве у моей жены брали интервью на вечную тему: “Как ты устроился, новый американец?” Поскольку мною журналисты не интересовались, мне оставалось только тихо сидеть рядом. Уходя, язва фотограф сказал, что больше всего ему понравилось смотреть на меня: так выглядит початая бутылка шампанского, которую с трудом заткнули пробкой.
Недеяние требует не только труда, но и естественной склонности – склонности к естественному. Уважение к не нами созданному – этическое оправдание лени.
Довлатов считал бездеятельность единственным нравственным состоянием. “В идеале, – мечтал он, – я хотел бы стать рыболовом. Просидеть всю жизнь на берегу реки”.
Я был уверен, что он это написал ради красного словца – представить Довлатова за рыбной ловлей не проще, чем в “Лебедином озере”. Но однажды Сергей принес столько выловленных им в Куинсе карасей, что хватило на уху.
Я все чаще вспоминаю этих золотистых рыбок. Мне чудится, что они пришли из несостоявшегося довлатовского будущего. Из Сергея ведь мог получиться отменный старик – этакий могучий дед, окруженный ворчливыми поклонниками и строптивыми домочадцами.
Довлатов на собственном примере убедился, что автор – всегда жертва обстоятельств. Избегая ссылаться на провидение, он об этом писал прямо, но без подробностей: “Видно, кому-то очень хотелось сделать из меня писателя”.
Довлатов не верил, что писателями становятся по собственной воле. Воспитывая дочь Катю, Сергей говорил, что “творческих профессий надо избегать. Другое дело, если они сами тебя выбирают”.
Сергей считал, что человек не может быть хозяином своей судьбы, разве что – чужой. Полноправным автором Довлатов был скорее в жизни, чем в литературе. Отсюда его любовь к интригам.
Сергей был гениальным обидчиком-миниатюристом. Там, где враги орудовали ломом, он применял такой острый скальпель, что и швов не оставалось. Из-за этого Сергею не было цены в газетных баталиях.
Так, в период вражды “Нового американца” с другим нью-йоркским еженедельником – “Новой газетой” – Сергей написал редакторскую колонку то ли о душевности, то ли о бездушии американцев. В ней рассказывалось, как в метро стало тошнить женщину и он протянул ей – внимание! – “Новую газету”. Вскоре, однако, Сергей сам стал печататься в обиженном им органе. Поэтому, когда дело дошло до отдельного издания “Колонок”, вместо “Новой газеты” в этом эпизоде фигурирует просто “свежая газета”.
Сергей умел любого втянуть в свою интригу. Однажды он сказал многострадальному Лемкусу, что Генис не советует читать его рассказы. Я только рот открыл – и тут же закрыл. Ничего такого я не говорил, но ведь и спорить не приходится.
Умея всех задеть, Сергей и сам с энтузиазмом представлял себя жертвой. Он часто затевал долгие разбирательства по поводу им же выдуманной обиды.
Опытный режиссер, он не внушал, а направлял страсти, чтобы с искренним участием следить за их потоком. Его любили женщины трудной судьбы, и он со щедрым интересом вникал в их безнадежно запутанные дела. Больше всего ему импонировали запущенные случаи, в которых виновато было его “любимое сочетание – нахальность и беспомощность”. В эмиграции таких хватало. Им Сергей посвятил “Иностранку”: “Одиноким русским женщинам в Америке – с любовью, грустью и надеждой”.
Довлатову нравилось быть рыцарем. Он обожал громовым голосом цитировать из “Капитанской дочки”: “Кто из моих людей смеет обижать сироту?” Сергей и правда становился опасным, если дам обижали другие. Он не разрешал нам смеяться над дебютом писательницы, рассказ которой начинался словами: “Он посадил меня голой попой на теплую стиральную машину”.
Сергей любил интриги. Горячо вникая в интимные обстоятельства знакомых, он с одинаковым усердием помогал их распутывать – или запутывать. Сергей вел себя как персонаж Борхеса, который, предложив устранить ладейную пешку, пишет статью о том, почему этого делать не следует.
Довлатов плел паутину исключительно ради красоты узора. Что не делало ее менее опасной.
Сергей не пытался увеличить количество зла в мире – он хотел внести в него сложность. Довлатов упивался хитросплетением чувств, их противоречиями и оттенками.
Чтобы быть автором, Довлатову нужно было раствориться среди других. Чтобы чувствовать себя живым, Сергею необходимо было жить в гуще спровоцированных им эмоций. Иногда он напоминал Печорина.
Роман пунктиром
Совершенно непонятно, когда Довлатов стал писателем. У нас считалось, что это произошло в Ленинграде, в Ленинграде – что в Америке. Остается признать решающими несколько недель австрийского транзита. Оказавшись с матерью и фокстерьером Глашей в Вене, Сергей развил бешеную деятельность. В тамошнем пансионе он успел написать несколько прекрасных рассказов, украсивших потом “Компромисс”.
Возможно, творческий запой был, как это у него случалось, следствием обыкновенного. До Вены Сергей так усердствовал в прощании с родиной, что в Будапеште его сняли с самолета. Правда, я слышал это не от Довлатова, что и придает достоверности этой истории, и внушает сомнение в ней. Кажется странным, что Сергей опустил столь яркую деталь своего исхода. Хотя не исключено, что он счел ее душераздирающей.
Так или иначе, в Америку Довлатов приехал автором бесспорно известным, к тому же – в умеренно диссидентском ореоле. Однако вместо иллюзий у него были одни смутные надежды. Как и все мы, он готовился зарабатывать на жизнь незатейливым физическим трудом.
С этого начинали все мои знакомые литераторы. Лимонов пошел в официанты. Спортивный журналист Алексей Орлов присматривал за лабораторными кроликами. Публицист Гриша Рыскин стал массажистом. Хуже других пришлось автору детективных романов Незнанскому. На фабрике, где он служил уборщиком, стали грубо измываться над мягким и симпатичным Фридрихом, когда узнали, что он из юристов – им в Америке так завидуют, что терпеть не могут. Соавтор Незнанского Эдуард Тополь начинал по-другому. Заявив, что не собирается путаться с эмигрантским гетто, он приехал в Америку с готовым сценарием. Первая фраза звучала эффектно: “Голая Сарра лежала на диване”. Вскоре Тополь выучился на таксиста. Когда их союз распался, Фридрих жаловался Довлатову, что Тополь зажилил его машинку. Сергей еще удивлялся: что ж это за следователь, который не может уследить за своей собственностью?
Сергей, кстати, разбирался в пишущих машинках. Он даже собирался заняться их починкой. Эту весьма экзотическую деятельность он выбрал как наиболее тесно связанную с литературой. Выяснилось, однако, что в Америке машинки не чинят. Тут и ботинки-то отремонтировать негде. Тогда Сергей записался на курсы ювелиров – он умел рисовать и обожал безделушки.
Впрочем, долго это, как и у всех нас, не продлилось. Меня, например, с первой американской работы выгнали через месяц – за нерадивость. Скучнее этих четырех недель в моей жизни ничего не было. Я мечтал о конце рабочего дня спустя пятнадцать минут после его начала. И это при том, что служил я грузчиком в фирме, которая занималась, как теперь понимаю, не столько джинсами, сколько постмодернизмом. Выглядело это так: на полу лежала груда купленных по дешевке штанов, на которые тихие пуэрториканки нашивали модный ярлык “Сассун”. На Пятой авеню эти джинсы шли по пятьдесят долларов.
С Довлатовым мы познакомились сразу. Лена тогда работала вместе с нами в “Новом русском слове”, да мы уже и знали друг друга по публикациям.
Как ни странно, мы тут же перешли с Сергеем на “ты”. С ленинградцами это происходит отнюдь не автоматически, чем они и отличаются от москвичей. (Когда к Ефимовым пришел Юз Алешковский, Марина, открыв дверь, поздоровалась. В ответ Алешковский закричал: “Бросьте ваши ленинградские штучки!”) Сергей любил и ценил этикет. Со многими близкими людьми, тем же Гришей Поляком, он общался на “вы”. Фамильярность его не столько оскорбляла, сколько озадачивала. Когда моя жена уличила его в мелком вранье, Сергей с удивлением заметил: “Я не думал, что мы так близко знакомы”.
Нашему стремительному сближению, несомненно, способствовала решительность в выпивке. Мы отвели Сергея в странную забегаловку “Натан”, где наравне с хот-догами подавали лягушачьи лапки. Запивая все это принесенной с собой водкой, мы сразу выяснили все и навсегда – от Гоголя до Ерофеева.
Затем произошла история, которую я так часто рассказывал, что сам в ней стал сомневаться. Мы шли по 42-й стрит, где Довлатов возвышался, как, впрочем, и всюду, над толпой. Сейчас эту улицу “Дисней” отбил у порока, но тогда там было немало сутенеров и торговцев наркотиками. Подойдя к самому страшному из них – обвешанному золотыми цепями негру, Сергей вдруг наклонился и поцеловал его в бритое темя. Негр, посерев от ужаса, заклокотал что-то на непонятном языке, но улыбнулся. Довлатов же невозмутимо прошествовал мимо, не прерывая беседы о Фолкнере.
Можно было подумать, что в Америку Сергей приехал как домой. На самом деле Сергей отнюдь не был избавлен от обычных комплексов. По-английски он говорил еще хуже меня. Манхэттен знал приблизительно. В метро путался. Но больше всего его, как всех эмигрантов, волновала преступность. В письмах Сергей драматизировал обстановку с наслаждением: “Здесь фактически идет гражданская война… большинство американцев рассуждают так, что лучше сдаться красным, которые ликвидируют бандитизм”.
От него мне такого слышать не приходилось – то ли он стеснялся, то ли я не интересовался. Мне ведь тогда еще не было тридцати, и новая жизнь вокруг бурлила и завихрялась таким образом, что жена нередко задавала классический вопрос: “Знаешь ли ты, какие глаза у твоей совести в два часа ночи?” Не без оснований редактор “Нового русского слова” называл нас с Вайлем “Двое с бутылкой”.
При всем том мои воспоминания о нью-йоркских приключениях ничем не омрачены. Ни разу мне не приходилось сталкиваться, например, с полицейским, хотя в Нью-Йорке не положено распивать коньяк на скамейке в Сентрал-парке. Мы, правда, всегда блюли если не дух, то букву закона, не доставая бутылку из коричневого бумажного пакета. Не было у меня столкновений и с уголовниками, хотя сильных ощущений хватало. Однажды вечером мы сидели на лавочке неподалеку от страшного Гарлема, куда благоразумные люди и днем-то не ходят. За разговором незаметно совсем стемнело. И тут нас окружила стайка чрезвычайно рослых негров. Вскочив на ноги, мы постарались изобразить отчаянное дружелюбие. Но они пробежали мимо, не обратив на нас внимания. Приглядевшись, мы увидели, что бегут они из церкви в спортивный зал, где в Нью-Йорке и по ночам играют в баскетбол.
В другой раз я ехал с компанией в ночном сабвее. Вагоны полупустые, свет тусклый, да и попутчики соответствующие. Чтобы скрасить поездку, мы слушали Высоцкого и потягивали свое из коричневого пакета. А один из нас даже закурил. Тут наш приятель оглядел ночной вагон и с тоской воскликнул: “Господи, мы же хуже всех!” Эту историю Сергей обожал пересказывать и вставил в “Записные книжки”.
Но страшней всего было, когда я случайно попал в рок-клуб. В гуще танцующих я выбрал себе партнершу поснисходительнее. То есть это я думал, что выбрал, а так-то я до сих пор не знаю, танцевала ли она со мной, одна или в хороводе. Чтобы это выяснить, я завел игривую беседу. К несчастью, из меня вылезали только заготовленные совсем для другого случая английские фразы. С ужасом я услышал, как говорю, перекрикивая ударника: “Сахаров из грейт. Уот э найс тинг димокраси. Я выбрал свободу!”
Сперва на правах старожилов мы покровительствовали Сергею. Он даже обижался, говоря, что мы принимаем его за деревенскую старуху. Но очень скоро Довлатов освоился в Америке. Он с маху нашел тут то, чего я в ней не видел. Так мы и прожили с ним в разных странах.
Я Америку обживал как любую заграницу – смотрел города, ездил на природу, ходил по музеям и ресторанам. Всем этим Сергей категорически не интересовался. Он действовал по-другому. В чужой стране Довлатов выгородил себе ту зону, которую мог считать своей. Сергей нашел тут то, что объединяло Америку с его прозой – демократизм и недосказанность.
После переводчиков в Америке Сергею больше всего нравились уличные музыканты и остроумные попрошайки. Впрочем, Сергей и на родине любил босяков, забулдыг и изгоев. В его рассказах, как в “Чиполлино”, богатым достается больше, чем беднякам.
Запоздалый разночинец, Довлатов презирал сословную спесь. Во всей американской литературе Сергей любимой называл фразу “Я остановился поболтать с Геком Финном”. Том Сойер, как известно, произносит ее в тот критический момент, когда несчастная любовь сделала его бесчувственным к последующей за этим признанием порке.
Довлатов сам был таким. Его готовность к диалогу включала всех и исключала только одного – автора. Сергей умел не вмешиваться, вслушиваясь в окружающее.
Еще в американской прозе Довлатов любил “достижимость нравственных ориентиров”. Дело не только в том, что американская литература реже нашей требовала от человека героизма и святости. Важнее, что она вообще ничего не требовала, только просила – попридержать моральное суждение, принимая мир таким, какой он есть. Не то чтобы по одну сторону океана к добродетели относились с меньшей любовью, чем по другую.
Просто не зараженные гиперморализмом американские писатели умели отдавать должное соблазну. “Если я продал Сатане душу за чечевичную похлебку, – говорит герой “Похитителей”, одного из самых любимых Сергеем романов Фолкнера, – то, по крайней мере, будь что будет, а я получу эту похлебку и выхлебаю ее”.
В одном американском сериале есть похожая сценка. Черт предлагает купить душу.
– Сколько? – спрашивает герой.
– Сто долларов!
– Ого! Sounds good! – не сдерживает восторга простак. В этой нерасчетливости можно найти если не оправдание греха, то снисхождение к нему.
Впрочем, в фолкнеровской апологии порока Довлатову, как всегда, ближе была не теологическая, а эстетическая софистика. В том же романе Фолкнер разворачивает мысль, которая не могла не понравиться Сергею: “Посвятившие себя Добродетели получают от нее в награду лишь безжизненный, бесцветный и безвкусный суррогат, ни в какое сравнение не идущий не только с блистательными дарами Недобродетели – грехом и наслаждением, но и… с несравненной способностью изобретать и придумывать”.
Видеть в грехе источник литературы – это очень по-довлатовски. И защищать порок, в сущности, – по-американски. Ведь только тот демократ последователен, кто вынуждает добродетель поделиться правами с пороком.
Демократия – это терпимость не только к другому мнению, но и к другой жизни. Способность не роптать, деля пространство с чужим и посторонним, вроде крыс или тараканов.
Характерно, что Сергей единственный в Америке вступился за последних: “Чем провинились тараканы? Может, таракан вас когда-нибудь укусил? Или оскорбил ваше национальное достоинство? Ведь нет же… Таракан безобиден и по-своему элегантен. В нем есть стремительная пластика гоночного автомобиля”.
В американской литературе Довлатов находил то, чего ему не хватало в русской. Сергей жаловался, что у Тургенева никогда не поймешь, мог ли его герой переплыть озеро. Чтобы не быть на него похожим, сам Довлатов переплыл Миссисипи. Во всяком случае, написал об этом.
Сергей никогда не забывал о телесном аспекте нашего существования. Тем более что сделать ему это было непросто. Выпивший Сергей мог быть физически обременительным. На третий день ему отказывала грация, с которой он обычно носил непомерное тело. Больше, чем все остальное, оно сближало его с Хемингуэем.
В отличие от многих, Сергей не плевал в забытого кумира, но никогда его и не цитировал. Хемингуэй как танк проехал по прозе всего поколения, но на довлатовских страницах он оставил не так уж много следов. Самые неловкие из них – концовки рассказов в “Зоне”: “Но главным было то, что спит жена. Что Катя в безопасности. И что она, наверное, хмурится во сне…” Важно, что Сергей взял у Хемингуэя не только скупую слезу, которая иногда орошает довлатовскую страницу, но и знаменитые дырки в повествовании.
Приспособив теорию айсберга для своих целей, Сергей придумал себе особую пунктуацию. Эстонская журналистка из “Компромисса” совершенно справедливо называла ее “сплошные многоточки”.
Точка редко бывает лишней, многоточие – почти всегда. От своего аристократического предка этот знак сохранил лишь внешность, да и то троекратно разбавленную. Ставя три точки вместо одной, автор рассчитывает, что многозначительность прикроет угробленное предложение, как цветы – могилу. Многоточие, однако, венчает не недосказанную, а недоношенную мысль.
Сергей знал это лучше других. И все же, терпеливо снося насмешки, в том числе и собственные, он стал рекордсменом многоточий. Отстаивая право на них, он писал, что пунктуацию каждый автор изобретает самостоятельно. В его прозе многоточия были авторским знаком.
Довлатовское многоточие больше напоминает не пунктуационный знак, а дорожный. Он указывает на перекресток текста с пустотой. Каверны, пунктиром выгрызенные в теле текста, придают ему элегантную воздушность, как дырки – швейцарскому сыру.
Самая загадочная довлатовская фраза звучит так: “Завтра же возьму напрокат фотоувеличитель”. Сергей ею больше всего гордился, хотя смысла в ней немного. Потому и гордился.
Эта фраза маскирует свое отсутствие. Она – род довлатовских “многоточек”. А хвалился он ею потому, что мастерство и отвага писателя сказываются не только в том, что он написал, но и в том, чем он пожертвовал. Оставив никакую фразу на том месте, где могло быть сказано что-то значительное, Довлатов давал читателю перевести дух.
Если в прозе нет фокуса, то она не проза, но если автор устраивает из аттракционов парад, то книга становится варьете без антракта. Чувствуя себя в ней запертым, читатель хочет уже не выйти, а вырваться на свободу.
Чтобы этого не произошло, Сергей прокладывал картоном свои хрустальные фразы. Бесцветные предложения освежают рецепторы, мешая притупиться зрению. Прореживая текст, Сергей незаметно, но властно навязывает нам свой ритм чтения. У довлатовской прозы легкое дыхание, потому что его регулирует впущенная в текст пустота.
Стараясь быть блестящим, но не слепящим, Сергей пуще всего ценил остроту оригинальности, о которой знает один автор. Об этом говорится в цитате из Пастернака, которую – “единственную за мою жизнь” – Довлатов выписал еще в молодости: “Всю жизнь стремился к выработке того сдержанного, непритязательного слога, при котором читатель и слушатель овладевают содержанием, сами не замечая, каким способом они его усваивают”.
В “Зоне” Сергей утверждал, что мы прозвали его трубадуром отточенной банальности. На самом деле он, как всегда, приписывал другим нанесенную самому себе обиду – тут же, впрочем, обращая слабость в достоинство.
Сергей дерзко разбавлял тривиальностью тайную оригинальность.
Пустота всякой банальной фразы – рама. С одной стороны, она выгораживает картину из невзрачной стены, с другой – соединяет ее с ней.
Пустота – трубопровод, связывающий текст с окружающей действительностью. Впуская пустоту в текст, автор смешивает вымысел с реальностью как раз в той пропорции, в которой они встречаются и за пределами печатной страницы.
Китайцы, великие мастера в обращении с пустотой, знали три способа ее использования. Первый – оставить ее как есть. Однако незамеченная пустота перестает быть собой. Она неизбежно во что-нибудь превращается – тетрадный листок, бурый фон, звездное небо, обои в цветочек.
Второй способ – украсить вещь пустотой. Такая пустота становится декоративной. Она, как поля в тексте, оттеняет собой чужое присутствие.
И наконец, третий, самый трудный способ требует впустить пустоту в картину, дав небытию равные права с бытием.
Только тот художник изображает мир во всей его полноте, кто блюдет паритет вещи с ее отсутствием. Недостаток – больше избытка, и, заменив сложение вычитанием, пустое способно заполнить порожнее.
Довлатов, как все писатели, стремился воссоздать цельность мира. Но, в отличие от многих других, он видел препятствие не в чистой, а в исписанной странице.
Американская жизнь Довлатова походила на его прозу: вопиюще недлинный, изобилующий многоточиями роман пунктиром. И все же он вместил в себя все, что другие растянули бы в эпопею.
В Америке Сергей трудился, лечился, судился, добился успеха, дружил с издателями, литературными агентами и американскими барышнями (его словцо). Здесь он вырастил дочь, завел сына, собаку и недвижимость. Ну и, конечно, двенадцать американских лет – это дюжина вышедших в Америке книжек: аббревиатура писательской жизни. И все это – не выходя за пределы круга, очерченного теми американскими писателями, которых Сергей знал задолго до того, как поселился на их родине. Довлатов с легкостью и удобством жил в вычитанной Америке, потому что она была не менее настоящей, чем любая другая.
Сергей писал, что раньше Америка для него была как рай – “прекрасна, но малоубедительна”. Поэтому больше всего в Америке его удивляло то, что она есть. “Неужели это я?! Пью айриш-кофе в баре у “Джонни”?” – вот основная эмоция, которой, в сущности, исчерпываются его отношения с той страной, что он знал, любил, понимал и игнорировал.
Америка не обделила Довлатова славой. Напротив, тут-то он ее и нашел. Сергей говорил, что удивляется и когда его узнают на улице, и когда не узнают. Однако свойство быстротекущей американской действительности таково, что заставляет усомниться в ценности всякого признания. Милая редакторша из “Нью-йоркера” сказала, что рассказы Довлатова перестали печатать потому, что он умер, а в Америке предпочитают живых авторов: мертвые – это те, кто проиграл. У нас, похоже, – те, кто выиграл.
В Америке Сергей нашел то, чего не было в отечестве, – безразличие, воспитывающее такую безнадежную скромность, что ее следовало бы назвать смирением.
Для русского писателя, привыкшего к опеке ревнивой власти, снисходительная рассеянность демократии – тяжелое испытание. Открыто об этом осмелился заявить лишь задиристый, похожий, как писал Довлатов, на помесь тореадора с быком, Лев Халиф. В Нью-Йорке он поселился на такой далекой окраине, что с друзьями выпивал по телефону. О его злой и смешной книжке “ЦДЛ” Сергей отзывался тепло, в том числе и в стихах:
- Верните книгу, Саша с Петей,
- Иметь такую книгу – честь!
- Я прославлял ее в газете,
- Теперь хочу ее прочесть.
Халиф вызвал возмущение, публично пожаловавшись, что в России его замечал хоть КГБ. Особенно негодовала та часть эмиграции, которую больше волновал ОБХСС.
Блестящий послужной список Довлатова – множество переводов, публикации в легендарном “Нью-йоркере”, две сотни рецензий, похвалы Воннегута и Хеллера – мог обмануть всех, кроме его самого.
Про свое положение в Америке Сергей писал с прямотой, в которой безнадежность становится смирением: “Я – этнический писатель, живущий за 4000 километров от своей аудитории”.
All that jazz
Успехом в Америке Довлатов обязан языку – вернее, его отсутствию. Не зная толком английского, он писал на нем, сам того не ведая. Чтобы окончательно запутать ситуацию, я бы сказал, что Довлатов писал на американском языке по-русски. При этом собственно английский Довлатов всех устраивал, хотя мало кого удивлял. Исключением Сергей был среди русских, а не американцев.
Решительней всех на это указал Бродский. В мемуарном очерке о Сереже (так он его называл) Бродский обронил замечание слишком глубокомысленное, чтобы им пренебречь: Довлатова “оказалось сравнительно легко переводить, ибо синтаксис его не ставит палок в колеса переводчику”.
Синтаксис Сергей и правда упразднил. У него и запятых раз-два – и обчелся. Иначе и быть не могло. Как все теперь знают, Сергей исключал из предложения – даже в цитатах! – слова, начинающиеся на одну букву. Сергей называл это своим психозом. Чтобы не было двух начальных “н”, в пушкинской цитате “не зарастет народная тропа” он переделывал “народную” на “священную”.
За этим чудачеством стояла вполне внятная идея спартанской дисциплины. Прозаику, объяснял Сергей, необходимо обзавестись самодельными веригами взамен тех, что даром достаются поэту.
Сергей не хотел, чтобы писать было легко. Когда его уговаривали перейти на компьютер, говоря, что тот ускоряет творческий процесс, Довлатов приходил в ужас. Главная моя цель, повторял он, писать не быстрее, а медленнее. Лучше всего было бы высекать слова на камне – не чтобы навечно, а чтобы не торопясь.
Довлатов боялся не столько гладкости стиля, сколько его безвольности. Лишенный внутренних ограничений, автор, сам того не замечая, вываливается из художественной литературы. Чтобы этого не произошло, прозаик должен отвечать за выбранные им слова, как блатной за свои татуировки.
Естественным результатом довлатовского психоза были чрезвычайно короткие предложения, что идеально соответствовало всей его философии.
Ведь что такое синтаксис? Это – связь при помощи логических цепей, соединяющих мысли наручниками союзов. Синтаксис – это навязанная нам грамматическая необходимость, которая строит свою картину мира. Стоит пойти на поводу у безобидного “потому что”, как в тексте самозарождается – независимо от намерений автора – сюжет. Стройная система, лишающая нас свободы передвижения, синтаксис – смирительная рубашка фантазии. Намертво соединяя предложения, союзы создают грамматическую гармонию, которая легко сходит за настоящую. Синтаксис – великий организатор, который вносит порядок в хаос, даже тогда, когда его же и описывает.
И все-таки как бы искусно ни была сплетена грамматическая сеть, жизнь утекает сквозь ее ячеи. Предпочитая откровенную капитуляцию мнимым победам, Сергей соединял предложения не союзами, а зиянием многоточий, разрушающих мираж осмысленного существования.
Это-то и выделяло Довлатова из соотечественников, о которых так точно написал Бродский: “Мы – народ придаточного предложения”.
По-моему, Бродский был единственным человеком, которого Сергей боялся. В этом нет ничего удивительного – его все боялись.
Когда у нас на радио возникала необходимость позвонить Бродскому, все смотрели на Сергея, и он, налившись краской, долго собирался с духом, прежде чем набрать номер. Иногда такие звонки заканчивались экстравагантно. На вопросы Бродский отвечал совершенно непредсказуемым образом. Когда его попросили прокомментировать приговор Салману Рушди, он сказал, что в ответ на угрозу одному из своих членов ПЕН-клуб должен потребовать голову аятоллы – “проверить, что у него под чалмой”.
Перед Бродским Сергей благоговел. Довлатов говорил о нем: “Он не первый. Он, к сожалению, единственный”. Только после его смерти на Парнасе стало тесно. Бродский был нашим оправданием перед временем и собой. “Я думаю, – писал Довлатов, – наше гнусное поколение, как и поколение Лермонтова, – уцелеет. Потому что среди нас есть художники такого масштаба, как Бродский”.
Надо сказать, что еще задолго до того, как появилась профессия “друг Бродского”, близость к нему сводила с ума. Иногда – буквально. Бродский тут был абсолютно ни при чем. Со знанием дела Сергей писал: “Иосиф – единственный влиятельный русский на Западе, который явно, много и результативно помогает людям”.
Особенно отзывчивым Бродский казался по сравнению с игнорировавшим эмиграцию Солженицыным. (На моей памяти Александр Исаевич поощрил только одного автора – некого Орешкина, искавшего истоки славянского племени в Древнем Египте. Среди прочего Орешкин утверждал, что этруски сами заявляют о своем происхождении: “это – русские”.) Бродский же раздавал молодым авторам отзывы со щедростью, понять которую помогает одно его высказывание: “Меня настолько не интересуют чужие стихи, что уж лучше я скажу что-нибудь хорошее”.
С прозой обстояло не лучше. Однажды его скупые, но все-таки благожелательные слова появились на обложке шпионского романа под названием “Они шли на связь”. Это, говорят, погубило автора, солидного доктора наук. Окрыленный похвалой, он с таким усердием занялся литературой, что потерял семью и работу.
Бродский, читавший все книги Довлатова, да еще в один присест, ценил Сергея больше других. Что не мешало Довлатову тщательно готовиться к каждой их встрече. Когда Бродский после очередного инфаркта пытался перейти на сигареты полегче, Довлатов принес ему пачку “Парламента”. Вредных смол в них было меньше одного миллиграмма, о чем и было написано на пачке: “Less than one”. Именно так называлось знаменитое английское эссе Бродского, этому названию в русском переводе не нашлось достойного эквивалента.
С Бродским у Довлатова, казалось бы, мало общего. Сергей и не сравнивал – Бродский был по ту сторону. Принеся нам только что напечатанную “Зимнюю эклогу”, Довлатов торжественно заявил, что она исчерпывает его представления о современной литературе. Когда Сергей бывал в гостях, Лена определяла степень его участия в застолье по тому, декламирует ли он “Тщетно драхму во рту твоем ищет угрюмый Харон”. Отвечая на выпад одного городского сумасшедшего, Довлатов писал: он “завидует Бродскому, и правильно делает. Я тоже завидую Бродскому”.
Дороже искусства Довлатову была личность Бродского – Сергей поражался его абсолютным бесстрашием. Свидетель и жертва обычных советских гадостей, Довлатов всегда отмечал, что именно Бродский в отношениях с властью вел себя безукоризненно достойно.
Еще важней было мужество другого свойства. Бродский сознательно и решительно избегал проторенных путей, включая те, которые сам проложил. Большая часть жизни, говорил Бродский, уходит на то, чтобы научиться не сгибаться. Считая, что речь идет о властях, я недоумевал, потому что эти конфликты остались в прошлом. Только со временем до меня дошло, что Бродский имел в виду другое: сильнее страха и догмы человека сгибает чужая мысль или пример.
Сергей завидовал не Бродскому, а его свободе. Довлатов мечтал быть самим собой и знал, чего это стоит. Без устали, как мантру, он повторял: “Хочу быть учеником своих идей”.
“Я уважаю философию, – писал Сергей, – и обещаю когда-то над всем этим серьезно задуматься. Но лишь после того, как обрету элементарную житейскую свободу и раскованность. Свободу от чужого мнения. Свободу от трафаретов, навязанных большинством”.
Больше многого другого Довлатову нравилось в Америке, что тут “каждый одевается так, как ему хочется”.
Демократия, конечно, дает отдельному человеку развернуться. Но – каждому человеку, и этим излечивает личность, как говорил тот же Бродский, от “комплекса исключительности”. Чтобы быть собой, ты должен быть с собой, чаще всего – наедине. Автономность и самодостаточность не исключают, а подразумевают затерянность в пейзаже. Демократия, как болото, все равняет с собой.
С Бродским Довлатова объединяла органичность, с которой они вписывались в этот горизонтальный пейзаж. Почти ровесники, они принадлежали к поколению, которое осознанно выбрало себе в качестве адреса обочину. Ценя превыше всего свободу как от потребности попадать в зависимость, так и от желания навязывать ее другим, Бродский и Довлатов превратили изгнание в точку зрения, отчуждение – в стиль, одиночество – в свободу.
Бахчанян, который сопровождает эту книгу, как дед Щукарь “Поднятую целину”, высказался и по этому поводу: “Лишний человек – это звучит гордо”.
Еще Бродского и Довлатова сближали стихи. Бродский прямо утверждал, что довлатовские рассказы написаны как стихотворения.
Я не уверен, что это так. Скорее его рассказы появились на обратном пути от стихов к прозе.
Поэзия, настоящая, конечно, сгущает реальность, от чего та начинает жить по своим законам, отменяющим пространство и время, структуру и иерархию. Информационная среда уплотняется до состояния сверхпроводимости, при котором все соединяется со всем. В таком состоянии нет ничего случайного. Тут не может быть ошибки.
Бессмысленно спрашивать, правильно ли выбрано слово. Если оно сказано, значит – верно.
У Фроста есть стихотворение о том, почему в лесу встречаются согнутые березы. Это происходит оттого, объясняет он, что на них качаются мальчишки. Забираются до самой вершины и своим весом нагибают ствол до земли. Карабкаться по черным сучьям белого ствола – все равно что ползти по строчкам стихов на бумаге. Идти не на небо, а по направлению к небу. Чем тоньше ветка-материя, тем неизбежнее она нас приземляет. В этом путешествии поэт и поэзия, поэт и язык, поэт и действительность становятся союзниками, как в вальсе. Искусство поэта в том, чтобы использовать неподатливость материала.
Там, где материя – по Чехову – истончается до символа, пространство закукливается, сворачивается. За ним ничего нет. Кривизна поэтического континиума – свойство его физики. Рано или поздно береза кончится. Но дерзость поэтической игры в том, чтобы забраться как можно дальше. Умная мера сочетает дерзость с расчетом, отвагу – с разумом, дисциплину – с азартом. Те, кто поднялся слишком высоко, падают, не рассказав, как там было. К тому же они проделали только полпути. Суть же в том, чтобы – туда и обратно.
Довлатов не сгущал, а разрежал реальность. Лишнее в его рассказах соединяется с необходимым, как две стороны одного листа.
Прообразом довлатовской прозы была не поэзия, а музыка. Сергей мог бы повторить слова одного композитора, сказавшего о своих сочинениях: “Черное – это ноты, белое – музыка”.
Как-то в Ленинграде к Довлатову домой зашел брат Боря. Спросил у Норы Сергеевны, где Сергей. Та сказала, что сидит у себя и слушает Шостаковича. “С алкоголиками это бывает”, – успокоил ее Борис.
Довлатов, который, конечно же, сам это и рассказал, очень любил музыку. Однажды я даже слышал, как он пел на встрече с читателями. Выступать Сергей обожал, хотя и непритворно волновался. Сперва он, потея и мыча, мямлил банальности. Постепенно, расходясь, как товарный состав, Сергей овладевал ситуацией и покорял любую аудиторию, невпопад отвечая на ее вопросы. Например, на дежурное в эмиграции “Как у вас с языком?” Сергей рассказывал, что его соседка на вопрос, как ей удалось быстро овладеть английским, отвечала: “С волками жить”.
На своем нью-йоркском дебюте только что приехавший в Америку Довлатов был в ударе. Демонстрируя публике сразу все таланты, он читал рассказы и записи из “Соло на ундервуде”, рассуждал о современной литературе, называя Романа Гуля современником Карамзина, а под конец необычайно чисто исполнил песню из своего “сентиментального детектива”:
- Эх, нет цветка милей пиона
- За окошком на лугу,
- Полюбила я шпиона,
- С ним расстаться не могу.
Так что Бродский, сказавший про рассказы Сергея “это скорее пение, чем повествование”, был всетаки прав: со стихами довлатовскую прозу роднила музыка. Иногда Бродский говорил, что хотел быть не поэтом, а летчиком. Я не знаю, кем хотел бы стать Довлатов, но думаю, что джазистом. Посвоему Сергей им и был. Во всяком случае, именно в джазе он находил систему аналогий, позволяющую ему обосновать принципы своей поэтики.
Довлатов много писал о джазе. Начиная с газетной рецензии на концерт чудом оказавшегося в Таллине Оскара Питерсона: “Я хлопал так, что у меня остановились новые часы”. Джазу была посвящена и его последняя работа в “Новом американце”.
Это сочинение витиевато называлось “Мини-история джаза, написанная безответственным профаном, частичным оправданием которому служит его фантастическая увлеченность затронутой темой”. Этот неожиданно ученый опус Сергей, выбрав меня мальчиком для битья, разнообразил ссылками “на неискушенных слушателей джаза, вроде моего друга Александра Гениса”. И все равно получилось блекло.
Однако именно сюда Сергей вставил куски, которые трудно не считать авторским признанием. В них Довлатов излагал не историю джаза, а литературную утопию: “Джаз – это стилистика жизни… Джазовый музыкант не исполнитель. Он – творец, созидающий на глазах у зрителей свое искусство – хрупкое, мгновенное, неуловимое, как тень падающих снежинок… Джаз – это восхитительный хаос, основу которого составляют доведенные до предела интуиция, вкус и чувство ансамбля… Джаз – это мы сами в лучшие наши часы. То есть когда в нас соседствуют душевный подъем, бесстрашие и откровенность…”
Я действительно плохо разбираюсь в джазе, но однажды понял, чем он был для Сергея. Случилось
это в Массачусетсе, по которому мы путешествовали вместе с Лешей Хвостенко. На шоссе нас, разомлевших и уставших, угораздило попасть в жуткую, многочасовую пробку. Положение спас музыкальный Хвостенко. Высунув руку из окна машины, он стал барабанить по крыше, напевая “Summer time and the living is easy”, но по-русски: “Сям и там давят ливер из Изи”. Через минуту все остальные, категорически лишенные слуха и голоса, последовали его примеру. Наше вытье привлекло внимание томящихся соседей, и вскоре вся дорога приняла участие в радении. Это был акт чистого творчества, обряд, стирающий границу между исполнителем и слушателем, между хором и солистом, между мелодией и тем, во что каждый из нас ее превращал.
Я слышал, что главное в джазе – не мастерство, а доверие к себе, ибо, в сущности, тут нельзя сделать ошибку. Импровизатор не может ничего испортить. Если у него хватает смелости и отчаяния, в его силах обратить неверный ход в экстравагантный. Считаясь только с теми правилами, которые он по ходу дела изобретает, импровизатор никогда не знает, куда он доберется. Прыгая в высоту, мы боремся с не нами установленной планкой. В длину мы прыгаем как можем. Поэтому настоящую импровизацию завершает не финал, а изнеможение.
Сергей любил джаз потому, что сам занимался искусством, согласным впустить в себя хаос, искусством, которое не исключает, а переплавляет ошибку, искусством, успех в котором определяют честность и дерзость.
Сергей с наслаждением смирял свою прозу собственными драконовскими законами. Но еще больше он дорожил советом Луи Армстронга: “Закрой глаза и дуй!”
Пушкин
От обыкновенной Америки Довлатова, как и других русских писателей на Западе, отделял тамбур, населенный славистами. Сергей оправдывал свой неважный английский тем, что единственные американцы, с которыми ему приходится общаться, говорят по-русски.
Я тоже знаю славистов лучше, чем остальных американцев. Именно поэтому они не перестают меня удивлять. На всех конференциях я спрашиваю, почему они выбрали такую странную профессию. Ответ зависит от пола: девушек увлек Достоевский, юношей – Джеймс Бонд.
С тех пор как Россия утратила обаяние империи зла, все изменилось. Если на моем первом докладе сидел славист с погонами, то сейчас семинары посещают в основном девушки в очках. Может, оно и к лучшему, ибо по-настоящему оживить американскую славистику может лишь локальный ядерный удар.
Но Довлатов появился в Америке вовремя. Русские штудии были не академическими забавами, а жизненным делом, от которого реально зависела наша словесность. Дело в том, что литературный процесс тех лет направлял не столько “Новый мир”, сколько мичиганское издательство “Ардис”. Основавшие его Карл и Эллендея Проффер, выдвинув лозунг “Русская литература интереснее секса”, умудрились издать целую библиотеку книг, ставшую литературой нашего поколения. Среди них была и вышедшая на русском и английском “Невидимая книга”. Для 37-летнего Сергея она была первой.
Профферы настолько не походили на славистов, что остается только гордиться тем, что их смогла соблазнить наша литература. Рослая красавица Эллендея так хороша собой, что многие не верили, что она сама написала толстенную монографию о Булгакове. За “Ардис” ей дали щедрую и престижную “Премию гениев”, ту самую, что незадолго до Нобелевской получил Бродский. В отличие от многих славистов, предпочитающих с нашими беседовать по-английски, Эллендея превосходно знает русский, включая и тот, на котором не говорят с дамами. Ее, впрочем, это не стесняет. Однажды, спросив о книгах одного эмигрантского писателя, она добавила: “Я в его творчестве – целка”.
Карл еще меньше походил на профессора. Богатый наследник, звезда студенческого баскетбола, он был не ниже Довлатова. Да и умер Карл тоже рано. Заболев раком, он долго боролся с болезнью, чтобы маленькая дочка успела запомнить отца.
Его мемориальный вечер состоялся в НьюЙоркской публичной библиотеке. Все вспоминали, сколько Карл сделал для русской культуры. Бродский завершил этот длинный перечень летающей тарелкой – фрисби, которую именно Проффер первым привез в Россию.
Когда Андрей Седых назвал Довлатова вертухаем, Сергей не обиделся, но задумался. В эмиграции ведь тогда не было обвинения страшнее, чем сотрудничество с органами. Особенно – в Первой волне, где ленились разбираться с подробностями. Даже нас, служивших в Риге пожарными, полемисты называли “эмвэдэшниками”. В “Новом русском слове” наборщик из белогвардейцев сказал, что не подаст руки сталинскому генералу. Генералом был Петр Григорьевич Григоренко. Поэтому, получив вертухая, Довлатов решил объясниться с публикой, которая еще не читала “Зону”.
Рассказывая о том, как и почему он был охранником, Сергей написал, что после армии “мечтал о филологии. Об академической карьере. О прохладном сумраке библиотек”. Все это, конечно, неправда. Сергей хотел быть писателем, а не филологом. Что же касается “прохладного сумрака библиотек”, то это была дежурная фраза, которой Сергей меня изводил после того, как я наивно поведал ему о своих академических амбициях.
Филология Сергея интересовала мало. Он ненавидел литературоведческий жаргон и с удовольствием вспоминал приятеля, списывавшего для предисловий ученые абзацы из вводных статей к книгам других писателей.
По-моему, Сергей просто не верил в существование такой науки. Тогда мне это казалось ересью, сейчас – гипотезой. Будь филология наукой, ее открытия не зависели бы от таланта исследователя – мы ведь не нуждаемся в гении Ньютона, чтобы пользоваться его законами.
В отличие от природы, литература состоит из неповторяющихся явлений. Если они повторяются, то это не литература.
Со словесностью можно разобраться только на ее условиях. Поэтому лучше всего о литературе пишут те, кто ее пишут. Эту мысль Довлатов сформулировал четко: “Критика – часть литературы. Филология – косвенный продукт ее. Критик смотрит на литературу изнутри. Филолог – с ближайшей колокольни”. Отсюда следует, что все хорошие критики – писатели.
Лучшим из них у нас считался Синявский. Сергей собирался посвятить Абраму Терцу статью о Гейченко, директоре Пушкиногорского заповедника. Называться она должна была “Прогулки с Дантесом”.