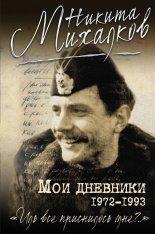Джентльмены-мошенники (сборник) Андерсон Фредерик
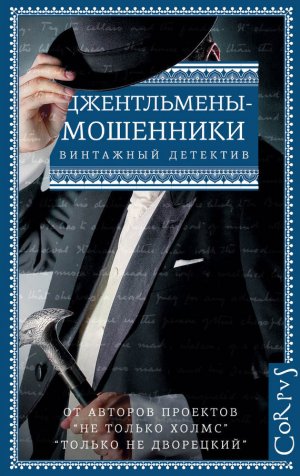
– Что за черт устроил вечеринку в такой час! – воскликнул инженер, глянув на часы.
Было без пяти три. Он взбежал по железным ступеням на галерею у южной стены и посмотрел в окно. Череда небоскребов на самом юге острова переливалась, как гора желтых бриллиантов, – светилось каждое окно вплоть до самых крыш.
Дежурный инженер так всю жизнь и вспоминал тот день как “когда в три часа ночи жахнуло четыре тысячи ампер!”, а патрульный Ноль-Ноль-Четыре – как “день, когда я не пошел на рыбалку”. Когда время подошло к семи утра, полицейские кордоны все еще перекрывали всю Фултон-стрит до Уильям-стрит, Уилям-стрит до Перл-стрит, практически всю Перл-стрит до того места, где это скрюченное недоразумение во второй раз пересекается с Бродвеем, – и вниз по Бродвею до начала оцепления на перекрестке с Фултон-стрит.
В конце концов чехарда сосредоточилась вокруг одной точки на Датч-стрит, где располагается новое здание “Ювелирных мануфактур” – в двух шагах от Мэйден-лейн. Здание это начинено новейшими достижениями из мира противовзломных и противопожарных устройств и считается абсолютно несгораемым.
Простодушные авторы воскресных изданий не раз пытались подсчитать, сколько золота и драгоценных камней проходит за год через этого гиганта – ведь он полностью принадлежит ювелирам. Но для такой сложной математики необходимо знание логарифмов. Рыцари больших дорог также время от времени замирали напротив ювелирного небоскреба и с тоской вглядывались в окна, каждое из которых, казалось, заговорщически подмигивало. Впрочем, если они надолго забывались на одном месте, какой-нибудь незнакомец похлопывал их по плечу и предлагал… нет, не зайти внутрь – проваливать.
Такой старый добрый пережиток времен великих сыщиков, как полицейский периметр в районе Мэйден-лейн, давно канул в Лету. Публика была не в восторге, когда наряды полиции в штатском указывали гражданам, куда ходить по улицам города, даже если эти граждане обладали богатым уголовным прошлым. Но между собой союз ювелиров всегда признавал достоинства этого метода, поэтому они поддерживали наблюдение за улицами за свой счет.
В семь утра два наряда – один полицейский, второй в серых униформах, – не дождавшись ответа на долгий стук в огромные бронзовые ворота, запертые на ночь, взялись за кувалды и отбойные молотки. Вскоре ворота были открыты. К этому времени всеобщее волнение только усилилось, потому что на грохот молотков не явилось ни души, хотя “Ювелирные мануфактуры” находились под охраной и днем и ночью. Все окна в здании светились, как и в соседних домах, демонстрируя, что чья-то рука уже успела после первой тревоги пройтись по выключателям. Наконец остались лишь внутренние двери. Открыть их оказалось гораздо проще.
На полу перед клеткой лифта лежал капитан ночной стражи – связанный и с кляпом во рту. С головы его, пятная волосы и лоб, тянулась струйка крови, впрочем уже подсохшей. Капитана развязали, но он оказался в таком тяжелом состоянии, что пришлось немедленно отправить его в больницу Гавернор.
В лифте спасатели обнаружили еще двоих ночных сторожей, связанных спина к спине и в придачу придушенных веревками до бессознательного состояния. Их усыпили хлороформом, и они до сих пор почти ничего не соображали, так что толку от них не было никакого. Да и позже они рассказали лишь, что на них набросились, повалили на землю и связали. Оба ничего не видели.
На полу… лежал капитан ночной стражи – связанный и с кляпом во рту.
Капитаны обоих нарядов немедленно позвонили начальству. Они нашли глаз бури!
Заместитель комиссара полиции Бирнс когда-то служил в разведке, но правительство города сманило его из-за отличного знания преступного мира. Капитан Данстен, руководитель частной охранной корпорации – той самой, чья система сигнализации как раз переживала свою минуту славы, – был правой рукой заместителя комиссара по правительственным делам и обладал не только отличным знанием преступного мира, но и достаточными техническими навыками, чтобы разработать охранную систему, которую все знатоки посчитали абсолютно неуязвимой. И вот его противовзломное устройство оказалось клубком бесполезных проводов!
Было перерезано три главных кабеля; когда патрульный Ноль-Ноль-Четыре вытряхнулся из койки по тревоге, сигнальные лампы на щите управления на Джон-стрит показывали удивительное: в одно и то же время кто-то взламывал тысячу семьсот с лишним сейфов! О помощи взывали более тысячи семисот хранилищ, ломящихся от несметных богатств.
Справедливости ради отметим, воззвали они не совсем одновременно: хитрый вор перерезал кабели с задержкой в минуту. Сначала пала связка из почти пятисот пар проводов в свинцовом кожухе – нервные окончания всех сейфохранилищ под Сидар-стрит. В шоке от масштабов катастрофы, власти оцепили эту крошечную улочку, да так плотно, что казалось, проскочить невозможно.
Затем загорелся щит управления второго района, а еще через шестьдесят секунд и третий присоединился к светопреставлению. Именно тогда полицейское оцепление и растянули к северу до самой Фултон-стрит, на что были брошены все резервы вплоть до Сто двадцать пятой улицы[102].
Бирнс и Данстен, призванные к зданию “Мануфактур” с разных концов города, прибыли одновременно. Ситуация сложилась чрезвычайная, однако, едва их глаза встретились, они пожали друг другу руки и расхохотались. С таким вавилонским столпотворением ни один из них еще не сталкивался.
– Взяли кого-нибудь? – поинтересовался Данстен. – Готов спорить на что угодно: человек, которому хватило ума разом сломать семнадцать с половиной сотен сигнальных устройств, вам не дался!
– Сколько-то народу арестовали, как обычно, – ответил Бирнс. – Бродяги, пара поломоек, несколько истопников из небоскребов и так далее. Жаль их, конечно, но ничего не поделаешь. Из интересного был только один тип с репортерской карточкой, но он задурил голову лейтенанту и проскочил через оцепление. Ну что, капитан? – продолжал заместитель комиссара, повернувшись к одному из своих подчиненных. – Что скажете? Где они порезвились?
Капитан полиции отдал честь и препроводил их на второй этаж здания. Весь этаж принадлежал Людвигу Тельфену.
Если вам посчастливилось иметь во владении украшение с камнем необычайно чистой воды, то, скорее всего, взяв лупу, вы обнаружите на обратной стороне значок, составленный из каллиграфических “Л” и “Т”. И можете даже не сомневаться: если над золотой оправой потрудился Людвиг Тельфен, то обрамленные в нее камни превосходят ее в цене стократ, какой бы сложной и тонкой ни была работа, хоть по образцу самого Бенвенуто. Согласно одной нашумевшей истории, Людвиг Тельфен однажды отказался работать над некоей знаменитой жемчужной брошью, которая обошлась в сто тысяч одних только налоговых пошлин. Отказался, потому что жемчуга были поддельные. Из десятка ювелиров и знатоков определить подделку смог только он.
– Ох! Старина Тельфен! Плохо дело! – воскликнул Бирнс.
Двери в чертоги Тельфена стояли нараспашку. Картину дополняла уродливая дыра в стене. Тут Бирнс осознал всю дерзость преступного замысла – а ведь он чего только не повидал на своем веку.
– Какая беспардонная работа! – сказал он, повернувшись к Данстену. – В котором часу началась тревога?
– Ровно в два сорок пять! И что началось! Я тогда спал наверху. Думал, крыша обвалилась! Потом вторая тревога, третья – тысяча семьсот пятьдесят шесть сейфов разом! Надеюсь, никогда больше не услышу такой трескотни.
– Тысяча семьсот пятьдесят шесть сейфов разом! – повторил Бирнс.
Они вошли внутрь, внимательно осматриваясь. Вот выбитая дверь – по полу рассыпано битое стекло. Пока почти тысяча восемьсот сирен надрывались: “Помогите! Воры!” – преступник направился прямиком к своей цели.
В том, что эта цель находилась здесь, сомневаться не приходилось. Знаменитый сейф Людвига Тельфена стоял прямо посреди комнаты. Ограждавшая его стальная решетка была смята, будто ветошь. Этот сейф так часто и подробно описывали в газетах, что скажем о нем только пару слов. Не удовлетворившись гарвеевской сталью[103], строители со всех сторон залили его армированным бетоном толщиной в восемнадцать дюймов[104].
Сейф стоял в центре комнаты, как квадратный склеп в подземной усыпальнице. Мало было открыть сложнейшие замки. Чтобы добраться до сейфа, нужно было опустить подъемный участок пола из сплошного бетона. И он был опущен! Бетонный блок находился на шесть дюймов ниже пола. Бирнс вскрикнул в изумлении и ринулся вперед. Он повернул колесо – огромная дверь открылась! Как живой, сейф разинул рот перед собравшимися, демонстрируя свое темное нутро. С неописуемым жестом Бирнс отвернулся. Все было кончено.
Когда дверь сейфа открылась под достаточным углом, внутри вдруг засияло множество ярких ламп. На дне лежало грубоватое с виду устройство из двух необычно длинных, изолированных друг от друга графитных стержней, присоединенных к электрическому трансформатору вроде тех, какими пользуются сварщики.
Там же валялась куча мятых конвертов – все пустые. Стальные внутренние дверки едва держались на покосившихся петлях, все ячейки были пусты. Даже Бирнс – приземленный прагматик Бирнс, которого куда больше трогали дела, чем поэтические намеки, – поймал себя на том, что пытается разобрать подписи на пустых конвертах. За каждой буквой здесь таилась история сокровищ, мужской жадности, женского тщеславия и слез. Сколько пропало? Сколько осталось? Это знал старик Тельфен – только Тельфен и знал.
Но вор – ах, что это был за вор! На дне сейфа, в сторонке, лежала добыча, достойная короля. Редкие узоры, выполненные на дорогих металлах, тончайшие корзинки, сотканные из золотых нитей, не толще шелковых, завитки из неподатливой платины, с огромным терпением превращенные в крошечные оправы, готовые принять свои драгоценные камни; почти средневековое убранство, заказанное для жены мультимиллионера по случаю ее публичного выступления, – все эти вещи, сами по себе внушающие благоговение, были отброшены, как сор, не достойный тех шедевров, с какими он хранился в одном сейфе.
Пока в ужасе надрывались семнадцать с половиной сотен тревожных звонков, пока полицейские кордоны перебрасывали с одного места на другое, пока хранители немыслимых сокровищ метались в поисках тысячи воров – или одного на тысячу, – этот виртуоз твердой рукой вскрыл самый драгоценный сейф в городе и с хладнокровием истинного ценителя осмотрел, взвесил, отбраковал и унес столько, сколько его душе было угодно!
Наконец-то явился и сам Людвиг Тельфен, бледный как мел. У него было умное, строгое лицо-маска, длинный нос и губы тонкие, как трещина в слоновой кости. Сейчас смотреть на него было страшно. Бирнс уже успел развернуть полевой штаб, и к нему то и дело являлись лейтенанты за очередной порцией кратких команд. Он усилил оцепление вокруг квартала, в результате чего, выражаясь полицейским языком, четыре улицы, взятые в кольцо кордонов, превратились в сплошной забор. Но Бирнс лучше всех понимал тщетность принятых мер. Он стягивал оцепление лишь потому, что подобное решение было очевидным и оставался один шанс на тысячу, что пташка из гнезда еще не улетела. Газетчики осаждали кордоны со всех сторон – но с тем же успехом они могли бы пытаться подоить быка. Улицы пестрели экстренными выпусками, к непроницаемому полицейскому кордону стекались толпы, пока в конце концов не образовалась давка. Но никаких новостей, кроме той, что в ночи сработало почти две тысячи тревожных звонков и в результате богатейшая в мире коллекция золота и драгоценных камней, мечта любого взломщика, осталась без защиты, не было.
То, что полицейские резервы всего острова согнали в оцепление, взбудоражило умы так, что невозможно вообразить. Дьявольский в своей простоте и гениальности механизм, практически неуязвимый за многократной защитой, выведен из строя одним ударом: так ураган опустошает прерии или наводнение поглощает долину.
Банкиры, брокеры, торговцы, ювелиры по камням и по металлам – вся аристократия торговли, все цветы капитала, пышным цветом разросшиеся в этом квартале, – все они с чрезвычайной назойливостью ринулись к оцеплению, пытаясь прорвать блокаду; но кордоны подчинялись лишь человеку с квадратной челюстью, квадратными усами и квадратными же носками ботинок, который заседал в конторе Людвига Тельфена, изучая мощные гидравлические ножницы, найденные в техническом люке на Нассау-стрит. Лезвия этих ножниц обладали необычайной мощью – с таким инструментом и дитя перекусило бы двойной стальной прут, как сосиску. Аварийная служба охранной сигнализации уже обнаружила, где были перерезаны кабели, когда начался ночной переполох. Со схемой, где была прорисована каждая магистраль гигантской противовзломной нервной системы, они прошлись по главным кабелям, от люка к люку, пока не нашли один особенно ржавый – тот самый, на крышке которого недавно устроился толстый автомобилист в очках, пытаясь рассмотреть астрономические неполадки в своей машине.
Под люком прятался весьма просторный колодец – достаточно вместительный, чтобы в нем помещались кабельщики, то и дело проверявшие сохранность сети с новейшими инструментами, известными науке.
Хитрец, перерезавший провода, явно провел там некоторое время. Дюжина окурков, разбросанных по бетонному полу, подтверждала, что он ждал назначенного мига без всякого нетерпения. Завершив злодеяние, он оставил на месте преступления гидравлические ножницы – что бы это ни значило – и потрудился аккуратно закрыть люк крышкой. Вероятнее всего, он скрылся по Бродвею, то есть успел пробежать около сотни ярдов, пока не явились первые наряды полиции. Лезвия ножниц, будто масляной пленкой, были покрыты медью и свинцом. От всего этого веяло таким оскорбительным хладнокровием, что Бирнс рвал и метал.
К восьми утра для возмущенной толпы банкиров и ювелиров была собрана опознавательная комиссия. Каждый должен был доказать свою личность, после чего его запускали внутрь и разрешали в сопровождении охраны проинспектировать сейфы. Сокровищницы открывались одна за другой, но все оказывались нетронутыми. Их передавали в распоряжение владельцев, а охрана переходила к следующим – и так далее. Опись всего квартала закончилась лишь к полудню.
Из всего квартала пострадал только сейф – знаменитый сейф! – Людвига Тельфена. Итак, криминальный гений сломал систему охраны всего квартала, чтобы добраться до единственной добычи. Бледный как мел Тельфен, сохранивший непроницаемое лицо даже в такой час, по одной расшифровал надписи на пустых конвертах. В десять утра ноги у него подкосились, и знаменитого ювелира унесли. Пропало распятие Бентори с его уникальным, ни с чем не сравнимым сапфиром, пропала жемчужина Долгоды, пропал печально знаменитый желтый алмаз – алмаз Саффаранов! – индийский рубин, известный под названием Колодец, нежно-голубой гиацинт с начертанным на нем символом, который не могли объяснить величайшие археологи, и чертова дюжина бриллиантов без оправы, тщательно отобранных по цвету и размеру. Этот сейф обокрал не простой вор, а настоящий художник!
Как мы уже говорили, одетый в бетон сейф Людвига Тельфена стоял в центре комнаты, словно склеп в усыпальнице. Это был истинный монолит, в десять раз больше любого слона. Поставь перед таким сейфом рабочего с холоднотянутым отбойником и предложи ему проникнуть внутрь за восьмичасовой рабочий день – он лишь рассмеется. И все же толщу бетона пронзала дыра толщиной в две руки, ведущая прямо к сокрытому механизму. Кстати, он и сам по себе считался неразрушимым. Но нет! Тот же ум, что вычислил, в каком месте продолбить бетон, и придумал, как это сделать, играл с сейфом, точно с игрушкой. Ну и что, что сотни людей сделали его неприступность целью своей жизни? Маленький заряд взрывчатки в нужном месте разом убил сложное устройство сейфа, и каким бы безупречным ни был его часовой механизм, сломанный, он оказался набором бесполезных шестеренок.
– Понимаете, что это такое? – спросил Бирнс, заглянув в дыру в бетоне. – Честно говоря, вся эта техника выше моего разумения.
– Пока нет, – ответил Данстен, – но сейчас разберусь. – Через трансформатор он присоединил графитовые стержни к электрическому распределителю в коридоре. – Если я не ошибаюсь, то, когда включено электричество, через эти стержни идет разряд в тысячу ампер. И это при том, что одной десятой ампера хватит, чтобы убить человека. Вы только посмотрите!
Он пнул ногой выключатель – все озарилось голубоватым сиянием, – и между концами двух стержней с чудовищным шипением прострелила яркая молния. Стержни он держал голыми руками.
– Совершенно безопасно! – воскликнул он в ответ на смятенный окрик Бирнса.
Данстен поднес шипящую молнию к сейфовой стене. Бетон сначала будто бы съежился, оплавился и, наконец, испарился – осталась лишь мельчайшая пыль в воздухе.
– А нам говорят, будто бетону не страшен никакой пожар. В Сан-Франциско, может, так и вышло. Но вы только посмотрите! Бетон выдерживает жар в две тысячи градусов, но такого накала не выдерживает и он. Бирнс, – вскричал он, вдруг посерьезнев, – когда они настолько хороши, нам их не побороть! Нам просто мозгов не хватит – вот и весь разговор!
Капитан Полпенни, голубоглазый сын Йоркшира, патрулировавший по ночам берега Рэритан-Бей, чтобы днем водить своих клиентов по самым рыбным местам, долго дожидался тем памятным утром патрульного Ноль-Ноль-Четыре у затхлой верфи Хьюгенотс. В конце концов он плюнул и отправился проверять, не попалось ли в его верши омаров.
А патрульный Ноль-Ноль-Четыре все утро продремал на своем посту на Фултон-стрит, смутно догадываясь: разразившаяся по соседству катастрофа столь грандиозна, что даже это сонное царство для разнообразия пробудилось ото сна. В целом его скорее радовало, что на этом кладбище все-таки нашелся хоть какой захудалый, да кролик. Такой суеты за свой краткий пока срок службы он еще ни разу не видел. Вскоре после полудня поступил приказ разойтись – и оцепление, будоражившее умы толпы, будто растворилось в воздухе. Наш патрульный купил “Пресс”, и его худшие страхи подтвердились: в одиннадцать тридцать три у Хука[105] начался отлив. Теперь оставалось только раздеться, лечь в кровать и как следует выспаться. Медленным шагом он двинулся к участку Олд-Слип. Улицы приобретали привычный вид. Грохот грузовиков и запах рыбы с базара Фултон заглушали все вокруг.
Но какой удар его ждал! Он поднялся по ступеням, протопал через общий холл, чтобы доложить о своем прибытии… и тут его ноздри заполнил аромат сигарного дыма. Сонный капитан с видимой усталостью откинулся в кресле с ногами на столе, наполняя комнату завитками, – как будто впервые нашел покой, о каком до сих пор читал только в книгах.
Патрульного Ноль-Ноль-Четыре встревожил даже не легкомысленный вид капитана, задравшего ноги выше головы. Но обертка сигары! Яркий красно-синий ободок! Патрульный почесал затылок и напряг память…
Он с трудом вытягивал натертую ногу из ботинка, когда до него наконец дошло, в чем дело. Не было никаких сомнений. Его сигара! Ноль-Ноль-Четыре запомнил ободок. Эту сигару подарил ему любезный, хоть и не слишком общительный джентльмен в сломанной машине… даже две сигары, одну для брата! Но подлец капитан вытащил их из шлема, пока…
Патрульный Ноль-Ноль-Четыре глупо уставился на паука, трудившегося в углу оконной рамы над архитектурным сооружением невообразимой, недоступной человеку сложности.
Он медленно засунул многострадальную ногу обратно в ботинок – голова у него кружилась, как карусель на Кони-Айленде, – наклонился и в полубеспамятстве принялся завязывать шнурки. Затем содрогнулся, как будто от холода, и отгрыз себе краешек ногтя.
– Маллиган, – сказал он коллеге-патрульному, который собирал вещи в другой стороне комнаты, – что это я такое слышал, будто тебя переводят?
– Да чтоб они все провалились! – процедил тот сквозь зубы. – И все потому, что кто-то влез в канализационный люк, пока я обходил другой конец маршрута! Вот я тебя спрашиваю: до чего мы докатились? Я на этом переводе потеряю жалованье за десять дней, попомни мое слово!
Будто в полусне, патрульный Ноль-Ноль-Четыре вышел на улицу. На углу Нассау и Мэйден-лейн возле того самого ржавого люка, лежа на котором его ночной знакомый совсем недавно заползал под машину, как раз собиралась толпа. Тут же, на бензиновой горелке, стояла холодная на вид банка с оловянным припоем. Люк стоял открытый, колодец был полон людей – видимо, сантехников. Их было столько, что колодец походил на ловушку с осами. Патрульный Ноль-Ноль-Четыре, разинув рот, точно чукучан, вынырнувший подышать из илистых вод, слушал рассказ дежурного постового о том, что произошло. Затем, в нарушение всех правил и уставов, он засунул руки в карманы и зашагал на север. На Датч-стрит он повернул к зданию “Ювелирных мануфактур”, где на втором этаже после весьма неловких объяснений нашел заместителя комиссара Бирнса. Патрульный Ноль-Ноль-Четыре красиво изъясняться не умел, а сейчас, в процессе получения выволочки от начальства, которое к тому же смотрело на него как-то странно, – тем более.
– “Херкимер” 1907 года, – повторил заместитель комиссара. – Очень хорошо. Доложитесь в штабе у Фарли. Увидимся там.
Надо иметь в виду, что в Нью-Йорке и окрестностях около сотни тысяч автомобилей. Модель, количество лошадиных сил и владелец каждой – все тщательно задокументировано. Такой учет требует бесконечного терпения… или бесконечного количества клерков, чтобы разделить это терпение на всех. “Херкимер” 1907 года был выпущен небольшим тиражом, и производство очень быстро остановили. Несколько этих дряхлых старичков еще ползали по городу – от ремонта до ремонта, – уставшие от жизни.
В три часа дня к штабу на Малберри-стрит подъехал автомобиль. Это был “херкимер” 1907 года. Из него вышли двое гладко выбритых и лощеных малых – явно детективы. За ними показался мужчина средних лет – седоватый, бледный и напуганный. Он нервно пожевывал сигару с красно-синим ободком.
Вдруг у обочины резко затормозил посыльный на велосипеде; смерив глазами арестанта – а это, несомненно, был арестант, – он поймал его за рукав и сунул ему конверт.
– Мистер Мервин! – выдохнул мальчик. – Я всю дорогу за вами ехал!
Не будь мистер Мервин и без того в чрезвычайном потрясении, он бы поразился. Но он лишь поднял бессмысленный взгляд с конверта на мальчика, а затем на толпу журналистов, которых теснили патрульные. Его быстро препроводили к заместителю комиссара. Бирнс подкатился к нему навстречу, не вставая со стула.
– Мервин! Ай-ай! – воскликнул обычно сдержанный Бирнс. – Вы-то как во все это вляпались?
Судя по лицу Мервина, он и сам не понимал, зачем двое детективов мягко, но решительно настояли, чтобы он отвез их в штаб следствия, только потому, что у него есть восстановленный “херкимер” 1907 года. Бирнс отпустил остальных кивком. Затем он повернулся к Мервину. В голове не укладывалось, что этот чудак, этот зануда, эта головная боль всей полиции мог быть каким-то образом виноват в катастрофе, случившейся нынче утром. Что ж – он сжал зубы и, грозно сверкнув глазами на стоявшего перед ним человечка (дрожащего, но не сломленного), прорычал:
– Ну! Быстро! Выкладывайте!
Было в Бирнсе что-то такое, что несчастный, оказавшийся у него на пути в неподходящее время, готов был вывернуться наизнанку от ужаса. Но чудак Мервин повел себя неожиданно. Он вдруг выпрямился. Он сжал в кулаке конверт и потряс им в воздухе. Он засверкал глазами.
– Я доказал! – Его голос был полон ликования. – Весь город над вами смеется! Система охраны! Ха! Раз, два, три! Я перерезал ваши кабели – да! Да тут бы и младенец справился! Я сломал вашу систему! Ха-ха!
Бирнс бросился на него с ревом, схватил за грудки и грохнул о стену.
– Вы с вашими проклятыми патентами десять лет нас изводили! – зарычал он. – Чтобы ни слова о них! Возьмите себя в руки! Кто велел вам это сделать? Кто вскрыл сейф Людвига Тельфена и набил карманы всем, что его душа пожелала, пока вы резали кабели вашими адскими ножницами? Говорите! Кто? Быстро!
Заместитель комиссара в бешенстве отшвырнул незадачливого изобретателя в сторону и отступил назад.
– Что? Сейф Тельфена? Набил карманы? Что вы, что за странные шутки! Я… я гений! Я хотел доказать, что моя система… Тельфен, говорите? Он… он…
– Он! Он! Да, он! Кто он?
Изобретатель, вот уже много лет с неуемной назойливостью пытавшийся навязать городу свою бестолковую электрическую сигнализацию, постепенно пришел в себя.
Бирнс по одной собирал детали мошенничества. Итак, в прошлые выходные во время визита в Атлантик-Сити Мервин познакомился с обаятельным юным денди. Тот с большим интересом, хотя и с сомнением, выслушал любимую теорию Мервина об уязвимости нынешней системы безопасности, принятой в больших городах. Молодой человек, впрочем, выказал такое сомнение, что беседа перетекла в довольно разгоряченный спор и закончилась пари на тысячу долларов, что Мервин в любой день, в любой назначенный час при помощи простейшего инструмента сможет оставить закрома Нью-Йорка беззащитными. Тогда же они условились про день и час. Закончив рассказ, изобретатель улыбался, как ребенок.
– Я им всем показал! Я всем показал! – вскричал он, снова сдавшись на милость своей безумной гордости. – Одним махом! Теперь весь город знает, что его хваленая “система безопасности” хрупка, как…
– Прекратите! У нас проблемы посерьезнее, чем ваши глупые амбиции. Вы признаете, что перерезали кабели?
– Да-да, конечно! Это мои гидравлические ножницы у вас на столе. Этот молодой человек – гений. Иначе вы бы не поверили. Брат подвез меня на Нассау-стрит, и там мы дождались смены патрульных. Господи, да я знаю схему этих кабелей как свои пять пальцев! Проще не бывает! Наконец-то все поняли, какая вопиющая глупость… – В волнении он разорвал конверт, который до сих пор сжимал в руках. – Пари! Пари! Он все видел! Он расплатился! – кричал Мервин.
– Это от вора! – воскликнул Бирнс.
Вместе с чеком в конверте была записка, напечатанная на печатной машинке: “Поздравляю! Вы меня убедили!”
В поисках обаятельного молодого человека, который не только взломал сейф Людвига Тельфена, но и запудрил мозги уважаемому, хоть и фанатичному изобретателю, Бирнс посетил адрес, указанный на конверте. Разумеется, открывшая дверь хозяйка не узнала ни имени, ни описания, предоставленных Мервином полиции.
Так и закончилась ночь тысячи воров, занявшая свое место в анналах нераскрытых преступлений. Улики были, но слишком очевидные – вопиюще очевидные, – чтобы хоть к чему-нибудь привести. Незадачливый изобретатель лишился свободы до конца своих дней, оставшись, впрочем, счастливым, как ребенок, что достиг цели всей своей жизни.
Что интересно: одна из драгоценностей, столь тщательно отобранных вором из сейфа Тельфена, нашлась. Впрочем, ничто никогда не было доказано – остались лишь легенды. В самом начале судоходного участка реки Сагеней есть небольшая часовня, когда-то построенная рыбаками. В скалах над нею стоит статуя Девы Марии – дар спасшихся из пучины морской. Говорят, утраченное распятие Бентори висит в этой часовне. Также говорят – это, конечно, всего лишь совпадение, – что когда-то на этом самом месте чуть не утонул, но был спасен никому не известный до публикации его мемуаров магистр преступлений, несравненный Годаль.
IV. Контрапункт
За исключением известия о некоем мистере Джексоне из Кливленда, который ловким ударом в клубе “Поло Граундс” улучшил свой гандикап, в утренних газетах не сообщили ничего, что оправдало бы расходы на чернила и бумагу.
Все были за городом, и новости, как всегда, следовали за толпой. Серийные картинки и прочие регулярные развлечения безупречно заполняли свои колонки, в Эсбери актриса варьете загремела под арест за цельнокроеный купальный костюм, в Джерси суд присяжных зашел в тупик, потому что один из них не верил в смертную казнь, а хитроумные японцы – это уже совершенно точно – продолбили шлюзы Панамского канала риолитом, кордитом, максимитом et cetera, чтобы в психологически верный момент (в качестве вежливого объявления войны) один-единственный самурай под личиной цирюльника мог нажать кнопку и оставить большую часть наших супердредноутов по колено в грязи.
Годаль – несравненный Годаль! – лениво отодвинул свой завтрак и пролистал утренние газеты. Он с удовольствием отметил: только самые предприимчивые из них обнародовали, что Панамские шлюзы построены не из бетона, а из довольно взрывоопасных материалов. Большая часть изданий обошла эту щекотливую тему стороной. Годаль бросил газету на соседний столик, за которым завтракал его друг-космополит Адичи Якасава – или Якасава Адичи, смотря как посмотреть.
– Адичи, я вижу, вы опять за старое, – добродушно сказал Годаль.
Маленький японец несколько раз перевел неуверенный взгляд с газеты на Годаля и обратно. Он никогда не мог понять с этими западными людьми, искренни они или нет. Большинство из них не принимали его всерьез. И очень зря. Он медленно путешествовал вокруг света – так медленно, что домой собирался вернуться очень старым и мудрым. В Германии он вырезал деревянные игрушки, во Франции служил банкиром, в Англии торговал шелками, в Америке – писал в газеты. Дома Адичи занимался чем-то, чего нам никогда не понять. Здесь он изо всех сил пытался стать американцем… вот только мы ему этого не позволяли.
– Ха-ха! – ответил Адичи, все еще не зная, как реагировать. Годаль, с которым он был знаком еще в Берлине, Париже и Лондоне, никогда не говорил с ним свысока, зато имел привычку смотреть на него так сосредоточенно, что приводил в крайнее замешательство.
У Адичи был звонкий голос. Но во всем его лице лишь квадратные блестящие зубы вторили той веселости, которую предполагало его восклицание. Он несколько раз посмотрел на Годаля, дабы убедиться, что тот действительно желает начать беседу, но Годаль снова погрузился в чтение. На сей раз это был ранний экстренный выпуск дневной газеты, которую только что принес официант. Адичи вернулся к своему занятию – он покрывал лист бумаги узором, похожим на вышивальный мотив. Это были письмена его отцов, скоропись, ведущая начало из тех времен, когда даже о предках Бенна Питмана[106] никто и слыхом не слыхивал. Адичи владел печатной машинкой не хуже любого репортера, но думалось ему легче над родными закорючками. Сейчас он был занят тем, что переводил музыкальные ноты из общеизвестной нотной азбуки в свои фантастические идеограммы.
Годаль, следивший за ним в зеркало собственных очков, был страшно заинтересован – как, впрочем, и всегда, когда дело касалось Адичи.
Однако вскоре Годаль переключил свое внимание на газету. Немедленно вернувшись на землю, он вспомнил, ради чего вообще находится в городе в такую отвратительную жару. Биржевые сводки на первой странице!
В десять утра, на самом открытии торгов, на “Литтл Стил” налетели “медведи”[107], совершенно взбаламутив этот неугомонный ручей, питающий всю круговерть Уолл-стрит, – и это тогда, когда совет директоров думал, что наконец-то все схвачено и под контролем.
Это были отличные новости! Не потому, что вокруг “Литтл Стил” разворачивался очередной цирк, а потому, что биржа наконец взбудоражилась настолько, что попала на первые страницы газет. Годаль с нетерпением ждал этого момента вот уже несколько месяцев.
Через пять минут он уже сидел в своем автомобиле – маленькой мощной машинке, дышавшей легче, чем паровоз под гору. Через десять минут он уже был на Сидер-стрит и поворачивал ключ магнето, чтобы, когда он вернется, машина была наготове. Вполне возможно, что возвращаться придется в спешке. Наконец он бросил шелковый плащ и автомобильные перчатки в защищенную от пыли камеру сзади и натянул блестящий шелковый цилиндр. Цилиндр был ключом ко всему мероприятию. К перекрестку он двинулся легкой походкой, которую освоил в ранней юности, в ходе долгих и мучительных тренировок с известным фехтовальщиком.
Толпа брокеров, занявшая всю улицу перед фондовой биржей[108], бурлила, как вода на раскаленной сковородке. Кто никуда не спешил, тот пытался перекричать остальных.
Единственными островками спокойствия в этом безумии были выстроенные в ряд посреди улицы дряхлые клячи, запряженные в старомодные хэнсомы, да изредка проходящие мимо сытые господа, явно преуспевающие и солидные, в сюртуках и шелковых цилиндрах.
Оба исключения – лошади, жующие овес из торб, и шелковые цилиндры – представляли интерес для Годаля. Лошади – из-за их безграничного безделья. Эти создания являлись на Уолл-стрит ранним утром и выстаивали на месте до закрытия биржи. Ни одна из них не видела пассажиров с появления автомобилей. Буколический образ биржевого брокера неотделим от хэнсома: возможно, кляч держали для поддержания атмосферы. Некоторые из них стояли скрестив ноги, как декорации в летнем водевиле, другие взбрыкивали, третьи спали днями напролет, свесив морды почти к самой земле. Все кэбби до единого выглядели так, будто сошли с рисунков Фила Мэя[109] много-много лет назад.
Уличных кляч Годаль ценил как зрелище, но его интерес к господам в цилиндрах был совсем иной, и происходил он из страсти к воровству и приключениям. Зажиточные охотники за легкими деньгами, они и носа не совали на Уолл-стрит, если газеты не пестрели заголовками, что брокерам очень уж неймется что-нибудь купить или продать. Это были не игроки на бирже, а инвесторы. Они лишь пользовались очередной эпидемией близорукости, периодически заражавшей азартных игроков рынка, и довольствовались всего ста процентами на доллар в год.
Годаль ступил в обшитую красным деревом контору с золотой вывеской “Стерджес, Уилок и Ко, акции и облигации” и, кивая по пути знакомым, уселся в кресло в дальнем углу, поглядывая то на котировочное табло, то на рой брокеров, вившихся как мухи у несмолкавшего телеграфа. Годаль всю эту толчею не любил. Он пришел сюда не играть, пусть карты и лежали на столе раскрытые. Впрочем, “Литтл Стил” продолжала падать, и он не без удовольствия отметил, что вслед за ней устремились акции родственных предприятий, как стая мелких пичуг на хвосте у ястреба.
Тем временем на улице прогремел второй экстренный выпуск. На первой странице – шумиха на бирже; денежные мешки мчатся в Нью-Йорк на спецпоезде, заокеанские магнаты, в борьбе за каждую минуту, наперебой требуют монополии на радиосвязь. Рубрика “Последние известия” – свежайшие новости красными чернилами, доставленные в типографию в последнюю секунду, пока греется пресс, – отражала последние сводки всех обычных индустрий и железных дорог. Кого-то уже вышвырнули за борт. Кого – это Годаля не интересовало. Завидев сводки, он лишь пробормотал:
– Этого он ни за что не пропустит!
Был уже полдень, когда в холл вошел Уэллингтон Мэйпс. Он тоже был в сюртуке, застегнутом на все пуговицы, и цилиндре, невзирая на отвратительную жару и влажность.
Его сморщенное лицо и шаткая походка ничем не выдавали, что в свое время, каких-то десять лет назад, правительства всего мира считали нужным посылать шпионов, дабы быть в курсе мельчайших подробностей его жизни. В те времена сеть его агентов дотягивалась до любого уголка земли, и он содержал полный комплект президентов, министров и наследников трона, готовых при необходимости немедленно занять соответствующие посты.
Но это было до того, как старость взяла свое и он скрылся даже от ближайших друзей в полнейшем безвестии и уединении. Он все еще содержал официальную резиденцию, но где Мэйпс жил на самом деле, оставалось тайной почище загадки Сфинкса. Убежище он покидал, только когда на Уолл-стрит начинался кавардак и можно было поиграть с деньгами, которые носит ветер.
Именно этого человека, настолько пережившего свое время, что большинство напрочь о нем позабыло, и ждал Годаль. Сегодня он проследит старого лиса до самого логова.
И сейчас, разменяв девятый десяток, Мэйпс оставался удивительным зрелищем: высокий и костлявый, с орлиным носом и кустистыми бровями; один глаз стеклянный – настоящий когда-то вырезал малайский крис. В своем похоронном наряде он казался дряхлым и беспомощным, как траченный молью дьякон, но для своих преклонных лет был все еще очень силен. Руки у него были огромные; большой палец на правой руке на добрых полдюйма длиннее большого пальца левой, но при этом не толще сигары. Палец охватывал рубец, ровный, как кольцо, – напоминание о том, как один монгольский бандит однажды подвесил за этот палец все двести фунтов костей и мускулов Уэллингтона Мэйпса.
Мэйпс быстро покончил со своими делами. Как всякий игрок, следующий верной системе, все расчеты он подготовил загодя. Он расписался в бумагах – двумя пальцами правой руки, большой палец его не слушался. Огненным взглядом Мэйпс прошелся по лицам собравшихся у телеграфа. Лишь пара человек обращали внимание на то, что не касалось непосредственно телеграфа; они заметили старика и переглянулись, когда тот прошел мимо. Старик прошествовал к двери и, опираясь на внушительные медные перила, спустился к тротуару по мраморным ступеням. Годаль украдкой проследил за ним сквозь медную решетку окна, тонкую, как муаровый шелк. На последней ступени Мэйпс остановился и оглядел улицу.
Затем случилось чудо. Старик подозвал хэнсом!
Парадоксально: либо он пытался привлечь внимание, либо избежать его. Вполне возможно, он пытался достичь одного при помощи другого.
Кэбби во главе недвижимой очереди протер глаза, шмыгнул носом и сообразил, что происходит, только когда мальчишка-посыльный подтолкнул его в сторону старика, угрожающе потрясавшего тростью. Извозчик дернул за цепь, сложив подпорку под подножкой, гикнул – и зверюга, вздрогнув, вернулась к жизни. Хэнсом подъехал к обочине. При помощи привратника старик погрузился в кэб и без слов укатил прочь. Несомненно, инструкции кэбмен получит по дороге.
Годаль быстро отдал свои распоряжения, расплатился и промокнул чек той же промокашкой, на которой отпечаталась подпись Уэллингтона Мэйпса. Он перевернул промокашку. Можно было разобрать: “Сорок четыре тысячи трист…” Остальное терялось в путанице цифр.
Лишь через сорок пять минут глава спящих хэнсомов подкатил к дому на Седьмой авеню, достойному стать декорацией для “мелодрамы за 10, 20, 30 центов”[110]. Это был старый деревянный доходный дом, постепенно превращающийся в развалины. В одном пыльном окне висело объявление портного, а за углом болталась вывеска, сообщавшая прохожим, что когда-то, в век процветания, в развалине находилась контора плотника по имени Джоунс.
На углу здания – дом был треугольный, с двух сторон очерченный пересекающимися улицей и авеню – непрестанно крутился аляповатый парикмахерский столб, рекламировавший расположившуюся внутри парикмахерскую. Перед входом, заползая на тротуар, рос старый айлант, на глазах терявший свои нежные цветки. Под деревом играло несколько чумазых детишек. К стволу прислонился молодой человек, судя по набору инструментов и пятнам графитной смазки на лице – сантехник. Эта засаленная маска прятала самые острые глаза в Нью-Йорке – глаза несравненного Годаля.
Годаль быстро переоблачился из своего безупречного прогулочного костюма и был готов встретить Уэллингтона Мэйпса в этом обшарпанном районе во второй раз за три месяца. В прошлый раз, когда новости Уолл-стрит выплеснулись на первые страницы и выманили Мэйпса на биржу, Годаль проследил его обратный путь до этой парикмахерской, но у человека, за которым он последовал полчаса спустя, оказались в наличии оба глаза и рабочий большой палец правой руки, хотя во всем прочем он был точной копией Уэллингтона Мэйпса. Судя по всему, в тот раз старый лис прибегнул к услугам двойника.
Мэйпс вышел из хэнсома и нетвердым шагом подошел к двери, которая открылась перед ним изнутри. Все произошло как в прошлый раз. Когда дверь снова открылась, цирюльник – весь в белом – препроводил старика к ожидавшему хэнсому. И снова он был копией Уэллингтона Мэйпса, вот только дремлющий сантехник все-таки заметил сквозь ресницы, что старик внимательно осматривает окрестности – обоими глазами. Одного взгляда на его правую руку было достаточно, чтобы окончательно убедиться – это не Мэйпс. Годаль улыбнулся про себя. Все так просто – стоит только поработать головой.
Кэб двинулся прочь. Когда он поравнялся с поворотом, с ним разминулся второй кэб – еще один хэнсом с Уолл-стрит – этот поворачивал с Гринвич-авеню на Седьмую авеню. Вскоре завелся и лениво отчалил прочь стоявший напротив автомобиль. Не один Годаль интересовался перемещениями Уэллингтона Мэйпса. Лишь час спустя из парикмахерской показалась шаткая фигура, закутанная по самые уши; как по волшебству, тут же подъехал таксомотор – и старик исчез с глаз долой.
– На этот раз, дорогой друг, вы от меня не спрячетесь! – сказал Годаль себе.
Когда на Двадцать третьей улице таксомотор встрял в затор, в очереди за ним стоял маленький, прекрасно снаряженный мощный автомобильчик с чрезвычайно чумазым сантехником за рулем.
Дом был стар, но и в своем преклонном возрасте оставался образцом архитектурного величия. Парк при нем занимал примерно три акра с видом на реку. Под высоким обрывом берега пряталась железнодорожная ветка, протянувшаяся у тихих вод Гудзона. С трех сторон участок освещался окнами подступавших все ближе новых доходных домов. Повсюду, район за районом, вырастали восхитительные новостройки из терракоты и кирпича. Но от этого огороженного участка с заросшим газоном, запущенной живой изгородью и облезлыми заборами веяло Вашингтон-хайтс времен великой революции, когда город еще не двинулся на север. За гребнем, с другой стороны холма, росли тринадцать деревьев, посаженных собственноручно Александром Гамильтоном как символ первых штатов зарождающейся нации. В десяти минутах ходьбы к северу стоял исторический особняк с видом на реку Гарлем, где сначала британцы, а затем и американцы собирались за столом красного дерева, планируя предстоящие битвы.
Дом стоял в центре небольшого квадратного парка. В нем было три этажа и мансардная крыша. На реку смотрела покосившаяся веранда – с одной стороны подгнила балка, уложенная более века назад.
С предельным тщанием оценив обстановку, Годаль выбрал французское окно первого этажа, глядящее на реку. Кровь бурлила в жилах. Он крайне редко опускался до краж со взломом, только ради чего-нибудь уникального. Но сегодняшнее предприятие было поистине особенным. В свое время Мэйпс был аки лев рыкающий, и покушение на него или его имущество было чревато неминуемой карой. Но с годами все изменилось, и, беззаботно принявшись за дело, Годаль не ожидал, что ступает в сеть паука. Однако за вымыслом просто так не гоняются разнообразные транспортные средства. Трудясь над окном, Годаль размышлял, не выследил ли кто-нибудь Мэйпса, кроме него. Сам факт, что этот хитрый старик как минимум дважды виртуозно замел следы после своих появлений на Уолл-стрит, давал богатейшую пищу для воображения.
Для человека со способностями Годаля задача была предельно простой. Французское окно отворилось легко и бесшумно. Годаль очутился в просторной и, казалось, давно заброшенной комнате. За приоткрытой дверью позвякивало серебро. Мэйпс ужинал. Если информация Годаля была верна, при старике состоял единственный слуга. Слуга этот сейчас наверняка прислуживал хозяину за столом. Легким шагом вор прокрался в глубину комнаты и отодвинул пыльный гобелен, за которым скрывался проход в библиотеку.
Там были задернуты шторы и горела тусклая лампа. Эта комната была жилой, здесь приятно пахло. В углу стояло закрытое бюро. Рядом – небольшой сейф, утопленный в стену. Посреди комнаты, под абажуром газовой лампы – стол с грудой книг и всяких безделушек. В самом центре стола, на подносе, стоял графин виски с недопитым бокалом. У подноса было разложено несколько листов бумаги, перо, чернила еще не просохли. Слухи не обманули. Этот человек, иссушенный алчностью за более чем пятьдесят лет активной политической жизни, в старости заимел странную причуду. Он увлекся музыкой.
Мэйпс приохотился перекладывать на западные ноты затейливые песнопения некоторых восточных племен, которые он слышал в своих путешествиях. Когда-то не было такого места на земле, куда он не сунул бы нос, невзирая на любую опасность. Все, что у него осталось с тех давних времен, – память об удивительных песнопениях, значение которых затерялось во тьме веков. Говорили, что старик перекладывает их на ноты без устали. Судя по всему, он только что протрудился над ними несколько часов – немыслимые такты, начертанные дрожащей рукой, досыхали на бюваре. Годаль взял один лист и проиграл мотив в голове. Впрочем, его привел сюда не интерес к экзотическим мелодиям. Он искал нечто другое, но был готов воспользоваться и безобидным с виду увлечением старика, если увлечение это могло послужить его целям.
Скрип отодвигаемого стула вернул Годаля в настоящее. Он скользнул за бархатную штору и притаился. Ожидание обещало быть долгим, но оно того стоило.
Вошел Уэллингтон Мэйпс, за ним слуга, на ходу зажигая свет. Окна библиотеки были так плотно завешены шторами, что даже яркий свет люстры не пробивался наружу. Слуга немедленно ретировался. Старик вынул из кармана ключ и запер дверь. Он хотел побыть один. Годаль заволновался. Весь успех его предприятия зависел от следующего поступка Мэйпса. Если он просто уснет чутким сном восьмидесятилетнего богатыря, этого будет мало. Старика необходимо как следует одурманить.
Мэйпс уселся в кресло и некоторое время бесстрастно смотрел прямо перед собой. Наконец он поднял со стола медный поднос и осторожно поставил его на пол рядом с креслом. Затем взял лежавшую рядом связку ключей, положил руку с ключами так, чтобы они висели над подносом, и откинул голову.
Так значит, все правда! Уэллингтон Мэйпс и сейчас не бросил своей привычки. Еще в юности он разложил науку сна на составляющие. Забыться настолько, чтобы уронить ключи на поднос, и тут же проснуться от их грохота – вот и весь сон, которого ему хватало на долгие часы трудов. Этому фокусу он научился у одного знаменитого врача и практиковал его так же ревностно, как и великий доктор.
Старик дышал все ровнее и ровнее. Неслышными шагами Годаль прокрался в центр комнаты, не сводя глаз с ключей. Внезапно пальцы старика обмякли, и связка упала, но грохота не последовало – ключи перехватила мягкая рука вора. Годаль с улыбкой выпрямился и посмотрел на связку у себя в руках. Старик был его пленником – по крайней мере на время.
Годаль тихонько опустился перед спящим на колени и осторожно прикоснулся к его пергаментной шее большим и указательным пальцем. Мягко, как струей воды, он пережал пульсирующую сонную артерию. Теперь сознание не вернется, пока кровь не восстановит свой нормальный ход. Такому приему Годаль научился на Яве, где им пользуются очень многие. Но этим изобретением древних яванцев он не удовольствовался. Свободной рукой Годаль достал из кармана жгут мягкой резины и спокойно, будто оперируя пациента под эфиром, надел его Мэйпсу на шею, подтянул, подсунул на место своих пальцев две мягкие резиновые палочки – и отступил, любуясь работой. Теперь – за дело.
Во-первых, бюро. Шанс был невелик, но не проходить же мимо! Замок открылся с громким щелчком – Годаль замер и прислушался. К счастью, Уэллингтон Мэйпс проводил вечера за запертыми дверьми, вдали от глаз даже самых доверенных слуг. Внутри в беспорядке лежали письма и заметки, в основном о делах, ведущихся за наличные, поступающие со всех концов света. Но Годаль искал не деньги. Его внимание привлекло одно письмо. Он поднес конверт к свету и заметил, что письмо уже кто-то вскрыл и снова запечатал. Но кто? Точно не Уэллингтон Мэйпс – тот просто надорвал конверт сверху. Годаль осмотрел второй конверт, третий – каждое письмо, полученное этим вековечным стариком, кто-то вскрывал. Заинтересовавшись, Годаль вытащил содержимое из конверта. Оборванный лист бумаги, почти целый. Какой-то никчемный график с очередными акциями – азартные биржевые игроки составляют графики, совсем как синоптики в погодных бюро. Ничего такого, что оправдало бы хлопоты по перехвату почты.
Годаль замер и прислушался.
Годаль – мастер шифров – изучил слова, порядок букв… Удостоверившись, что никакого тайного послания в них не содержится, он оторвался от этого занятия и перевернул письмо. Сверху виднелось тиснение – “Уэллингтон Мэйпс”. И эту бумагу старик использовал для своей диковинной музыки. С дюжину нотных строчек было покрыто закорючками нот. Годаль пробежался по ним глазами – какофония, ни ритма, ни мелодии. Второе письмо было на таком же листе, только целом и без музыкальных отрывков. Третье и четвертое тоже. На некоторых листах попадались отрывки странных мелодий, вроде тех, что сохли на столе, прямо перед тяжело дышащим хозяином дома. Каждое из посланий начиналось с R. Судя по всему, бережливый корреспондент использовал для писем черновики Уэллингтона Мэйпса.
Засунув несколько писем в карман, чтобы хорошенько исследовать на досуге, Годаль отложил остальные и продолжил обыск.
На сейфе был сложный замок, но ловкие пальцы взломщика слышали щелчки механизма и легко справились с комбинацией. Было что-то фантастическое в той неустрашимости, с которой работал Годаль всего в двух шагах от спящего хозяина дома. Время от времени он замирал и прислушивался, но ничто не предрекало опасности. В сейфе обнаружилась всякая ерунда: деньги, бумаги, шкатулка иностранных монет, несколько резных безделушек грубой работы и украшений из золота, серебра и драгоценных камней – каждое, несомненно, со своей долгой кровавой историей. Годаль на них и не посмотрел. Он продолжал обыскивать комнату – каждый закуток, каждую щелочку, – но напрасно.
Наконец он с чрезвычайной осторожностью пробежался беглыми пальцами по карманам беспамятной жертвы. Пояса на Мэйпсе не было. Может, на шее? Да! Под рубашкой на шнурке висел кошелек. Дрогнувшей рукой Годаль развязал шнурок и запустил пальцы внутрь. Нашел!
Это было кольцо, целиком вырезанное из циркона, рассчитанное на мужской большой палец. На камне было вырезано несколько крошечных символов на языке, мертвом вот уже две тысячи лет. Из кармана Годаль достал другой камень такого же цвета и размера. На ощупь они были абсолютно одинаковые, но даже мастерство Годаля не позволяло в точности повторить символы оригинала. Положив подделку в кошелек, он вернул шнурок на место. Если повезет, Мэйпс обнаружит подмену только через несколько месяцев, а может, и никогда. Но все же копия ничего не стоила, тогда как оригинал, который перекочевал в просторный футляр от часов, был талисманом, знаком королевской власти, ключом от всех дверей; само обладание им в незапамятные времена даровало владельцу неограниченный доступ в самые заветные тайники древней империи. Сегодня это был всего лишь сувенир, безделица, но для Годаля он стоил всех опасностей этой ночи – еще отнюдь не миновавших. Мэйпс прикарманил его в сокровищнице одного языческого принца, которого ему однажды довелось убить. Пожалуй, лучше будет, если наследники и назначенцы этого принца не узнают, что чудесный камень сменил владельца.
Несмотря на все сложности, дело того стоило – по крайней мере для того, кто крал во имя искусства. “Когда-нибудь, – думал Годаль, – надо будет передать его в Британский музей, пусть он там затеряется среди прочих невиданных камней и символов”. Лишь Годаль и Британский музей знали цену этому камню – ну и Уэллингтон Мэйпс, который носил его в кошеле на шее, не снимая ни днем ни ночью.
Годаль осторожно поправил голову старика на подушках, а также костюм и позу. Пока все шло хорошо. Оставалось только ускользнуть – и одновременно пробудить жертву к жизни.
– В обмен на побрякушку я дарю вам полчаса времени, – кивнул он спящей фигуре. – В вашем возрасте стоило бы ценить время превыше рубинов.
Блаженно улыбаясь, он подошел к часам и перевел их на полчаса назад. Затем повторил операцию с карманными часами Мэйпса. Встав рядом с креслом, Годаль измерил расстояние до шторы, за которой недавно прятался. Потребуется известная ловкость – именно это Годаль больше всего и любил в своей работе. Прижав пальцы к сонной артерии, он удалил резиновый жгут. Одним движением он швырнул ключи на поднос и прыгнул за штору. Мэйпс вздрогнул, проснулся и по привычке потянулся к подносу за ключами. Некоторое время он сидел неподвижно, приходя в себя, затем придвинул кресло к столу и вернулся к своим вечным трудам.
Была полночь, когда путь для отступления освободился и Годаль выбрался из дома. Он прижался к решетке забора в тени разросшегося кустарника. Человеку в его наряде, да еще и с таким чумазым лицом, в это время суток лучше не попадаться никому на глаза. Он терпеливо прождал у ворот целых полчаса, затем наконец выпрямился и поспешил прочь по заброшенной улице.
Вдруг из тени дерева появился человек и со смехом преградил ему путь.
– Попался, уголовничек! – добродушно, но с пугающей деловитостью сказал он.
Годаль вгляделся в хитрое лицо. Даже он, готовый ко всему, не ожидал такого сюрприза. Однако же мгновенно опустил одну бровь и искривил уголок губ, сделавшись совершенно неузнаваемым. Его быстрый ум тем временем работал на всех парах. Приключение внезапно приобрело удивительный оборот.
– Скотт! – презрительно воскликнул он. – Вы бестолковый неуч! Я думал, вы, дилетанты, застряли сегодня на Седьмой авеню.
Великий вор знал Марвина Скотта как юного оболтуса, который по мере сил подражал Годалю во всех клубах, где они сталкивались. Скотт был из хорошей семьи, благодаря чему несколько лет продвигался по дипломатической части, пока не загремел в отставку за склонность к нелепым выходкам. По крайней мере, такие ходили слухи.
Услышав от засаленной личности в джинсах свое имя, да еще в насмешливом тоне, Скотт поначалу опешил, но быстро пришел в себя. Схватив Годаля за плечи – большая ошибка, так как уже через мгновение его запястья были стиснуты железной хваткой, – он рванулся к свету фонаря.
– Кто вы такой? – вскричал Скотт, отбиваясь изо всех сил. – Я вас не знаю!
– Так узнаете! – яростно ответил Годаль. Он начал рискованную игру. Даже сейчас, когда все было под контролем, он остро осознавал, что, если этот недоумок его узнает, несравненному Годалю настанет конец. Наблюдение, установленное за домом Уэллингтона Мэйпса, могло означать только одно: старый лис опять взялся за старое. Что до Скотта, Годаль давно подозревал, что его разъезды по земному шару вряд ли носили развлекательный характер. Все было ясно как день. Этот искатель приключений мог здесь находиться только в одном качестве – спецагента госдепартамента.
– От вас одни проблемы! – рявкнул Годаль. Хватку он ослабил, но зато так выпятил подбородок, что Скотт, и без того пребывавший в шоке, отпрянул. – Думаете, мне больше нечего делать, кроме как исправлять ваши ошибки? Скажите лучше, кому все-таки хватило ума выследить Мэйпса, после того как он сбросил вас с хвоста? Я слушаю! И уберите уже руку с пистолета!
Годаль набирал обороты, так как, несмотря на все замешательство, Скотт потянулся к карману. Но в голосе незнакомца звучал нерушимый авторитет. Впрочем, при таком роде занятий коллеги часто не знают друг друга в лицо.
– За мной! – скомандовал Годаль и двинулся прочь. – И помните, – сказал он, дожидаясь, пока Скотт его догонит, – я Браун. Если в ближайшие полчаса вы назовете меня каким-нибудь другим именем, вы у меня пешком в Шанхай отправитесь!
Они шли вперед, и под покровом тьмы Годаль не сдержал улыбки. Так значит, юному Марвину Скотту поручили под видом дипломата обхитрить старика Мэйпса. Крайне неловкая ситуация обернулась весьма забавной. Спецагент, который, совершенно очевидно, безоговорочно принял его в роли сердитого начальника, следовал за Годалем так покорно, будто всю жизнь только и делал, что слушался приказов засаленного сантехника. Они вышли на Бродвей и пересекли Амстердам-авеню. Годаль выбрал ночной бар и вошел через черный ход. Зал в глубине был пуст, и вскоре Годаль и Скотт уже сидели друг напротив друга, испытывая при этом очень непохожие чувства.
– Полагаю, – устало сказал Годаль, – что, если бы я вас не остановил, вы окончательно отличились бы, сдав меня полиции, как какого-нибудь воришку?
Его собеседник промолчал. Он все пытался вспомнить, где же раньше видел это лицо. Если бы не пятна графитной смазки, черной как сажа, задача, возможно, была бы проще.
Годаль покачал головой. На его губах поигрывала странная улыбка.
– Самое прекрасное, – продолжал он тоном, полным отвращения, – что теперь, когда я исправил очередное ваше фиаско, все заслуги опять достанутся вам. Как всегда.
Годаль вынул из кармана конверт, один из тех трех дважды вскрытых, что он позаимствовал из бюро Уэллингтона Мэйпса.
– Дорогой мой, обратите внимание на этот образчик чистого искусства, – произнес он, от души наслаждаясь ситуацией. – Или, читая корреспонденцию Уэллингтона Мэйпса, вы полагали, будто имеете дело с младенцем? Да пятилетний ребенок с чайником лучше бы справился!
При виде письма Скотт выпучил глаза – этот конверт действительно прошел через его руки. Он был окончательно сломлен и лишь тихо смотрел на оскорбительно высокомерного чумазого субъекта, который, в свою очередь, сосредоточил все свое внимание на содержимом конверта. В конце концов, кража со взломом была для Годаля пустяком. Теперь же происходило кое-что куда более интересное. Он перечитал письмо. В тексте не было ничего, кроме прибылей, дивидендов и решений Верховного суда касательно Большого бизнеса. Он перевернул лист бумаги, и его наконец осенило. Два и два внезапно превратились в четыре.
В комнате стоял потрепанный рояль. Годаль встал из-за стола и, держа перед собой лист, одной рукой сыграл ноты.
– Полагаю, вам это ничего не говорит, мистер Марвин Скотт? – произнес он.
Скотт покачал головой, его щеки налились багрянцем. Через его руки прошло не меньше дюжины подобных писем, но до сих пор ему и в голову не приходило обращать внимание на безумные нотные партии.
– Вижу, нет, – рассеянно продолжал чумазый сантехник. – Дайте-ка мне ваше перо.
Была половина первого ночи. В час тридцать Годаль протянул Скотту лист бумаги с расшифровкой. Все-таки это был код. Старик Мэйпс закопал его в нотах.
– Грубовато, конечно, – сказал Годаль, – но зато не нужен ключ, да и изменять его можно, как душа пожелает.
Вот что там было написано:
а – до-до
б – до-ре
в до-ми
г – до-фа
д – до-соль
е – до-ля
ж – до-си
з – ре-до
и – ре-ре
к – ре-ми
л – ре-фа
м – ре-соль
н – ре-ля
о – ре-си
п – ми-до
р – ми-ре
с – ми-ми
т – ми-фа
у – ми-соль
ф – ми-ля
х – ми-си
ц – фа-до
ч – фа-ре
ш – фа-ми
щ – фа-фа
э – фа-соль
ю – фа-ля
я – фа-си
Ошеломленный молодой человек взял лист в руки. Его лицо горело – от восторга и досады. Годаль, сама снисходительность, лучился благодушием.
– Запишите ноты буквами, до-ре-ми-фа-соль-ля-си-до, – объяснил он. – Диезы и бемоли глухие. В аккорде читайте только доминанту. Вижу, вас всему учить надо.
Скотт лихорадочно схватился за письмо и перо. Вскоре все было сделано.