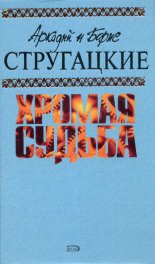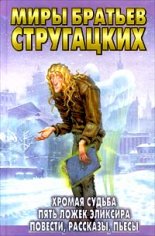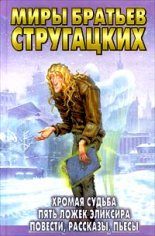Лицо в зеркале Кунц Дин

Подготовка не пропала зря. Дома, с той же самой заточкой, Корки потренировался на муляже, который украл в медицинской школе университета.
Если бы пришлось наносить два, три, четыре удара, если бы сердце Романа еще какое-то время продолжало гнать кровь, часть ее, конечно же, выплеснулась бы из раны. Вот Корки и пришел в склеп в дождевике, на котором не могло остаться пятен.
Проектировщики склепа приняли все необходимые меры предосторожности на, пусть и маловероятный, случай, что из какого-нибудь охлажденного покойника выльется телесная жидкость. В кафельном полу имелось большое дренажное отверстие, у двери лежала бухта винилового шланга, подсоединенного к крану в стене.
Корки узнал о наличии этого оборудования из статей двухгодичной давности, касающихся крысиного скандала. К счастью, шланг не потребовался: смывать с дождевика кровь не пришлось.
Он поднял Романа и уложил на одну из пустых полок у дальней стены, где тени работали на его замысел.
Из внутреннего кармана дождевика достал простыню, купленную в торговом центре. Укрыл ею Романа полностью, с головы до ног, чтобы скрыть и сам труп, и тот факт, что этот покойник, в отличие от остальных, полностью одет.
Поскольку смерть наступила мгновенно, а ранка была крошечной, ни капли крови не просочилось наружу, чтобы запятнать простыню и таким образом притечь чье-либо внимание к свежести трупа.
Через день, два или три кто-то из сотрудников морга, конечно же, нашел бы Романа, проводя инвентаризацию или забирая очередной труп для вскрытия. Еще одна статья на первой полосе для судебно-медицинского эксперта.
Корки сожалел о том, что пришлось убить такого человека, как Роман Каствет. Хороший сатанист и убежденный анархист, патологоанатом активно участвовал и кампании по дестабилизации социального порядка, приближая его крушение.
Однако совсем скоро драматическим событиям в поместье Ченнинга Манхейма предстояло стать новостью номер один для всех мировых средств массовой информации. Власти предпримут экстраординарные усилия в попытке найти человека, который посылал эти пугающие подарки в черных коробках.
Логика подскажет им проверить все частные и общественные морги, в поисках источника поставок крайней плоти. И если но время расследования Роман вызовет подозрение, он наверняка попытается спасти собственную шкуру, выдав Корки.
Анархисты не питали по отношению друг к другу ни капли верности. По-другому среди сеющих хаос и быть не могло.
А Корки накануне грядущих событий предстояло обрубить и другие свободные концы.
Учитывая, что на руках Корки были перчатки из латекса, которые он скрывал от жертвы, держа руки в просторных рукавах дождевика, он мог бы оставить заточку на месте преступления,поскольку отпечатки пальцев на ней отсутствовали. Вместо этого Корки вернул заточку в чехол и убрал в карман, не только потому, что она могла пригодиться в будущем, но и в качестве сувенира.
Уходя из морга, он тепло попрощался с охранниками ночной смены. Работа у них была неблагодарная: охранять мертвых от живых. Даже задержался на минуту-другую, чтобы рассказать похабный анекдот.
Он не боялся, что по их показаниям полиция сможет составить достоверный фоторобот. В шляпе с широкими полями и просторном желтом дождевике он казался странной, эксцентричной личностью и не сомневался, что охранники запомнят его наряд, но не лицо.
Позднее, уже дома, сидя у камина и наслаждаясь бренди, он намеревался сжечь все документы, согласно которым был патологоанатомом из Индианаполиса. Он располагал многими другими комплектами документов, мог представляться специалистом самых разных профессий. И необходимость воспользоваться ими возникала не раз и не два.
Теперь же он возвратился в ночь, под дождь.
Пришла пора разобраться с Рольфом Райнердом, который своими действиями показал, что в жизни способен добиться успехов не больше, чем на съемках сериалов.
Глава 27
В понедельник Эльфрик Манхейм заказал на обед курицу.
Прежде чем поджарить куриную грудку на вертеле, ее вымочили в оливковом масле с морской солью и смесью экзотических трав, которую в Палаццо Роспо называли не иначе как «Секретом Макби». Помимо курицы, ему подали макароны, но не с томатным соусом, а с маслом, базиликом и пармезаном.
Мистер Хэчетт, обучавшийся во Франции шеф-повар, прямой наследник Джека Потрошителя, не работал по воскресеньям и понедельникам. Эти дни использовались им для того, чтобы выслеживать и убивать одиноких женщин, подбрасывать бешеных кошек в коляски младенцев и заниматься другими аналогичными делами, без которых он просто жить не мог.
Мистер Баптист, веселый повар, не работал по понедельникам и вторникам, так что по понедельникам кухня оставалась безнадзорной. И все деликатесы миссис Макби готовила сама.
Под мягким, чуть мигающим светом электрических ламп, которые светили точь-в-точь как старинные масляные, Фрик ел в винном погребе, в одиночестве, за столом на восемь человек, в уютной дегустационной, отделенной стеклянной стеной от той зоны погреба, где поддерживались постоянная температура и влажность, За стеклом, на рядах полок хранились четырнадцать тысяч бутылок с, как говорил его отец, «Каберне совиньон», «Мерло», «Пино нуар», «Бордо», портвейном, бургундским… и кровью критиков, лучшим вином из всех возможных».
Ха, ха, ха.
Когда Призрачный отец находился дома, они обычно ели в столовой, если, конечно, гости отца, давние приятели, деловые партнеры, многочисленные советники, не чувствовали себя неуютно от того, что десятилетний мальчик слушал их сплетни и закатывал глаза при бранных словах, которые срывались с их губ.
В хорошую погоду Фрик мог обедать под открытым небом, у бассейна, радуясь тому, что в отсутствие отца в доме не было безнадежно тупых, утомительно хихикающих, раздражающе полуголых старлеток, которые обычно доставали его вопросами о том, какой предмет в школе у него любимый, какое его любимое блюдо или цвет, кого из кинозвезд он считает лучшими.
И они постоянно пытались добыть у Фрика «риталин» или антидепрессанты. Отказывались верить, что ему прописаны только препараты для астматиков.
Если не у бассейна, он мог обедать в более опасном для себя месте, за столом в розовом саду, держа наготове ингалятор на случай, что ветерок насытит воздух достаточным количеством пыльцы, чтобы вызвать приступ астмы.
Иногда он ел с подноса, стоящего на коленях, устроившись в одном из шестидесяти удобных кресел в просмотровом зале, который переделали только год тому назад в стиле арт-деко, и теперь зал более всего напоминал кинотеатр «Пантейджс» в Лос-Анджелесе.
Установленное в зале оборудование обеспечивало просмотр фильмов, всех видов видеозаписи, ди-ви-ди, телевизионных программ. Изображение проецировалось на экран, размерами превосходивший большинство экранов в среднем пригородном мультикомплексе.
Для просмотра видео или ди-ви-ди Фрику не требовалась помощь киномеханика. Сидя в среднем кресле в среднем ряду, рядом с пультом управления, он мог просматривать любую кассету или диск.
Иногда, зная, что в этот день уборки зала не будет, а его не станут искать, он запирал дверь, чтобы ему никто не мешал, и загружал проигрыватель ди-ви-ди фильмами с Ченнингом Манхеймом в главной роли.
Не мог допустить, чтобы его застали за просмотром фильма Призрачного отца.
Нельзя сказать, что все они были провальными. Некоторые — были, потому что ни одна звезда не может всякий раз вытягивать любой фильм. Но встречались очень даже неплохие, встречались прикольные, а какие-то казались Фрику верхом совершенства.
Если б кто-нибудь увидел, что он один смотрит фильмы отца, Национальная академия посмешищ номинировала бы его в категории Величайшее посмешище десятилетия. Возможно, и столетия. А клуб Жалостливых неудачников прислал бы пожизненную членскую карточку.
Мистер Хэчетт, психопатический шеф-повар, в родственниках которого ходила вся семья Франкенштейн, похихикал бы над ним и всенепременно указал бы на несоответствие между хрупкостью Фрика и могучей фигурой отца.
Так или иначе, но иногда Фрик, занимая одно из шестидесяти кресел под лепным потолком, от которого его отделяло добрых тридцать четыре фута, сидел в темноте и смотрел фильмы Призрачного отца на огромном экране. Купаясь в объемном звуке системы «Долби».
В некоторых фильмах его интересовал сюжет, хотя он и видел их помногу раз. В других — спецэффекты.
И всегда, глядя на игру отца, Фрик уделял особое внимание движениям, мимике, жестам, улыбкам — короче, тому, что заставляло миллионы зрителей по всему миру обожать Ченнинга Манхейма.
В лучших фильмах отец смотрелся особенно здорово. Но и в плохих находились сцены, после которых зрителю не оставалось ничего иного, как любить этого парня, восхищаться им, хотеть встретиться с ним, если не в жизни, то хотя бы на экране.
Разбирая лучшие моменты в лучших фильмах, критики называли игру отца «магической». Слово это звучало глупо, словно из детской сказки, но оно было правильным.
Иногда, глядя на отца на большом экране, казалось, что он более яркий, более реальный в сравнении с теми, кого ты знаешь. Или будешь знать.
Суперреальность не объяснялась огромностью проецируемого на экран изображения или мастерством оператора. Не объяснялась она и талантом режиссера (многие из них талантом не превосходили сваренную картофелину) или достижениями цифровой технологии. Большинство актеров, включая звезд, не обладали магией Манхейма, даже когда работали с лучшими режиссерами, операторами, техниками.
Ты наблюдал его на экране, и казалось, он побывал везде, видел и знал все, что только можно. Был мудрее, заботливее, умнее и храбрее любого, жил в шести измерениях, тогда как остальным приходилось довольствоваться только тремя.
Некоторые эпизоды Фрик смотрел десятки раз, случалось, даже сотни, пока они уже не казались ему столь же реальными, как те моменты, которые он действительно провел с отцом.
И иной раз, когда он ложился в постель смертельно уставшим, но балансировал на грани сна, или просыпался ночью, продолжая мчаться на гребне сна-волны, эти особо любимые киношные эпизоды становились для Фрика совершенно реальными. Память подавала их не как что-то, увиденное в зрительном зале, а как события, в которых он участвовал вместе с отцом.
И эти периоды полусна были едва ли несамыми счастливыми в жизни Фрика.
Разумеется, расскажи он кому-нибудь, что эти мгновения он считал самыми счастливыми в своей жизни, клуб Жалостливых неудачников воздвиг бы ему тридцатифутовую статую,подчеркнув растрепанныеволосы и тонюсенькую шею, и стояла бы она на том же холме, где теперь красуется надпись HOLLYWOOD.
В общем, вечером в тот понедельник, пусть Фрик и предпочел бы обедать в просмотровом зале, наблюдая, как его отец дает жару плохишам и спасает сиротский приют, мальчик обедал в винном погребе, потому что, учитывая предрождественскую суету в Палаццо Роспо, только там он мог укрыться от людей.
Мисс Санчес и мисс Норберт, горничные, которые жили в поместье, уехали в отпуск на десять дней. Их ждали утром в четверг, 24 декабря.
Миссис Макби и мистер Макби собирались уехать на вторник и среду, повидаться с сыном и его семьей в Санта-Барбаре. Они тоже намеревались возвратиться в Палаццо Роспо утром 24 декабря, чтобы величайшую кинозвезду мира встретили с максимальной помпой, когда он прибудет в поместье из Флориды во второй половине дня.
В результате, в понедельник четыре оставшиеся горничные и прочие слуги работали допоздна, под строгим руководством четы Макби, не говоря уже о шестерке полотеров, которые начищали до блеска мраморные полы, восьми человек, украшавших дом к Рождеству, и специалиста школы фэн-шуй, рекомендованного духовным наставником, который расставлял по дому рождественские ели так, чтобы они не мешали течению энергетических потоков.
Безумие.
Вот Фрик и ретировался под землю, в винный погреб, подальше от шума полировальных машин и смеха декораторов. Здесь, в окружении кирпичных стен, под низким сводчатым кирпичным потолком, он находился и блаженнойтишине, которую нарушали только издаваемые им звуки, когда он глотал пищу или скреб вилкой по тарелке.
А тут: «Ооодилии-оподшши-оо».
Приглушенно зазвонил телефон в бочонке.
Поскольку температура в дегустационной поддерживалась слишком высокой для хранения вина, бочки и бутылки в этой части винного погреба, с теплой стороны стеклянной стены, были сугубо декоративными.
« Ооодилии-ооодипии-оо».
Фрик открыл телефонный бочонок и ответил в своем привычном стиле: «Школа борьбы с грызунами и домашнего консервирования». Мы очистим ваш дом от крыс и научим, как сохранить их для будущих праздничных обедов».
— Привет, Эльфрик.
— У вас уже появилось имя? — спросил Фрик.
— Увы.
— Это ваше имя или фамилия?
— И то, и другое. Обед сегодня вкусный?
— Я не обедаю.
— Помнишь, что я говорил тебе насчет вранья, Эльфрик?
— Ничего, кроме беды, оно мне не принесет.
— Ты часто обедаешь в винном погребе?
— Я на чердаке.
— Не кличь беду, мальчик. И без этого тебе ее не избежать.
— В киношном бизнесе люди лгут двадцать четыре часа в сутки, и только богатеют.
— Иногда беда следует за богатством, — заверил его Таинственный абонент. — Часто, разумеется, она прибывает в самом конце жизни, но зато очень большая.
Фрик промолчал.
Незнакомец ответил тем же.
Наконец Фрик глубоко вдохнул и оборвал затянувшуюся паузу: «Я должен признать, вы умеете нагнать страху».
— Это прогресс, Эльфрик. Хоть чуть-чуть, но правда.
— Я нашел место, где могу спрятаться и меня никто не найдет.
— Ты говоришь про потайную комнату за твоим стенным шкафом?
Фрик не подозревал о противных созданиях, которые жили в пустотах его костей, но теперь вдруг почувствовал, как эти твари ползут сквозь костный мозг.
А Таинственный абонент продолжил: «Комната со стальными стенами и крюками на потолке. Ты думаешь, что сможешь спрятаться там?»
Глава 28
С убийством, оставшимся разве что в памяти, но не на совести, Корки Лапута, оставив позади склеп с неопознанными трупами, пересекал город под ночным дождем.
По пути думал о своем отце, Генри Джеймсе Лапуте, возможно, потому, что тот бесцельно растратил свою жизнь, в этом ничем не отличаясь от бродяг и сбежавших из дому тинэйджеров, которые лежали в склепе для неопознанных трупов.
Мать Корки, экономист, верила в праведность зависти, в могущество ненависти. Обе эти страсти главенствовали в ее жизни, и она носила горечь, как носят корону.
Его отец верил в необходимость зависти как мотивации. Постоянная зависть Генри Джеймса неизбежно вела к хронической ненависти, верил он в ее могущество или нет.
Генри Джеймс Лапута был профессором американской литературы. При этом сочинял романы и мечтал о мировой славе.
Объектами зависти он выбирал самых знаменитых писателей своего времени. Отчаянно завидовал каждой положительной рецензии, каждому доброму слову, высказанному в их адрес. Его передергивало от новостей об их успехах.
С такой вот мотивацией он писал яростные романы, надеясь, что в сравнении с ними творчество современников будет выглядеть пустым, пресным, легковесным. Своими произведениями хотел унизить других писателей, вызвать в них зависть, превосходящую его собственную. Только тогда он мог прекратить завидовать и наконец-то насладиться своими достижениями.
Верил, что придет день, когда эти литераторы так обзавидуются ему, что больше не смогут находить удовольствие в писательстве. Его литературная репутация станет для них недостижимым пиком, и они будут сгорать со стыда, видя, сколь жалкими являются их потуги рядом с огромностью его таланта. Вот тогда Генри намеревался в полной мере испытать чувство глубокого удовлетворения.
Однако год проходил за годом, его романы получали достаточно теплый, но сдержанный прием, да и рецензировали их критики далеко не первого ряда. Ожидаемые номинации на литературные премии не приходили. Заслуженных почестей он так и не дождался. Его талант остался непризнанным.
Более того, он обратил внимание на то, что многие из современников-литераторов относятся к нему свысока, и поневоле пришлось признать, что они — члены клуба, а вот ему в приеме отказали. Они признавали превосходство его таланта, но вступили в заговор, дабы лишить его положенных лавров, потому что хотели распределять между собой все куски пирога.
Пирог. Генри наконец-то понял, что даже в литературном сообществе богом богов были деньги. Вызнал их маленький мерзкий секрет. Они раздавали друг другу премии, разглагольствовали об искусстве, но использовали эти почести лишь для того, чтобы богатеть, требуя за свои книги все большие гонорары.
Осознание, что литераторами-заговорщиками движет жадность, стало удобрением, водой и солнечным светом для сада ярости Генри. Черные цветы антипатии расцвели там как никогда пышно.
Раздосадованный их отказом воздать ему должное,
Генри решил вызвать у них зависть, написав роман, который будет раскупаться, как горячие пирожки. Он верил, что ему известны все сюжетные ходы и приемы игры на сентиментальности читателей, с помощью которых такие жалкие писаки, как Диккенс, манипулировали немытой чернью. Он не сомневался, что напишет захватывающую сагу, заработает миллионы и заставит этих псевдолитераторов задохнуться от зависти.
Коммерческая сага нашла издателя, но не читателей. Потиражные он получил жалкие. Вместо того, чтобы засыпать деньгами, бог маммоны оставил его под навозным дождем. Кстати, именно так охарактеризовал его роман один из ведущих критиков.
По прошествии лет ненависть Генри только набирала силу, становясь все более злобной. Он лелеял эту ненависть, и в конце концов она пожрала его, как пожирает свою жертву скоротечный рак.
В возрасте пятидесяти трех лет, выступая с яростной речью перед безразличной ученой аудиторией на ежегодном съезде Ассоциации современного языка, Генри Джеймс Лапута умер от обширного инфаркта. Умер мгновенно, произнеся особо едкий пассаж, повалился головой и грудью па трибуну. Некоторые слушатели подумали, что это некий театральный жест, подчеркивающий значимость произнесенных слов, и даже зааплодировали, а уж потом поняли, что это не игра, а настоящая смерть.
Корки многому научился у своих родителей. Понял, что на одной зависти жизненную философию не построить. Понял, что веселая жизнь и оптимизм несовместимы с всепоглощающей ненавистью.
Он также научился не верить в законы, идеализм, искусство.
Его мать верила в законы экономики, в идеалы марксизма. В результате превратилась в разочарованную в жизни старуху, которая, лишившись и целей, и надежды, похоже, только обрадовалась, когда собственный сын забил ее до смерти каминной кочергой.
Отец Корки верил, что искусство станет в его руках молотком, ударами которого он заставит мир подчиниться. Мир продолжал вращаться, тогда как отец давно уже превратился в пепел, рассеянный над волнами, исчез, будто и не существовал.
Хаос.
Хаос был единственной заслуживающей доверия силой во вселенной, и Корки служил ему в полной уверенности, что тот, в свою очередь, всегда будет служить ему.
Пересекая поблескивающий от воды город, сквозь ночь и непрекращающийся дождь, он ехал в Западный Голливуд, где следовало отправить в мир иной не заслуживающего доверия Рольфа Райнерда.
Но с обоих концов квартал Райнерда перегородили заграждения. Полицейские в черных дождевиках с желтыми флуоресцирующими полосами махали светящимися жезлами, предлагай проезжать мимо.
Сквозь пелену дождя сверкали проблесковые маячки машин «Скорой помощи», перемигивались красно-синие огни патрульных машин.
Корки проехал мимо заграждения. В двух кварталах нашел место для парковки.
Возможно, суета на улице Рольфа Райнерда и не имела отношения к актеру, но интуиция подсказывала Корки обратное,
Он не волновался. В какую бы историю ни вляпался Рольф Райнерд, Корки не сомневался, что ему удастся обратить случившееся себе на пользу. Смятение и суматоха были его друзьями, и Корки точно знал, что в церкви хаоса он — любимый сын.
Глава 29
Фрик почувствовал, как благодаря какому-то магическому воздействию кирпичного пола у него под ногами, окружающих его кирпичных стен и кирпичного потолка над головой он сам, слушая мелодичный голос незнакомца, превратился в кирпич.
— Потайная комната за твоим стенным шкафом не такой уж секрет, как ты думаешь, Эльфрик. Ты не будешь там в безопасности, когда Робин Гудфело нанесет тебе визит.
— Кто?
— Раньше я называл его Чудовищем-в-Желтом. Он полагает себя Робином Гудфело[34], но на самом деле он куда хуже. Он — Молох, и между зубами у него торчат расщепленные детские косточки.
— Чтобы справиться с ними, потребуется особенно прочная нить для чистки зазоров между зубами, — но дрожь голоса Фрика сводила на нет игривость слов. Он продолжил, надеясь, что Таинственный абонент не успел уловить его страха: — Робин Гудфело, Молох, детские кости, я не улавливаю связи.
— У тебя в доме большая библиотека, не так ли, Эльфрик?
—Да.
— И наверняка в ней найдется хороший словарь.
— У нас целая полка словарей, которые доказывают нашу ученость.
— Тогда загляни в них. Узнай своего врага, приготовься к тому, с чем тебе предстоит столкнуться, Эльфрик.
— Почему бы вам не объяснить, с чем мне предстоит столкнуться? Простыми, понятными, ясными словами?
— Это не в моей власти. У меня нет разрешения на прямые действия.
— Значит, вы — не Джеймс Бонд.
— Мне дозволено только косвенное воздействие. Поощрять, вдохновлять, ужасать, уговаривать, советовать. Я влияю на события всеми средствами, если их составляющие — коварство, лживость, введение в заблуждение.
— Вы — адвокат или как?
— С тобой интересно говорить, Эльфрик. Я буду искренне сожалеть, если тебя расчленят и приколотят гвоздями к парадной двери Палаццо Роспо.
Фрик чуть не оборвал разговор.
Его ладонь, обжимавшая трубку, стала влажной от пота.
И он бы не удивился, если б человек на другом конце провода уловил запах этого пота и прокомментировал его соленость.
Возвращаясь к вопросу о глубоком и особом убежите, Фрик сумел изгнать дрожь из голоса.
— У нас в доме есть бункер, — он имел в виду секретную, хорошо укрепленную комнату, которая могла на какое-то время остановить даже самых решительных похитителей или террористов.
— Поскольку особняк такой большой, у вас есть даже два бункера. — Таинственный абонент говорил правду. — Оба известны, ни в одном ночью ты не будешь чувствовать себя в безопасности.
— И когда наступит ночь? Но мужчина ушел от ответа.
— Это кладовая для мехов, знаешь ли.
— Вы о чем?
— В прошлом комнаты, где ты сейчас живешь, занимала мать первого владельца особняка.
— Откуда вам известно, какие комнаты — мои?
— У нее было много дорогих шуб. Несколько норковых, из соболя, песца, чернобурки, шиншиллы.
— Вы ее знали?
— Стальная комната предназначалась для их хранения. Там им не грозили ни воры, ни моль, ни грызуны.
— Вы бывали в нашем доме?
— Меховая кладовая — плохое место для приступа астмы…
— Откуда вам это известно? — спросил потрясенный Фрик.
— …но будет еще хуже, если Молох, когда придет, поймает тебя там. Времени остается все меньше, Эльфрик.
Связь оборвалась, Фрик остался один в винном подвале, определенно один, но с ощущением, что за мим наблюдают.
Глава 30
Если бы небеса разверзлись и вместо дождя на землю посыпались бы зубастые и ядовитые жабы, если бы истер обдирал кожу до крови и слепил глаза, даже такие жуткие погодные условия не удержали бы зевак и любопытных. Они бы все равно собирались на месте аварий и трагических происшествий. А уж дождь в холодную декабрьскую ночь воспринимался погодой для пикника теми, кто следует за бедой, как некоторые следуют за бейсболом.
На лужайке перед многоквартирным домом, расположенным по другую сторону полицейского ограждения, стояли человек двадцать или тридцать соседей, обмениваясь дезинформацией и шокирующими подробностями. В основном взрослые, но вокруг носились и с полдюжины детей.
Большинство этих социальных стервятниковпредусмотрительно надели дождевики или укрылись под зонтами. Впрочем, два молодых человека стояли в одних джинсах, босиком и с голым торсом. Похоже, приняли такой коктейль запрещенных законом субстанций, что даже ночь не могла их охладить, словно готовили их без нагрева, как рыбное филе в соке лайма.
Над собравшейся толпой витала атмосфера карнавала, ожидание фейерверков и развлечений.
В своей блестящей желтизне Корки Лапута лавировал среди зевак, как шмель, разве что не жужжал, и то тут, то там собирал крупицы информационного нектара. Время от времени, чтобы задружиться с новыми знакомыми, предлагал им отведать эрзац-меда, выдумывая живописные подробности ужасного преступления, о которых вроде бы узнал, подслушав разговоры копов у ограждения по другую сторону квартала.
Он быстро выяснил, что убили именно Рольфа Райнерда.
Впрочем, среди зевак и любопытных не сложилось общего мнения относительно первого имени жертвы: Ральф или Рейф, Долф или Рандолф. А то и Боб.
Они с уверенностью предполагали, что фамилия бедняги Райнхардт или Клайнхардт, а может, Райнер, как у знаменитого режиссера, или Спилберг, как у другого знаменитого режиссера, или Нердофф, или Нор-дофф.
Один из гологрудых молодых мужчин настаивал, что все перепутали имя, прозвище и фамилию. Согласно этому специалисту дедуктивного метода выходило, что звать убитого Рей «Нерд» Рольф.
Все сходились в том, что убитый был актером, чья карьера ракетой взлетала в небеса. Он только что закончил съемки в фильме, где играл то ли младшего брага Тома Круза, то ли его лучшего друга. «Парамаунт» или«Дрим Уоркс» подписали с ним контракт на звездную роль в паре с Риз Уитерспун. «Уорнерс бразерс» пригласила на роль Бэтмена в новом сериале. В «Мира-максе» хотели, чтобы он сыграл шерифа-трансвестита в психологической драме озаговоре против геев в Техасе в 1890 году. В «Юниверсал» надеялись, что он согласится взять по десять миллионов закаждый из двух фильмов, в которых будет исполнителем главной роли, сценаристом и режиссером.
Вероятно, и новом тысячелетии, по мнению жителей знаменитой западной части Лос-Анджелеса, неудачники не умирали молодыми и Смерть приходила раньше отпущенного срока только к знаменитым, богатым,обожаемым. Называйте сие принципом принцессы Ди.
А вот кто убил этогосамого Рольфа, Ральфа или Рейфа, актера, стоящего на пороге звездности, никто сказать не мог.Имя убийцы оставалось неизвестным. Никакие версии на этот счет не выдвигались.
Не вызывала сомнений и насильственная смерть самого киллера. Его тело лежало на лужайке перед домом Рольфа.
Среди зевак гуляли два бинокля. Корки позаимствовал один, чтобы получше разглядеть палача Рольфа.
В темноте и под дождем даже максимальное увеличение не позволило рассмотреть какие-то детали, которые позволили бы опознать лежащий на траве труп.
Вокруг него сгрудились технические эксперты, вооруженные специальным оборудованием и фотоаппаратами. В черных дождевиках, они напоминали ворон, жадно клюющих падаль.
В каждой из версий, циркулирующих в толпе зевак, киллера убивал полицейский. Коп то ли оказался на улице, так уж сложилось, в нужный момент, то ли жил в том же доме, что и Рольф, то ли пришел навестить подружку или мать.
Но, что бы ни произошло здесь в этот вечер, Корки пришел к достаточно логичному выводу, что убийство Райнерда никоим образом не могло помешать его планам или вызвать у полиции желание познакомиться с ним поближе. Контакты с Райнердом Корки держал в секрете от всех своих знакомых.
И полагал, что Райнерд поступает точно так же. Они вместе совершили не одно преступление и готовили новые. Ни один ничего бы не выиграл, зато много бы потерял, сообщив кому-либо об их взаимоотношениях.
Умом Райнерд, конечно, похвастаться не мог, но и не страдал безрассудством. Чтобы произвести впечатление на женщину или на своих безмозглых друзей, не стал бы говорить о том, что заказал свою мамочку или принимает участие в подготовке убийства самой известной мировой кинознаменитости. Нет, скорее он бы выдумал красивую ложь.
И хотя Этан Трумэн, пусть и инкогнито, в первой половине дня приходил к Рольфу домой, вероятность того, что смерть Райнерда как-то связана с Ченнингом Манхеймом и шестью подарками в черных коробках, представлялась малой.
Будучи апостолом анархии, Корки понимал, что хаос правит миром и в мириаде всяких и разных повседневных событий случаются такие вот ничего не значащие совпадения. И только не верящие в хаос могут заподозрить наличие в них какого-то глубокого смысла.
Он строил свое будущее, да и, чего там, само существование, на принципе, что жизнь бессмысленна. Он обладал множеством акций хаоса, и на текущий момент у него не было оснований продавать эти акции себе в убыток.
Райнерд не только видел себя кинозвездой вселенского масштаба, но иногда был плохишом, а плохиши часто наживают себе врагов. Например, не столько ради прибыли, как для кайфа, он снабжал наркотиками избранную группу клиентов в шоу-бизнесе, в основном кокаином, метом и «экстази».
Вполне вероятно, что крутые парни решили, будто красавчик Рольф пасется на их территории. С пулей в голове он перестал быть конкурентом.
Корки требовалось, чтобы Райнерд умер.
Хаос об этом позаботился.
Ни больше ни меньше.
Так что пора двигаться дальше.
Пора, кстати, и пообедать. Если не считать шоколадного батончика, съеденного в машине, и двойного кофе с молоком, выпитого в торговом центре, после завтрака он ничего не ел.
В хорошие дни, наполненные плодотворными усилиями, приближающими поставленную цель, работа доставляла ему столько удовольствия, что он частенько пропускал ленч. Но сегодня, пусть и потрудился он на славу, ужасно хотелось есть.
Тем не менее он задержался еще на некоторое время, чтобы послужить хаосу. Шестеро детей были искушением, перед которым он не мог устоять.
Все от шести до восьми лет, в одежде, которая легко противостояла что дождю, что холоду, они радостно скакали, прыгали, бегали друг за другом, словно буревестники, обожающие брызжущий дождем ветер и клубящиеся облака.
Увлеченные копами и машинами «Скорой помощи» взрослые напрочь забыли о своих отпрысках. Детям же хватило ума понять простую истину: играя на лужайке за спинами родителей и не раздражая их слишком уж громкими криками, они могли значительно продлить ночную прогулку.
В наше охваченное паранойей время незнакомец не решился бы предложить ребенку конфетку, скажем, леденец на палочке. Даже самый глупый из детишек, услышав такое предложение, тут же начал бы звать копов.
Леденцов на палочке у Корки не было, зато он носил с собой пакетик жевательных карамелек.
Он подождал, пока дети отвлекутся, уже достав пакетик из глубокого кармана дождевика, а потом бросил на траву там, где дети не могли его не найти.
Карамельки он сдобрил не ядом, а сильным галлюциногеном. Ужас и паника могли сеяться в обществе и более тонкими методами, чем крайнее насилие.
Малое количество галлюциногена в каждой карамельке гарантировало, что ребенок, даже сжевав шесть или восемь штук, не получит опасную для жизни дозу. Но уже после третьей карамельки начинались кошмары, от которых ребенок просыпался в диком ужасе.
Корки еще какое-то время покрутился среди взрослых, незаметно поглядывая на детей, пока не увидел, что две девочки нашли пакетик. И, будучи девочками, поделились находкой с четырьмя мальчиками.
Этот особенный наркотик, если только его не принимали вместе с мягким антидепрессантомтипа «Прозака», вызывал такие жуткие галлюцинации, что они могли привести пользователя к полному расстройству психики. И скоро дети начали бы верить, что в земле раскрываются рты с острыми зубами и змеиными языками, чтобы проглотить их, что инопланетные паразиты поселились в их легких, что все, кого они знали и любили, теперь думают только о том, как бы оторвать им руки и ноги. Даже после того, как кошмары прекратились бы, последствия приема этого галлюциногена могли ощущаться долгие месяцы, а то и годы.
Посеяв и эти семена хаоса, Корки вернулся к своему автомобилю. Ночной воздух освежал, дождь очищал.
Рожденный столетием раньше, Корки Лапута прошел бы путем Джонни Яблочное Семечко[35], одно за другим выдергивая все деревья, которые знаменитый садовник посадил на этом континенте.
Глава 31
Если бы Фрик подозревал, что в винном подвале водятся призраки или в нем проживает какая-то нечисть, он бы обедал в своей спальне.
Поэтому он ничего и никого не опасался.
С чмокающим звуком, похожим на тот, что слышится, когда сдергиваешь крышку с банки жареного арахиса, которая упаковывалась под вакуумом, Фрик открыл толстую стеклянную дверь. Чмокнуло резиновое уплотнение, герметизирующее зазор между дверью и стеклянной стеной.
И прошел из дегустационной непосредственно в минный погреб. Здесь поддерживалась постоянная температура — пятьдесят пять градусов[36].
Четырнадцать тысяч бутылок требовали множества полок… просто бездну полок. И стояли они не рядами, как в супермаркете. Обрамляли кирпичные, со сводчатыми потолками, коридоры извилистого лабиринта, которые пересекались в круглых гротах, также уставленных полками.
Четыре раза в год каждую бутылку коллекции поворачивали на четверть оборота, девяносто градусов, в ее выемке. Тем самым гарантировалось, что ни одна часть пробки не высохнет, а осадок равномерно распределится по дну.
Двое слуг, мистер Уорти и мистер Фэн, могли только четыре часа в день переворачивать бутылки, слишком уж занудной была эта работа, а требуемая точность вызывала слишком большое напряжение мышц шеи и плечевого пояса. За эти четыре часа каждый мог должным образом повернуть от тысячи двухсот до тысячи трехсот бутылок.