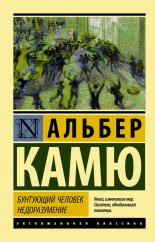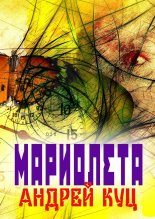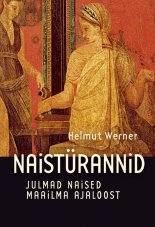Море, море Мердок Айрис
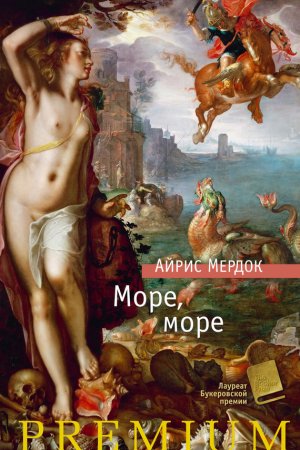
— Поешь яичницы, — сказал Гилберт.
— Я ей отнесу чай. Она как пьет, с молоком, с сахаром?
— Не помню.
Я собрал на поднос чай, молоко и сахар, хлеб, масло, джем. Снес наверх и отпер дверь, держа поднос на одной руке. Хартли по-прежнему лежала под одеялом.
— Смотри, какой вкусный завтрак.
Она ответила почти театрально страдальческим взглядом.
— Подожди, сейчас принесу стул и стол. — Я сбежал вниз и вернулся с тем столиком и со стулом. Переставил все с подноса на стол. — Ну, иди, милая, а то чай остынет. И еще смотри, какой я тебе принес подарок, камень, самый красивый на всем берегу.
Я положил рядом с ее тарелкой тот овальный камень, мою первую находку, моей коллекции, большой, пятнисто-розовый, неровно исчерченный белыми полосками, образующими узор, перед которым склонились бы во прах Клее и Мондриан.[28]
Хартли приблизилась медленно, ползком, потом встала и плотно запахнулась в халат. На камень она не взглянула и не коснулась его. Я обнял ее и поцеловал похожие на парик волосы. Потом поцеловал теплое, укрытое шелком плечо. Потом вышел и запер дверь. О возвращении домой она не заговорила — и то хорошо. Наверно, боится. А уж если ей сейчас страшно думать о возвращении, тогда каждый лишний час, проведенный ею здесь, усилит мои позиции. Я не удивился, обнаружив позднее, что чаю она попила, но к еде не притронулась.
Я взглянул на часы. Еще не было восьми. Интересно, когда и как именно явится Бен. Я поморщился, вспомнив слова Хартли о том, что он не сдал свой армейский револьвер, и пошел вниз отдавать приказы.
Гилберт уплетал яичницу, гренки, поджаренные помидоры.
— А где Титус?
— Пошел купаться. Как Хартли?
— Ужасно… то есть хорошо. Послушай, Гилберт, ты бы не мог выйти из дому и посторожить?.. Да, конечно, сначала доешь завтрак, ты уже как будто неплохо навернул.
— В каком смысле посторожить? — спросил Гилберт подозрительно.
— Просто постой или, если хочешь, посиди на шоссе в конце дамбы, а когда увидишь, что он идет, приди сюда и скажи мне.
— А как я его узнаю? По плетке?
— Не узнать его невозможно. — Я подробно описал Бена.
— А вдруг он на меня нападет? Едва ли он настроен благодушно. Ты сказал, что он грубиян, вроде бандита. Я тебя люблю, мой дорогой, но драться я не намерен.
— Никто и не собирается драться. (Будем надеяться.)
— Могу посидеть в машине, — предложил Гилберт. — Запру дверцы и буду смотреть на дорогу, а если увижу его — посигналю.
Это идея, решил я.
— Отлично, только поторопись.
Сам я вышел через заднюю дверь, пересек лужайку и по скалам добрался до своего утеса как раз в тот момент, когда Титус прыгал в зеленую воду и в воздухе мелькнули его длинные белые ноги, устремленные к небу. Он напомнил мне брейгелевского «Икара». Absit omen.[29]
Я купаться не стал, мне не хотелось, чтобы Бен застал меня без штанов, к тому же была сильная зыбь, и я знал, что вылезти из воды мне будет трудно. Титус — другое дело, ему это пара пустяков, Не забыть приспособить у башни какое-нибудь новое подобие веревки.
Солнце уже поднялось высоко, и море ближе к скалам было прозрачно-зеленое, а дальше сверкало бирюзой, колыхалось и вспыхивало, словно на поверхности его плавали большие белые бляхи. Горизонт был — золотая черта. Большие, но очень гладкие, медленные волны катились к берегу и бесшумно вспенивались среди скал; в плавной, но механической мощи их сильных, равномерных движений таилась угроза.
Я с нетерпением ждал, когда Титус кончит купаться. Нечего ему особенно резвиться в такую серьезную минуту. Он увидел меня, помахал, но явно не торопился. Крикнул, чтобы и я прыгнул в воду, но я покачал головой.
Титус был мне срочно нужен на суше, отчасти потому, что я хотел сгладить болезненное впечатление от нашей дурацкой кухонной пикировки. И еще я хотел, чтобы, когда джентльмен явится, Титус был рядом со мной, одетый, собранный и готовый к бою. Я не воображал, конечно, что Бен явится и тут же всех нас убьет, однако, если с нашей стороны не будет демонстрации силы, с него станется дать мне кулаком по голове; а я хотя и в форме и не обделен физической силой, но искусством нападения никогда не владел. Во время войны я часто думал, как это человек может увидеть другого человека и убить его. Выучка сказывается и, надо думать, страх. Я был рад, что избежал этой доли.
И еще я подумал, угрюмо поглядывая на дельфиньи кувырки Титуса, что ведь понятия не имею, как он-то себяповедет. Правда, он дал мне ясно понять, что ненавидитсвоего приемного отца. Но молодая душа — потемки. При виде Бена он может оробеть, или вдруг в нем проснется сочувствие. Либо застарелые необоримые сыновние ощущения. Неужели Титус способен перекинуться к врагу? И знает ли это сам Титус?
Наконец он подплыл обратно к утесу и, цепляясь руками и ногами, без труда вынес свое голое тело из взлетающего ввысь и спадающего прибоя. Он взобрался наверх, перевалился через край и рухнул навзничь, переводя дыхание.
— Титус, милый, одевайся, живо, вот твое полотенце. Он послушался, вопросительно взглянув на меня:
— А что, мы куда-нибудь едем?
— Нет, но я боюсь, вот-вот появится твой отец.
— В поисках моей матери. Да, это возможно. И как вы тогда поступите?
— Не знаю. Смотря как поступит он. Слушай, Титус, и прости, что я так спешу, я хочу поскорее тебе сказать, что мы с тобой должны держаться друг за друга.
— Ну да. Я весьма ценная собственность. Я подсадная утка. Я заложник.
— В том-то все и дело, что нет. Это-то я и пришел тебе сказать. Не ради этого. Ради тебя. Пойми, ты сам мне нужен, я хочу стать тебе отцом, хочу, чтобы ты стал моим сыном… что бы ни случилось, даже если твоя мать со мной не останется — но я-то верю, что она останется, — но даже если нет, я хочу, чтобы ты принял меня как отца.
— Забавно это, — сказал он, — принять кого-то как отца, когда сам уже взрослый. Что-то я не знаю, как это делается.
— Как это делается — покажет время. Тебе надо только захотеть. Попробуй. Я чувствую, что между нами возникла настоящая близость, и она, естественно, будет возрастать. Не думай, что я только пользуюсь тобой в своих целях, нет, я тебя самого полюбил. Прости, что выражаюсь так нескладно, мне некогда сейчас сочинять изящные речи. Я чувствую, что судьба — или Бог, или не знаю кто — подарила нас друг другу. Давай же ухватимся за эту возможность. Не допустим, чтобы ее испортила дурацкая гордость, или подозрения, или недостаток воображения, или недостаток надежды. Давай отныне целиком принадлежать друг другу. Не важно, что именно это значит, во что выльется, это сейчас еще не видно. Но согласен ты принять, попробовать?
Я не подготовил, да и не предвидел столь страстной мольбы. Я ждал, глядя на него с тревогой и надеясь, что произвел хоть какое-то впечатление.
Он теперь был одет, и мы стояли рядом на высоком утесе над морем. Он смотрел на меня хмурясь, сощурив глаза. Потом отвернулся.
— Ну хорошо… вы, наверно… ну да, конечно… ладно. Честно говоря, я немножко ошарашен. Я рад, что вы это сказали — насчет того, что я вам нужен сам по себе. А то я не был уверен. Я вам верю… кажется. Смешно, я о вас всю жизнь думал и всегда знал, что когда-нибудь придется поехать на вас посмотреть, но все откладывал, потому что боялся. Думал, что, если вы меня оттолкнете… ну, то есть решите, что я враль и попрошайка, что меня интересуют деньги и все такое… а ведь вы вполне могли так подумать, ведь все очень странно… для меня это был бы страшный удар. Даже не знаю, как бы я это пережил. Я бы почувствовал себя обесчещенным на всю жизнь. Очень многое было поставлено на карту.
— Да, многое, но хотя бы в этом отношении все хорошо. Мы поняли друг друга. И не потеряем друг друга.
— Это произошло так быстро…
— И быстро, и легко, потому что так и должно было получиться.
— Ну что ж, попробую, а что это значит — одному Богу ведомо, вы сами так сказали. Но я согласен, во всяком случае, попробую.
Он протянул мне руку, я стиснул ее, и мы постояли так, растроганные и смущенные.
А потом с шоссе донеслись громкие, настойчивые гудки Гилбертова клаксона.
— Это он! — Я вздрогнул и полез по камням к дому. Титус обогнал меня, в два прыжка пересек лужайку. У кухонной двери он налетел на Гилберта.
— Он здесь, пришел по шоссе, остановился у дамбы, а когда увидел меня в машине и когда я стал сигналить, прошел дальше.
— Дальше, минуя дом?
— Да. Может быть, решил пробраться обратно по скалам. — Гилберт, видно, не на шутку перепугался.
Я пробежал через прихожую на дамбу, добежал до шоссе. Бена не было видно. Я заметил, что Гилберт, дабы обеспечить себе отступление, поставил машину поперек дамбы в виде баррикады. Поэтому Бен, очевидно, и прошел мимо. Я еще колебался, когда из-за дома раздался крик Титуса.
Столкнувшись в дверях с Гилбертом, лопотавшим какой-то вздор, я опять выбежал из кухни на лужайку. Титус стоял на одной из высоких скал, указывая вдаль:
— Вон он! Я его вижу. Он идет от башни.
Теперь я уже не сомневался в том, чью сторону держит Титус, и на том спасибо. Я крикнул ему:
— Подожди здесь, я его встречу. Будешь мне нужен — позову.
Я полез по скалам в сторону башни и сразу же увидел Бена: он с достойным удивления проворством тоже лез по скалам, в сторону дома.
Точкой, где наши пути сходились, — вернее, единственной точкой, через которую вел сравнительно легкий путь от башни к дому, — был Миннов мост, каменная арка, под которой море врывалось в Котел. К этой точке мы оба устремлялись, оступаясь и скользя, пока не очутились возле моста, в каких-нибудь десяти шагах друг от друга. У меня мелькнула чуть тревожная надежда, что Титус еще видит нас со своей вышки. Я быстро оглянулся. Нет, не видит.
Бен был в темных, потертых на коленях вельветовых штанах, должно быть из «Магазина для рыбаков», и в белой рубашке. Ни куртки, ни пиджака, хотя утро еще было прохладное. Почему он оделся так легко — показать, что при нем нет оружия, или же чтобы удобнее было драться? Грузный, штаны тесноваты, но вид подтянутый и деловитый. Свежевыбрит, не то что я. Брился один в своем внезапно опустевшем доме и бог весть о чем думал, глядя на себя в зеркало. Короткие бесцветные волосы, большая мальчишечья голова, широкие плечи и невысокий рост — он очень напоминал барана, либо кабана, либо еще какое-то некрупное, но свирепое животное. По контрасту с этой тупой, тяжелой силой я почувствовал себя прямо-таки щуплым — стою разболтанный, неопрятный, растрепанный и, как я только что сообразил, в полосатой пижамной куртке.
Я ступил на мост, и он тоже. Было время прилива, и большие сильные волны, врываясь в Котел, жадно вылизывали его гладкие стены. Низкий свистящий гул звучал не так громко, чтобы заглушить переговоры. Я стоял, проверяя, застегнуты ли пуговицы на пижаме, и ждал, чтобы он заговорил первым. Гул воды действовал на меня успокоительно. Я надеялся, что Бена он собьет с толку. Для меня шум всегда был союзником.
Никогда еще я не видел лицо Бена так близко и при таком хорошем освещении. Он был, пожалуй, красивее, чем я себе представлял. У него были удлиненные карие глаза с длинными ресницами и большой, хорошего рисунка рот, выражавший (впрочем, может быть, только сейчас) легкую издевку. Срезанный подбородок уходил в толстую шею. Я сразу и с облегчением увидел, что он нервничает и в то же время очень рассержен. Может быть, он побаивается меня? Что это, чувство вины? Ведь оно порождает страх.
— Где моя жена?
— Здесь, в моем доме, и хочет здесь остаться. И Титус тоже, он не был моим сыном, как вам прекрасно известно, но теперь он мой сын. Я его усыновил.
— Что? — Да.
— Как вы сказали?
Еще приятнее мне было убедиться, что Бен глуховат, во всяком случае, слышит хуже меня, и шум воды ему мешает. Правда, свое сообщение я изложил не очень внятно. Теперь я произнес до обидного отчетливо:
— Она здесь. Титус здесь. Они останутся здесь.
— Я пришел забрать ее домой.
— Послушайте, вы же в самом деле не думаете, что Титус мой сын? Уверяю вас, что нет.
— Отдайте мою жену.
— Вы поняли, о чем я толкую? Вам это должно-быть интересно. Титус — не мой сын.
— Это мне теперь все равно. С этим покончено. Мне нужна Мэри.
— А она хочет остаться здесь.
— Не верю. Вы ее держите силой. Вы ее похитили. Я знаю, по своей воле она бы не осталась, знаю.
— Она пришла ко мне, прибежала ко мне, как и раньше, как в тот раз, когда вы были на столярных курсах. По-вашему, я смог бы вытащить ее из вашего дома силой?
— Она сумку оставила.
— Вы ее не любите, она вас не любит, боится до смерти, зачем скрывать это от самих себя? Зачем этот отвратительный обман?
— Отпустите Мэри, не то я заявлю в полицию.
— А вас там обсмеют. Вы прекрасно знаете, что полиция в такое дело не станет вмешиваться.
— Отдайте мою жену.
— Она не хочет к вам возвращаться, с нее хватит. Я пришлю машину за ее вещами.
— Чего она вам наврала?
— Ах, вот как вы хотите повернуть дело! Облить ее грязью, свалить всю вину на нее! Да, этим вы себя с головой выдали.
— Она истеричка, бог знает что выдумывает, она больная.
— Что с нее хватит вашей жестокости — это она, безусловно, не выдумала. Давайте, давайте, идите в полицию, посмотрим, что из этого выйдет.
— Вы не знаете, во что встряли, не понимаете. Она моя жена, я ее люблю и заберу там ей и место, там она и хочет находиться. И что вы ни с того ни с сего влезли в нашу жизнь, зачем решили здесь поселиться и докучать нам, мы вас не звали, вы нам не нужны. Я знаю, что вы за человек, я про вас читал, вы дрянной человек, негодяй, разрушитель, вы дерьмо. Мэри вам не какая-нибудь распутная актерка, она порядочная женщина, вы к ней прикоснуться не достойны. Отвяжитесь от нас, не то плохо вам будет. Я предупреждаю, отвяжитесь от нас.
Не находя слов под стать своему гневу, Бен стоял набычившись, скаля крепкие, мокрые от слюны зубы. На минуту меня заворожил ритмичный свистящий гул мощных машинных волн — я и не глядя видел, как они закручиваются в каменной воронке у меня под ногами. И пришла мысль, такая ясная и отчетливая, словно в ней участвовало все мое тело: нужно быстро сделать три шага вперед и столкнуть этого мерзавца с моста. Пусть он сильнее, зато я проворнее. Плавать он не умеет; да и хороший пловец сразу задохнется в этом кипящем котле. Нас никто не видит. Можно будет сказать, что он на меня напал. Стоит толкнуть его — и все мои беды кончатся.
С этой мыслью я сверлил Бена глазами. Во мне уже шевелились зачатки движения, хотя со стороны, кажется, не было видно, чтобы я шелохнулся. Однако хватало и взгляда, и я был уверен, что он прочитал мое намерение, если только это можно назвать намерением, потому что я, конечно, нипочем бы его не выполнил. Он отступил к самому концу моста, а я разжал кулаки и опустил глаза. И тоже отступил.
— Верните ее! — сказал он, повысив голос, потому что грохот воды разделил нас теперь стеной. — Верните ее нынче же утром, не то берегитесь, уж как-нибудь да я до вас доберусь. Понятно? Я не шучу.
Я промолчал.
Он опять заговорил, словно бы вдруг смутившись, прерывающимся голосом:
— Вы о ней-то подумайте. Она хочет домой, я знаю. Вам не понять. Кончайте это дело. Ведь ей же будет хуже. Когда-нибудь все равно придется идти домой. Неужели не ясно?
Я произнес одними губами:
— К чертовой матери.
Он стал удаляться. Потом обернулся и крикнул:
— Скажите ей, собаку я вчера привел. Я думал, она так обрадуется.
Я смотрел, как он, двигаясь теперь медленнее и наконец-то волоча ногу, карабкается по скалам, то исчезая, то снова появляясь. Когда он уже почти добрался до шоссе, я стряхнул с себя оцепенение и поспешно двинулся к дому. Нужно было удостовериться, что он действительно ушел. Титус, все еще сидевший на своей вышке, соскочил с нее и пошел за мной. Гилберт был на лужайке. Оба приступили было ко мне с расспросами, но я пробежал мимо. Они догнали меня, и мы втроем ступили на дамбу и дошли до машины, стоявшей все в той же позиции. Мы стали в шеренгу позади машины. Бен приближался к нам по шоссе. Титус бросил на него взгляд, а потом повернулся к шоссе спиной. Жест был многозначительный. Бен прошел мимо нас, свирепо сжав губы, без слова, без взгляда, и не спеша зашагал дальше к деревне.
— Что у вас там произошло? — спросил Титус, вид у него был смятенный, испуганный.
— Ничего.
— Как это ничего?
— Он свое сказал.
— Что он сказал?
— Наврал с три короба. Сказал, что она истеричка, невесть что выдумывает.
— Истеричка — это да, — сказал Титус. — Она могла закатить истерику на целый час. Очень бывало страшно. Что и требовалось.
— Если ты решил, что он все-таки тебе отец, можешь идти с ним домой, я тебя не держу.
— Не надо так со мной говорить. Очень уж мне ее жалко, черт побери.
— А пойти к ней навестить не хочешь?
— Нет… пока она… нет.
— А-а… — Не помня себя от бешенства, я бегом вернулся в дом, взбежал по лестнице и отпер дверь в комнату Хартли.
Она сидела на матрасе, привалясь к стене и подтянув колени, закутанная в мой черный халат. Она глянула на меня опухшими глазами и, не дав мне переступить порог, затянула монотонным голосом:
— Отпусти меня домой, пожалуйста, я хочу домой, мне туда надо, больше идти некуда, отпусти меня домой, пожалуйста.
— Твой дом здесь, со мной, ты дома!
— Отпусти меня. Почему ты такой недобрый? Чем дольше откладывать, тем будет хуже.
— Зачем тебе возвращаться в эту тюрьму? Он тебя что, загипнотизировал?
— Лучше мне умереть. Я, наверно, скоро умру, я чувствую. Я иногда чувствовала, когда ложилась спать, что вот захочу умереть — и умру, но потом всякий раз, когда просыпалась, оказывалось, что нет, я еще тут. Каждое утро убеждалась, что я — это все еще я. Это же сущий ад.
— Так уйди из этого ада. Дверь открыта, я ее держу.
— Не могу. Ад во мне самой, от него никуда не деться.
— Да ну же, Хартли, встань! Пойдем вниз, посидим на солнышке, поговори со мной, поговори с Титусом. Ты не пленница. Хватит тебе страдать, ты меня с ума сводишь. Я предлагаю тебе свободу, счастье, хочу увезти тебя и Титуса в Париж, в Афины, в Нью-Йорк, куда захочешь!
— Я хочу домой.
— Да что с тобой творится? Вчера ты была не такая.
— Я, наверно, скоро умру, я чувствую.
В ее глазах, упорно не желавших смотреть на меня, была холодная отчужденность, как у человека, твердо решившего больше ни на что не надеяться.
Последовали дни, удивительнее которых я не припомню. Хартли отказалась сходить вниз. Пряталась в своем углу, как больное животное. Я запирал ее, чтобы не убежала топиться, не оставлял ей свечи и спичек, чтобы не сожгла себя. Я только и думал, что о ее благополучии, а между тем не решался оставаться у нее все время или даже подолгу, мало того — вообще не знал, как держать себя с ней. На ночь она оставалась одна, а ночи были длинные, потому что она ложилась рано и засыпала быстро (я слышал ее храп). Спала она много, и ночью, и во второй половине дня. Сон не подводил ее, всегда спешил на помощь. А я тем временем наблюдал и ждал, высчитывая по какой-то мудреной и ненадежной системе правильные сроки своих посещений. Я молча провожал ее в ванную. Я подолгу просиживал на площадке возле ее двери. Отнес пару диванных подушек в пустой альков, из которого, как мне когда-то приснилось, выходила через потайную дверь миссис Чорни, чтобы выгнать меня из своего дома. Я сидел на подушках, неотступно глядя на дверь Хартли и прислушиваясь. Мне случалось задремать под ее мерный храп.
Разумеется, я часто заглядывал к ней, пытался поговорить либо сидел молча. Я опускался возле нее на колени, гладил ее руки и волосы, ласкал ее, как беспомощного птенца. Она была босая, но поверх платья неизменно надевала мой халат. И все же я легкими прикосновениями, незаметно сводил знакомство с ее телом; постигал его объем и вес, ее великолепные округлые груди, полные плечи, бедра; я охотно провел бы с ней ночь, но малейшая, еле уловимая моя попытка раздеть ее наталкивалась на еле уловимое сопротивление. Она нервничала без своей косметики, я послал Гилберта в деревню купить все, что ей было нужно, и она при мне подкрасила глаза и губы. Эту малую дань кокетству я воспринял как хороший знак. Однако я по-прежнему опасался и ее, и за нее. В том, что я без слов, но категорически отказывался отпустить ее, уже было насилие. Я боялся, как бы дальнейший нажим не вызвал у нее вспышку неистовой враждебности либо полный уход в себя, и тогда я стану таким же безумным, как она; а о ней я порой уже думал как о безумной. Так мы и жили в атмосфере непонятной и непрочной взаимной терпимости. Время от времени она повторяла, что хочет домой, но мой решительный отказ принимала пассивно, и это меня подбадривало. Конечно же, с каждым часом рос ее страх перед возвращением в «Ниблетс», что само по себе вселяло надежду. Должен же наступить момент, когда этот страх самой своей тяжестью толкнет ее ко мне?
Изредка нам все же удавалось побеседовать о каких-нибудь пустяках. Когда я пробовал напомнить ей прежние дни, она порой откликалась; и бывало, что, любя и жалея ее всем сердцем, я чувствовал, что мое «лечение» приносит какие-то плоды. Однажды она вдруг спросила: «Что сталось с тетей Эстеллой?» А я и не помнил, что рассказывал ей про тетю Эстеллу, — дядина семья всегда казалась мне запретной темой. В другой раз сказала: «Филипп тебя не любил». Филипп был ее брат. «Что он поделывает?» — «Убит на войне». И добавила: «По-настоящему это ты был моим братом». Она никогда не задавала вопросов о моей жизни в театре, и я не пытался ей ничего рассказывать. Думаю, что это ее и не интересовало. Одно я, во всяком случае, теперь понял: она вовсе не жалела, что не стала женой знаменитого человека. Раза два она спрашивала, знаком ли я с такими-то известными актерами, но о театре ничего толком не знала и не выпытывала. Один раз спросила: «А ты не знал такую актрису — Клемент Мэйкин?» После минутной заминки я ответил: «Знал, и очень хорошо. Она меня любила, некоторое время мы жили вместе».
«Значит?..» — «Ну да, она была моей любовницей». — «Но она же была намного старше тебя?» — «Да, но это как-то не имело значения». — «Она уже была совсем старая». Немного погодя Хартли заплакала и позволила мне обнять ее. О Клемент она больше не заговаривала. То была одна из тех минут, когда мне казалось, что из моей любви и жалости на меня глянула надежда. И я задумался о великой тайне: наверно, у Хартли столько же воспоминаний и такая же длинная история, как у меня, но я никогда не узнаю этой ее жизни, никогда в нее не проникну. Конечно, это меня раздражало. Я-то думал, что она, когда утихнет отчаяние, будет так несчастна, что поневоле станет искать у меня поддержки. Именно потому, что она не сломилась, я теперь пребывал в полном разброде.
Я рассчитывал на помощь Титуса, но он не хотел, а может быть, не мог мне помочь. Хартли он словно побаивался — его пугало ее положение узницы, ее беспомощность, ее психика, какой он ее себе представлял. Ему претило ее унижение. Он не желал быть к нему причастным. Вся эта история, то, что он называл моей «игрой» или «методами», словно внушала ему отвращение, смешанное с чувством соучастия и вины. И он, несомненно, боялся Бена, пусть это был страх не за себя, а за мать. Он жаловался, что в комнате у Хартли плохо пахнет, уверял, что не может там дышать, и однако же от смущения не мог заставить себя уговорить ее выйти на воздух. Просил меня не уходить, когда говорил с нею, а если я оставлял их вдвоем, очень скоро убегал. Трудность, надо полагать, заключалась в том, что говорить про Бена они не могли, а кроме как о вещах, связанных с ним, говорить было почти не о чем. И еще я уже успел заметить, что Титус избегает говорить о том, как он жил после того, как ушел из дому; он очень неохотно отвечал на мои вопросы, и эта его скрытность исключала еще одну возможную тему для разговоров. Хартли и сама не выказывала особого любопытства насчет его похождений. Можно сказать, что разговор у них шел вежливый. Во всяком случае, в первый день. После этого Титус все неохотнее навещал ее, а она все больше психовала, и потому мне все меньше хотелось его понуждать.
Я никак не мог привыкнуть, что он называет ее Мэри.
— Мэри, выходи на солнце. Здесь холодно.
— Нет, спасибо.
— Тебе сегодня лучше? — Каким-то образом возникла спасительная теория, будто она нездорова.
В нарочито снисходительном тоне они обсуждали достоинства «Ниблетса». Но было похоже, что они и не думают о том, что говорят.
— И сад хороший? В тридцать четвертом доме у нас и сада-то не было. Просто двор.
— Да, просто двор. Это в тридцать четвертом доме.
— Я помню, там в углу под навесом стоял каток для белья. Помнишь каток?
— Да.
— Так что теперь ты можешь сажать розы. Ты об этом всегда мечтала, верно?
— Да, много-много роз, всех колеров.
— И прямо из окон видно море? Помнишь, мы говорили, как это было бы здорово?
Непонятно, что находила в этих разговорах Хартли. Я уже понимал, как наивно было воображать, что мать и сын заключат друг друга в объятия и сразу обретут язык любви. А впрочем, может, это и был язык любви. Любовь там, безусловно, присутствовала, но почему-то ни он, ни она двух слов не могли связать от застенчивости. Диалог подвигался неуклюжими скачками, главным образом усилиями Титуса. С прелестями «Ниблетса» они, к счастью, покончили быстро. А после этого наиболее успешные их беседы сводились к самым примитивным воспоминаниям о домах и садах из времен Титусова детства.
— Помнишь дырку в заборе, в которую я заглядывал, когда мы жили в шестьдесят седьмом доме?
— Да…
— Я ведь влезал на ящик!
— Да, на ящик…
Почему они не могут разговаривать как люди? Неужели за эти годы ее любовь к Титусу и любовь к ней в самом деле была растоптана? Страшная мысль. Позже я понял, что, конечно же, вся ситуация в целом лишала их дара речи; а создал эту невозможную ситуацию не кто иной, как я.
Этот период заточения Хартли непомерно растянулся в моей памяти, словно он вместил в себя историю долгой душевной драмы, важнейшие события, перепады, неожиданности, срывы, взлеты, рецидивы. На самом деле он длился всего четыре-пять дней. История, драма, перепады — все это действительно было. Странно, но после первого дня я перестал терзаться из-за Бена. Я, конечно, о нем не забыл и, конечно, поджидал его. На ночь неукоснительно запирал дверь. Мелькала и тревожная мысль, что с него станется попытаться поджечь дом — он ведь как-никак имел отношение к пожарам. Но как навязчивая идея он перестал существовать, может быть, потому, что мне удалось и мысленно от него отгородиться, и опасность, исходящая от него, стала менее реальной. Почему он ничего не предпринимает? Разрабатывает какой-нибудь сложный план или предпочел себя мучить, выжидая, пока его ярость достигнет точки кипения? Возможно ли, что он боится Титуса? Э, да стоит ли ломать себе над этим голову?
Что касается Титуса и Гилберта, то они, едва им удавалось улизнуть от меня и Хартли, вели себя как школьники на каникулах. Титус не желал обсуждать своих приемных родителей, он решительно отмежевался от этих проблем. Он каждый день купался, всегда с моего утеса, порой по два, по три раза в день. Обмазывался кремом для загара и голышом валялся на скалах. От опасений, что его заподозрят в попрошайничестве, не осталось, видно, ни следа. Он принимал мое гостеприимство как должное и ничего не давал взамен — ни помощи, ни тепла. Впрочем, я к нему несправедлив. Не могу я осуждать его за то, что он «не хотел знать», что творится на втором этаже. Вероятно, он над этим и не задумывался, да и при желании не мог бы догадаться. К тому же я теперь уделял ему очень мало времени, и это могло показаться ему обидным! Я же, со своей стороны, пришел к мысли, что Титус — натура не столь сложная, как я вообразил сначала; а может быть, он, столкнувшись с ужасами, сознательно выбрал простоту.
Гилберт проявлял куда больше любопытства, а также стремления мне помочь (он даже предложил поставить в комнате Хартли букет цветов), но я его решительно отстранил. Он, разумеется, по-прежнему был полезен. Он готовил еду. Ездил в лавку, пока Титус принимал солнечные ванны. Но на верхнюю площадку я его не пускал. Об одной забавной подробности, связанной с этим временем, я до сих пор не могу вспомнить без содрогания. Выяснилось, что и Титус, и Гилберт обожают петь. У Гилберта был очень баритон, Титус пел вполне приличным тенором, мог и фальцетом. Более того, у них оказался неисчерпаемый общий репертуар. Пока я не выгонял их за дверь, дом буквально сотрясался от их дуэтов. Конечно, они были бы не прочь иметь меня в качестве публики (все певцы тщеславны), и, конечно, они были бы не прочь просиживать в кухне полночи, распевая во все горло и поглощая мое вино. (Оба пили много, пришлось послать Гилберта в отель «Ворон» за пополнением.) Их было слышно даже с улицы, причем довольно далеко от дома, до того громко они пели и с такой радостью хвастали друг перед другом своими талантами. (Хартли никогда не упоминала о их пении, ей, наверно, было все равно, а может быть, она, как и ее супруг, была туга на ухо.) Они исполняли арии из опер и оперетт, мадригалы, поп-мелодии, народные песни, неприличные куплеты и любовные романсы по-английски, по-французски и по-итальянски. Мне кажется, они буквально опьяняли себя музыкой; возможно, то была естественная реакция на царившую в доме предгрозовую атмосферу.
Я только что сказал, что Титус в моих глазах стал проще, чем показался вначале. Это — применительно к его матери и к моим личным проблемам. (Вернее, пожалуй, было бы сказать не «проще», а более равнодушным, менее внимательным.) Но стоит отметить и другое, и Гилберт тоже это заметил: по некоторым второстепенным признакам Титус был культурнее, чем можно было ожидать от мальчика, который не стал доучиваться в средней школе, а пошел в политехнический колледж «изучать электричество». Где он обретался последний год или два? Это оставалось тайной. Я помнил запонки и любовную лирику Данте. По моим предположениям, он жил с женщиной старше его. Он сейчас был в том же возрасте, как я, когда меня умыкнула Клемент; похищение младенцев, так это называлось. Какая-нибудь хищница похитила Титуса, а потом, совсем недавно, дала ему отставку. Гилберт же, естественно, предполагал, что Титус жил с мужчиной. Сам Титус на этот счет помалкивал. (Здесь, пожалуй, уместно будет сказать, что Перри, конечно же, ошибался касательно моих отношений с Фрицци Айтелем.)
Я упомянул историю и перепады, и позже мне в самом деле казалось, что за эти дни я заново пережил всю историю моей любви к Хартли — не только давние времена, но и все промежуточные годы. С каждым днем, с каждым часом я вспоминал все новые подробности. К вечеру второго дня Хартли ненадолго разговорилась; перед тем она словно бы о чем-то размышляла, и эти свои размышления теперь облекла в слова. Так состоялся диалог, закончившийся крайне плачевно.
Мы сидели на полу — она на матрасе, я на голых досках, вытянув ноги, лицом к длинному окошку, выходящему в гостиную. Внутренняя комната, и всегда полутемная, тонула в сумерках, но вечернее солнце проникало сюда в виде тусклого теплого свечения. Я коснулся руки Хартли. Всем телом я ощущал, что она рядом.
— Хартли, милая, мой халат тебе очень к лицу, но неужели тебе никогда не хочется его снять?
— Мне холодно.
— Ты еще не чувствуешь, что ты здесь дома?
— По-твоему, самое главное — что с моей стороны было ошибкой не выйти за тебя замуж.
— Ошибка-то была. Но сейчас самое главное — исправить ее.
— Просто тебе нужен кто-то, с кем можно вспоминать прошлое.
— Ну, это уж нечестно, когда я так хочу говорить о будущем, только ты вот не хочешь!
— Ты на меня в обиде за то, что ушла.
— Ага, так ты признаешь, что ушла?
— Наверно, так. Давно это было.
— Ты сказала, что я тебе изменю.
— Разве? Не помню. (Я-то всю жизнь исходил из этих ее слов, а она их не помнит!) Наверно; сказала, я только знаю, что чувствовала себя виноватой.
— Потому что сделала мне больно?
— Да. Я всегда чувствовала себя виноватой и думала, что ты осуждаешь меня. И мне нужно было как-то защититься мыслью, что ты меня ненавидишь.
— Но как это могло тебя «защитить»?
— Когда я тебя увидела в деревне, я подумала, что ты меня видел и нарочно не узнал, потому что ненавидишь меня.
— Не мог я тебя ненавидеть, моя родная, ни одной минуты.
— Мне нужно было так думать.
— Но почему?
— Чтобы быть уверенной, что ты действительно ушел, что все действительно кончено. Чтобы вроде как умертвить это в памяти.
— Ох, Хартли, для меня оно никогда не кончалось, в моей памяти никогда не умирало. Значит, ты обо мне скучала, боялась обо мне думать? Разве это не доказательство, что ты меня любишь?
— А мне все-таки кажется, что ты меня ненавидишь. Обижен на меня.
— Теперь? Да ты с ума сошла.
— Если б не обида, ты бы не был такой недобрый.
— Хартли, не мучь меня, ты рассуждаешь как ненормальная.
— Либо это любопытство, как у туриста, ты меня осматриваешь, осматриваешь мою жизнь и чувствуешь свое превосходство.
— Хартли, перестань! Или ты нарочно стараешься меня уязвить? Уж если кто недобрый, так это ты. Мы связаны вечными узами, ты это знаешь, это ясно как день, яснее Иисуса. Я хочу, чтобы ты стала наконец моей женой, чтобы обрела во мне успокоение. Я хочу заботиться о тебе всю жизнь, пока не умру.
— Мне бы самой поскорее умереть.
— Замолчи, ради Бога.
— Хоть бы все поскорее кончилось. Я свою жизнь прожила. Хоть бы кто-нибудь убил меня.
— Значит, он грозил тебя убить?
— Нет, нет, это все у меня в мыслях.
— Вернуться ты сейчас не можешь, я тебя не отпущу, даже если я тебе не нужен. Это же так просто, ты сама все усложняешь.
— Это ты все усложняешь по-своему, изворачиваешься, извиваешься, как угорь. Это в тебе всегда было, я помню.
— Ну вот, теперь я угорь, этого еще не хватало. Когда речь шла о тебе, я не изворачивался и не извивался. Я всегда хотел тебя, и только тебя. Я-то был верен. Я-то не женился.
— Ну так жил с женщинами, хотя бы с той старой актрисой.
— Пусть так, но я ведь не мог тебя найти. Как ни старался, как ни искал, а в глубине души не терял надежды, поэтому, может быть, я тебя и нашел.
— Я была несправедлива к Бену.
— О Господи, опять ты про Бена. Бена больше нет.
— Он так мучился, когда Титус исчез, это было вроде епитимьи.
— Допускаю, но он заслужил свою муку, он сам выжил Титуса и, поверь, был очень рад.
— Нет, нет, не так уж плохо он обращался с Титусом, как я сказала. Он был с ним строг…
— Не строг, а жесток. И с тобой тоже. Не заступайся за него. И давай не будем больше говорить про этого негодяя.
— Из общества защиты детей никто не приходил, это я только так сказала.
— К черту общество защиты детей. Мне плевать, приходили они или нет.
— Но я сказала, что приходили, а этого не было.
— Если и не приходили, так следовало прийти.
— Но это была неправда.