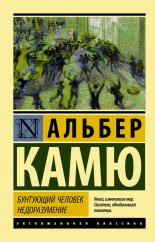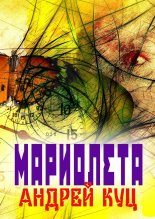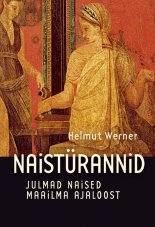Море, море Мердок Айрис
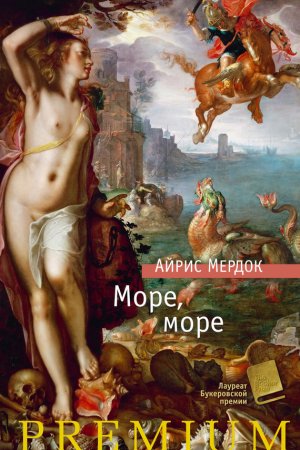
ПРЕДЫСТОРИЯ
Море, которое раскинулось передо мною сейчас, когда я пишу эти строки, не сверкает, а скорее рдеет в мягком свете майского солнца. Начался прилив, и оно тихо льнет к земле, почти не тронутое рябью и пеной. Ближе к горизонту море окрашено в пурпур, прочерченный изумрудно-зелеными штрихами. У самого горизонта оно темно-синее. Ближе к берегу, где вид на него ограничивают громоздящиеся справа и слева песочно-желтые скалы, протянулась зеленая полоса посветлее, ледяная и чистая, но не прозрачная, а приглушенно матовая. Здесь север, и яркий солнечный свет не проникает в толщу моря. Там, где вода лижет скалы, на ее поверхности еще сохраняется пленка цвета. У самого горизонта очень бледное безоблачное небо разбросало по темно-синей воде легкие серебряные блики. К зениту небесная синь густеет, вибрирует. Но небо холодное, даже солнце какое-то холодное.
Не успел я закончить этот абзац, предназначенный служить вступлением к моим мемуарам, как произошло нечто до того немыслимое, до того страшное, что и сейчас я не в силах это описать, хотя прошло уже немало времени и я, кажется, даже нашел этому возможное объяснение, правда, не особенно успокоительное. Может быть, спустя еще какое-то время я немного приду в себя и голова прояснится.
Я сказал — мемуары. Вот во что, значит, выльются эти записи? Там видно будет. Пока что, в возрасте одной страницы, они больше похожи не на мемуары, а на дневник. Ну, так пусть будет дневник. Как мне жаль, что я не вел дневника раньше, какой это был бы документ! А теперь главные события моей жизни в прошлом, а впереди — ничего, кроме «воспоминаний на покое». Исповедь себялюбца? Не совсем, но что-то в этом роде. Разумеется, своим актерам и актрисам я этого не говорил. Они бы меня засмеяли.
Театр — вот где убеждаешься в быстротечности земной славы. Ах, эти чудесные, все в блестках, канувшие без следа пантомимы! Теперь я отрекусь от волшебства и стану отшельником; поставлю себя в такое положение, чтобы можно было честно сказать: мне только и осталось, что учиться быть добрым. Конец жизни справедливо считают порой размышлений. Пожалею ли я о том, что для меня эта пора не наступила раньше?
Писать необходимо, это-то ясно, и притом совсем не так, как я писал прежде. Все, написанное мною прежде, было однодневками, на большее я и не претендовал. Эти же мои записи — для потомства, я не могу не надеяться, что они пребудут в веках. Да, этот предмет, эта книжечка, libellum, творение, которому я даю жизнь и которое словно бы уже обрело собственную волю, — для меня отныне как живое существо. Оно хочет жить, хочет уцелеть.
Я и подумывал вести дневник — не событий, потому что их не будет, а просто чтобы получилась некая смесь из мыслей и повседневных наблюдений, моя философия, мои perses, на фоне несложных описаний погоды и прочих природных явлений. Теперь мне кажется, что это была неплохая идея. Море. Одними словесными картинами моря я мог бы заполнить целый том. И систематически рассказать о здешних местах, их флоре и фауне. Если хва-тит прилежания, это могло бы представить известный ин-терес, хоть я и не Уайт из Селборна.[1] Вот сейчас из моего окна, обращенного к морю, я вижу чаек трех разных пород, ласточек, баклана, бесчисленных бабочек, порхающих над цветами, каким-то чудом выросшими на моих желтых скалах…
Только не надо пытаться писать «красиво», это испортило бы весь замысел. К тому же я только выставил бы себя в смешном свете.
О благословенное северное море, настоящее море, с чистыми, милостивыми приливами и отливами, не то что Средиземное, этот котел вонючего разогретого супа!
Говорят, здесь водятся тюлени, но я их еще не видел.
Конечно же, нет смысла четко разграничивать «мемуары», «дневник», «философский журнал». Попутно, читатель, я могу рассказать тебе и о моей прошлой жизни, и о моем «мировоззрении». Почему бы и нет? В размышления все это укладывается вполне естественно. Вот так бестревожно (ведь все тревоги остались позади) я и обрету свой «литературный жанр». Во всяком случае, к чему решать заранее? Позже, если понадобится, я смогу расценить эти беспорядочные записи как черновик для более связного повествования. В самом деле, как знать, насколько интересной покажется мне моя прошлая жизнь, когда я начну о ней рассказывать? Может быть, я постепенно доведу свою историю до сегодняшнего дня и как бы наложу свое настоящее на свое прошедшее?
Покаяться в эгоизме? Пожалуй, автобиография не лучший путь к этой цели. Но ведь я, не будучи философом, и о мире могу размышлять, лишь размышляя о своих приключениях в этом мире. А я чувствую, что настало наконец время подумать о себе. Может показаться странным, что такое чувство — будто никогда еще о себе и не думал — возникло у человека, которого популярная пресса заклеймила как «тирана», «деспота» и (если память мне не изменяет) «чудовище властолюбия». Однако это так. Я в самом деле мало что знаю о своей сущности.
И только в последнее время у меня появилась эта потребность написать нечто одновременно и личное, и обобщающее. В пору, когда я писал однодневки, мне казалось, что если я когда-нибудь что-нибудь издам, то разве что поваренную книгу.
Сейчас, вероятно, самое время представиться: прежде всего, выходит, самому себе. Вот, оказывается, какая странная вещь автобиография. Другим, если эти слова будут напечатаны в не слишком далеком будущем, «оратор достаточно знаком», как говорят на торжественных собраниях. Сколько времени длится смертная слава? Такая, как у меня, — не очень долго, но все же. Да, да, я — Чарльз Эрроуби, и сейчас мне, скажем так, за шестьдесят. У меня нет ни жены, ни детей, ни сестер, ни братьев, я — это именно я, широко известная фигура в блестках непрочной славы. Я уже давно решил, что после шестидесяти лет уйду из театра. («Ты никогда не уйдешь, — сказал мне Уилфрид. — Просто не сможешь». Он ошибся.) А я устал от театра, с меня хватит. Вот чего не могли ни предугадать, ни вообразить все те, кто меня близко знал, — Сидни, Перегрин, Фрицци, да и Уилфрид и Клемент, когда были живы. А дело не только в том, чтобы благоразумно удалиться «на гребне волны». (Сколько актеров и режиссеров не сумели уйти вовремя, несчастные люди!) Я от всего этого устал. Ощутил какой-то внутренний протест.
«Ладно, уходи, — говорили они, — но не воображай, что сможешь вернуться». А я и не хочу возвращаться, премного благодарен. «Если перестанешь работать, уединишься, то кончишь тихим помешательством». (Это высказался Сидни.) А я, напротив, впервые в жизни чувствую себя абсолютно нормальным, свободным и счастливым.
Не то чтобы я вдруг стал относиться к театру «неодобрительно», как, скажем, всю жизнь относилась к нему моя мать. Просто я понял, что если не уйду, то начну духовно увядать, утрачу нечто такое, что до сих пор терпеливо оставалось при мне, но могло бы и уйти, если не дождется от меня внимания; нечто, не связанное с требованиями моей работы, а совсем отдельное от нее, и тем драгоценное. Помню, Джеймс что-то говорил насчет людей, которые кончают свои дни в пещерах. Ну так вот, здесь — моя пещера. И я забрался в нее и принес с собой эту драгоценность, некий талисман, который теперь можно и развернуть. Как высокопарно это звучит! А я, признаться, и сам толком не что хотел Прервем-ка на время эти тяжеловесные размышления.
Все это я записывал в течение нескольких дней — чудесных, пустых, одиноких дней, о каких я столько мечтал, еще не веря, что когда-нибудь у меня достанет желания сделать эту мечту явью.
Я опять ходил купаться, но все еще не нашел самого подходящего места. Сегодня утром я просто бросился в воду с ближайших к дому скал, там, где они обрываются почти отвесно, но небольшие выступы и складки все же образуют некое подобие лестницы. Я называю это место моим «утесом», хотя оно даже во время отлива не выше двадцати футов. Вода, конечно, очень холодная, но уже через несколько секунд она словно обволакивает тело теплой серебряной кожей, словно обрастаешь чешуей, как тритон. Кровь, взбодренная холодом, ликует, наливаясь новой силой. Да, это моя стихия. Странно даже подумать, что я впервые увидел море только в четырнадцать лет.
Я — бесстрашный, искусный пловец, и волны меня не пугают. Сегодня море было тихое по сравнению с океанами другого полушария, где мне доводилось резвиться, как дельфину. Трудность у меня была, можно сказать, чисто техническая. До смешного трудно, даже при такой слабой зыби, оказалось выбраться обратно на берег. Мой утес чуть круче, чем нужно, а выступы — чуть уже. Легкие волны дразнили меня — приподнимали и тут же опять отдергивали от скал, снова и снова отрывая мои пальцы, ищущие, за что бы ухватиться. Утомившись, я поплавал немного, высматривая другие места, где море беспокойно металось взад-вперед, но там вылезти было еще труднее — подо мной была большая глубина, а скалы, хоть и не такие крутые, были совсем гладкие либо скользкие от водорослей, и я не мог за них удержаться. В конце концов я все же вскарабкался на свой утес, впиваясь в камень пальцами рук и ног, потом примостился боком на коленях на одном из выступов. Добравшись до вершины и растянувшись на солнце, чтобы отдышаться, я заметил, что руки и колени у меня в крови.
С самого приезда сюда я позволяю себе удовольствие купаться нагишом. По счастью, этот скалистый участок берега не привлекает туристов с их «ребятишками». Здесь нет ни намека на какой-либо песчаный пляж. Кто-то, я слышал, сказал, что берег здесь ни к черту. Подольше бы за ним держалась такая репутация! Скалы, что тянутся в обе стороны от моего дома, и впрямь не живописны. Они песочно-желтого цвета, в веснушках кристаллов, навалены огромными бесформенными грудами. Ниже линии прилива они обвешаны фестонами блестящих колючих темно-бурых водорослей с неприятным запахом. Однако для тех, кто поднимется выше, они таят великое множество радостей. Там попадаются маленькие узкие ущелья, и в них — где озерко, где миниатюрная осыпь из поразительно разнообразных и красивых камней. Есть там и цветы, ухитрившиеся пустить корни в расщелинах: розовая армерия и бледно-лиловый просвирник, что-то вроде ползучего белого морского горицвета и сине-зеленое растение с листьями как у капусты, и камнеломка, такая крошечная, что ее листья и цветы почти не видны невооруженным глазом. Надо будет разыскать мою лупу и рассмотреть ее как следует.
А еще для этого участка берега характерно, что тут и там вода промыла в скалах ямы. Гротами их не назовешь, много чести, но, если смотреть на них снизу, из воды, выглядят они интересно и немного зловеще. В одном месте, совсем близко от моего дома, вода построила из скал горбатый мост, под которым она с грохотом врывается в глубокую, с отвесными краями впадину. Мне почему-то очень нравится стоять на этом мосту и глядеть, как вспененные волны, кидаясь вперед и отступая, рождают в этой замкнутой каменной яме неистовое противоборство сил.
Вот и еще день прошел. Погода держится прекрасная. С самого приезда сюда я не получил ни одного письма. Моя бывшая секретарша мисс Кауфман по доброте своей оставляет в Лондоне быстро мелеющий поток моей деловой корреспонденции. Да и от кого мне хотелось бы получить письмо? Разве что от Лиззи, а она, вероятно, на гастролях.
Я продолжаю обследовать скалы по пути к моей башне. Да, ведь я теперь владелец не только дома и скал, но и полуразрушенной башни «мартелло». От нее, увы, остался один остов. Хорошо бы восстановить ее, устроить внутри винтовую лестницу, а наверху — комнату для занятий, но я вопреки распространенному мнению не богат. Мой дом у моря поглотил почти все мои сбережения. Правда, у меня хорошая пенсия — этим я обязан практическому складу ума милой Клемент. Но нужно экономить. Возле башни меня порадовала археологическая находка, свидетельствующая, между прочим, о том, что не только мне было трудно выбираться из этого моря. В потайной бухточке под башней, невидимые кроме как прямо сверху, в скале вырублены несколько ступенек, спускающихся в воду, а над ними укреплен железный поручень. К несча-стью, нижний конец поручня отломился, а скользкие сту-пеньки при сильной волне бесполезны, особенно во время отлива. Волны попросту сбивают вас с ног. Прямо-таки поражаешься, какую упорную, молчаливую силищу спо-собно проявить мое шаловливое море! Но самая идея пре-восходна. Поручень надо надставить. И заодно мне пришло в голову, что, если в стену моего утеса забить несколько костылей, это будут отличные точки опоры для рук и для ног, чтобы выбираться из воды независимо от прилива. Надо разузнать в деревне насчет рабочих.
Я выкупался с башенных ступенек во время прилива, а потом долго лежал не одеваясь на траве возле башни с ощу-щением блаженной расслабленности во всем теле. Башню, к моему великому сожалению, туристы изредка посещают, но как-то не хочется прибивать к ней дощечку «Частное владение». Этот лужок возле башни — единственная трава, какой я владею, если не считать маленькой лужайки поза-ди дома. Трава, истрепанная морским ветром, здесь очень короткая, образует как бы плотные круглые коврики, креп-кие, словно кактусы. У подножия башни цветет белая и розовая валериана, а густо-фиолетовые цветы тимьяна гля-дят из травы и цепляются за скалы подальше от берега. Их, как и ту крошечную камнеломку, я уже разглядывал в лупу. Когда мне было десять лет, я хотел стать ботаником. Мой отец обожал растения, хотя и не разбирался в них, и мы много чего рассматривали с ним вместе. Интересно, как я построил бы свою жизнь, если бы очертя голову не увлекся театром.
По дороге домой я заглядывал в свои озерки. Какой они полны прекрасной и любопытной жизнью! Нужно ку-пить кое-какие книги по этим вопросам, если я и впрямь надумаю, хотя бы в меру моих скромных требова-ний, стать Гилбертом Уайтом этих мест. Еще я набрал красивых камней и отнес их на свою вторую лужайку. Они гладкие, продолговатые, прелестные на ощупь. Один из них, пятнисто-розовый с ровными белыми прожилками, лежит сейчас передо мной. Моему отцу очень бы здесь понравилось — я до сих пор вспоминаю его и тоскую по нему.
Сейчас, после второго завтрака, я хочу описать мой дом. А на завтрак у меня, к вашему сведению, были вот какие блюда, одно другого вкуснее: горячие гренки с паштетом из анчоусов, затем тушеная фасоль с мелко нарезанным сельдереем, помидорами, лимонным соком и прованским маслом. (Самое лучшее, не безвкусное прованское масло — это очень существенно, я привез с собой запас из Лондона.) Хорошо бы добавить туда зеленого перца, но в деревенской лавке (до нее мили две, приятная прогулка) его не оказалось. (На дом мне ничего не доставляют, слишком далеко, так что я даже за молоком хожу в деревню.) Затем бананы и сливки с сахарной пудрой (бананы резать, ни в коем случае не разминать, сливки негустые). Затем крекеры с новозеландским маслом и йоркширским сыром. Импортного сыра я не признаю, наши сыры — лучшие в мире. Всю эту прелесть я запил почти целой бутылкой мускателя из моих скромных «подвалов». Я пил и ел медленно, как и следует («готовить быстро, есть не спеша»), не отвлекаясь, благодарение Богу, на разговоры или на чтение. Есть так приятно, что даже мысли надо на это время по возможности отключать. Конечно, и чтение, и мысли — все это важно, но не менее важен и процесс насыщения. Создатель милостиво наделил нас способностью поглощать пищу. Всякая трапеза должна быть пиром, и да будет благословен каждый новый день, приносящий с собой хорошее пищеварение и бесценное чувство голода.
Интересно, напишу я когда-нибудь эту книгу — «В четыре минуты. Поваренная книга Чарльза Эрроуби»? Четыре минуты — это, разумеется, время активной стряпни; время, когда кушанье само печется или варится, сюда не входит. Я просмотрел несколько так называемых быстрых кулинарных справочников, но убедился, что все они только вводят в заблуждение. На практике «пятнадцать минут» означают полчаса, и там содержатся такие указания, как «слегка взбить мутовкой». А те здоровые, нормальные люди, которым была бы адресована моя книга, наверняка не умеют обращаться с мутовкой, а возможно, и не знают, что это такое. Но они — гедонисты. Как известно любому сознательному себялюбцу, во всем, что касается еды и питья, как и во многих (не во всех) других областях, простые радости самые лучшие. Сидни Эш как-то предлагал посвятить меня в восхитительные тайны коллекционных вин. Я решительно отверг его предложение. Сидни терпеть не может обыкновенных вин и счастлив только тогда, когда пьет что-нибудь очень дорогое, с датой на бутылке. А нужно ли отбивать у себя вкус к дешевым винам? (Я, конечно, не имею в виду какое-нибудь пойло, отдающее бананами.) Один из секретов счастливой жизни — непрерывно доставлять себе мелкие наслаждения, и если иные из них можно получить с минимальной затратой денег и времени — тем лучше. Жизнь в театре не позволяет отнестись к еде с полной серьезностью, и в прошлом мне не всегда удавалось поесть не спеша, но готовить быстро я, безусловно, научился. Разумеется, людей неумных мои методы шокируют (в особенности то, как широко я пользуюсь консервами); и, уговаривая меня опубликовать мои рецепты, все они (главным образом женщины — Жанна, Дорис, Розмэри, Лиззи) словно снисходительно надо мною подсмеивались. «Хватит твоей фамилии, чтобы книгу мгновенно раскупили», — бестактно уверяли они. «Обеды у Чарльза — это просто пикники», — заметила как-то Рита Гиббонс. Вот именно, хорошие, замечательные пикники. Но добавлю, к слову, что у меня гости сидят за столом, никогда не держат тарелку на коленях и всегда к их услугам салфетки, настоящие, а не бумажные.
Пища — тема серьезная, и на эту тему писатели, между прочим, не лгут. Сам не знаю, откуда у меня взялось это счастливое кулинарное мастерство. Из своего бережливого детства я вынес убеждение, что разбазаривать пищу грешно. Все нехитрые блюда, которыми меня кормили дома, я поглощал с аппетитом. Моя мать готовила «просто, но вкусно», однако недоставало той вдохновенной простоты, которую я теперь ценю в еде превыше всего. Думаю, что озарение снизошло на меня, как и на святого Августина, когда мне опротивели излишества. В бытность свою начинающим режиссером я по глупости и по несамостоятельности мышления воображал, что должен приглашать всяких людей в шикарные рестораны. Постепенно мне стало ясно, что заглатывать в больших количествах дорогую, замысловатую и далеко не всегда вкусную пищу в общественных местах не только безнравственно, неэстетично и вредно для здоровья, но и не доставляет никакого удовольствия. Со временем я стал приглашать своих гостей вкусить простых радостей у меня дома. Что может быть восхитительнее горячих гренков с маслом, а если угодно, еще и с селедочным паштетом! Или вареный репчатый лук и к нему, кто хочет, холодные мясные консервы. А хорошо сваренная овсянка со сливками и сахарным песком — это ли не блюдо для королей! Но и тут находились люди с безнадежно испорченным вкусом, которые принимали мой осознанный гедонизм за чудачество, за способ себя афишировать. (Один журналист окрестил мои обеды «Ветер в ветлах».[2]) А иные так всерьез на меня обижались.
Возможно, впрочем, что на лживость легенд, окружающих haute cuisine,[3] мне открыли глаза не столько рестораны, сколько званые обеды. Я долго и, как правило, тщетно убеждал своих друзей не затевать сложного угощения. Бессмысленна прежде всего самая трата времени, хотя есть, очевидно, несчастные женщины, которым нечем себя занять, кроме как стряпней. Существует также иллюзия, будто в замысловатой готовке больше «творческого» элемента. Хочу, чтобы меня поняли правильно: я не варвар. Деревенская французская кухня, которую еще можно кое-где найти в этой благословенной стране, очень хороша; но качество ее определяется традицией и инстинктом, не допускающими быстрых темпов. В Англии честолюбивая хозяйка дома не только возводит кулинарию в ритуал и в добродетель, очень часто она изощряется в своем искусстве ради людей, которые вообще не ценят еду, хотя нипочем не сознались бы в этом. Большинство моих театральных приятелей успевали так нализаться перед званым обедом, что у них не было ни малейшего аппетита и они даже не замечали, чем их кормят. Стоит ли посвящать целый день готовке, если гости съедают ваш обед (оставляя половину на тарелках) в таком состоянии? Тот, кто ест с толком, пьет умеренно. Портит званые обеды и то, что за столом полагается разговаривать. Хорошо еще, если повезет и ты окажешься между двумя дамами, оживленно болтающими каждая со своим вторым соседом, — тогда хоть можно сосредоточиться на еде. Нет, не люблю я эти обеды, часто продиктованные честолюбием, заботой о престиже и ложно понятых светских «приличиях», а не подлинным инстинктом гостеприимства. Haute cuisine даже мешает гостеприимству, поскольку те, кто не может или не хочет ее придерживаться, избегают приглашать к себе ее приверженцев из страха показаться примитивными либо неудачниками. Поглощать пищу лучше всего с друзьями, которых такие светские соображения не а еще лучше, конечно, в одиночестве. Я ненавижу фальшь званых обедов, где все целуются, создавая видимость интимной атмосферы.
После этой тирады описание дома придется, пожалуй, отложить до следующего раза. Сейчас могу только добавить, что я (как читатель уже мог убедиться) не вегетарианец. Правда, я ем очень мало мяса и любители бифштексов наводят на меня ужас. Но некоторые продукты (например, паштет из анчоусов, печенка, колбасы, рыба) занимают, так сказать, ключевые позиции в моем меню, и остаться без мне бы не хотелось; здесь гедонизм торжествует над поверженными в прах нравственными критериями. Возможно, мне и следует отказаться от мяса, но я так долго обдумывал этот шаг, что уже едва ли решусь на него.
Теперь-то я наконец опишу мой дом. Называется он Шрафф-Энд. Энд — конец, это понятно. Он стоит на конце мыса, как бы на полуострове, прямо на скалах. Кокой безумец построил его здесь? Дата постройки, видимо, около 1910 года. Но почему Шрафф? Я спрашивал об этом у двух из моих здешних (пока весьма немногочисленных) знакомых — у владелицы лавки и хозяина деревенского трактира, и оба сказали, хотя подробнее объяснить не могли, что «Шрафф» означает «черный». (Shruff — schwarz? Едва ли.) Об истории дома я еще ничего не узнал. Купил я его у некоей «старой леди» по имени миссис Чорни, но лично с ней не встречался. Цена оказалась изрядная, да еще мне пришлось купить всю мебель и прочую обстановку, не представляющую никакой ценности. Самый дом имеет ряд явных недостатков, на которые я не преминул указать агенту по продаже. В нем почему-то очень сыро, стоит он на юру, далеко от другого жилья. Водопровод и канализация, по счастью, имеются (в Америке мне случалось жить и без этих удобств), но нет ни электричества, ни центрального отопления. Готовка на баллонном газе. Есть нелепости и в планировке, о них я расскажу в своем месте. Агент только улыбался, сразу смекнув, что я уже влюблен в этот дом, несмотря на все недостатки. «Владение уникальное, сэр», — сказал он. Что правда, то правда.
Местоположение его пленяет сердце, хотя мои деревенские знакомцы не без удовольствия заверяют меня, что зимой там будет холодно и ветрено. Знали бы они, как я жду этих зимних штормов, когда яростные волны будут ломиться прямо в мою дверь! С тех пор как я здесь живу (то есть уже больше месяца), погода стоит подозрительно тихая. Вчера море было так неподвижно, что на нем держалась целая флотилия синих мух, которые словно ползали по его гладкой поверхности. Из обращенных к морю верхних окон (где я сейчас сижу) видно только море, если нарочно не заглядывать вниз, на скалы. Из нижних окон моря не видно — только прибрежные скалы слоноподобной формы и размеров. С черного хода, из кухни, попадаешь на маленькую, окаймленную скалами лужайку с тимьяном и свалявшейся до плотности кактуса травой. Лужайку эту я оставлю в ведении Природы — я не садовник (до сих пор я вообще не владел ни одним клочком земли). А Природа устроила для меня здесь каменное кресло, в которое я кладу диванную подушку, и рядом с ним — каменное корытце, в которое я складываю красивые камни по мере приобщения их к моей коллекции; так что можно, усевшись в кресло, разглядывать камни.
От парадной двери дома по высокой каменной дамбе, своего рода подъемному мосту, узкая дорога выходит на тракт, гордо именуемый «приморским шоссе». Оно гудронировано, но посередине сквозь гудрон пробивается трава. Автомобили даже в мае проезжают по нему нечасто. Добавлю к слову, в чем состоит один из секретов моей счастливой жизни: я так и не научился водить машину, не совершил хотя бы этой ошибки. Всегда находились люди, обычно женщины, жаждущие отвезти меня, куда только я захочу. Зачем лаять самому, когда есть собака? По обе стороны дамбы, далеко внизу, в полном беспорядке насыпаны обломки скал помельче. Море туда не достает. Пейзаж не столь живописен, не говоря уже о ржавых жестянках и разбитых бутылках — надо будет как-нибудь слазить туда и убрать этот мусор. За шоссе опять начинаются горбатые желтые скалы, порой достигающие огромной высоты; здесь оправой им служат жесткая пружинистая, трава и пылающие на солнце кусты утесника. Попадаются (посеянные человеком или природой?) жиденькие фуксии и вероника, вся в цвету, и какой-то очень приятный на вид шалфей с серыми листьями. За этим «цветником» местность становится более ровной и пустынной — только утесник да вереск, да кое-где предательские «окна», источающие скверный запах, заросшие ядовито-зеленым и красным мхом. Эти места я еще не обследовал. Ходок я неважный и пока что вполне увлечен и доволен моим раем у моря. Между прочим, на этой пустоши, милях в полутора от Шрафф-Энда, находится ближайшее ко мне жилье — ферма Аморн. По вечерам из верхних окон, обращенных к шоссе, я вижу, как там зажигается свет.
Приморское шоссе, если свернуть по нему вправо, ны-ряет в следующую бухту, которая мне видна из Шрафф-Энда, только когда я подхожу вплотную к башне на мысу. Там, в трех-четырех милях от моего дома, имеется заведение под вывеской «Отель „Ворон“», вызывающее у меня смешанные чувства, поскольку оно претендует на известный шик и привлекает туристов. Самая бухта очень красива в ожерелье из больших, необычной формы, почти шаровидных камней. Здешние жители называют ее Воронова бухта, по названию отеля, но есть у нее и другое название на местном диалекте, что-то вроде «Шахор» (бухта Шор — Береговая? Почему бы?). Если свернуть по шоссе влево, оно скоро втянется в занятное узкое ущелье, которое я прозвал Хайберским проходом.[4] Путь прорублен в обнаженных скалах, которые в этом месте глубоко врезаются в сушу. За ущельем — крошечный каменистый пляж, единственный в этой округе, поскольку почти везде глубина под скалами даже во время отлива порядочная, что я сразу же оценил. От пляжа пешеходная тропинка ведет по диагонали в деревню, расположенную немного отступя от моря, а шоссе скоро приводит в прелестную маленькую гавань, где изогнутый каменный причал — чудо строительного искусства — уже давно не используется и весь затянут илом. Раньше здесь, очевидно, стояли рыбачьи лодки, но теперь они причаливают где-то севернее: иногда я вижу их на моем участке моря, вообще-то удивительно пустынном. Дальше, за гаванью, в скалах выбиты длинные покатые ступени, это так называемое «дамское купанье». Дам я ни разу там не видел, только изредка мальчишек. (Местные жители почти не купаются, это занятие, видимо, представляется им одной из форм слабоумия.) Надо сказать, что «дамское купанье» так заросло скользкими бурыми водорослями и так густо усыпано камнями, которые накидало море, что купаться здесь едва ли безопаснее, чем в других местах. Здесь прибрежная дорога переходит в проселок (к сожалению, проходимый для автомобилей) и лезет вверх, где мои желтые скалы сменяются живописными, внушительной высоты утесами. А гудрон сворачивает прочь от моря — в деревню и дальше.
Деревня называется Нэроудин, о чем оповещает надпись на красивом каменном указателе у поворота приморского шоссе. Нэроудин — это несколько улиц, застроенных каменными домиками, несколько коттеджей выше по склону и одна лавка. В ней не продается «Таймс», нет батареек для моего транзистора, но меня это особенно не смущает, как не огорчило и отсутствие мясной лавки. Трактир всего один — «Черный лев». Домики очаровательны, накрепко сложены из местного желтоватого камня, но интересно в архитектурном отношении только одно здание — церковь, отличная постройка XVIII века с галереей. Сам я, конечно, в церковь не хожу, но мне приятно было узнать, что служба — здесь бывает — правда, всего раз в месяц. Церковь содержится в чистоте и порядке, в ней всегда много цветов. Тот далекий колокольный звон, который я иногда слышу, доносится, вероятно, из такой же деревушки дальше от моря, за фермой Аморн, — там местность не такая суровая и есть пастбища для овец. В Нэроудине нет ни пасторского дома, ни помещичьей усадьбы; впрочем, в мои планы и не входило водить знакомство с пастором и с помещиком! Приятно также отметить, что деревню миновала такая напасть, как «интеллектуалы», которых в наши дни рискуешь встретить где угодно. Да, еще два слова о церкви. Возле нее есть очень уютное cimetiere marin,[5] свидетельство того, что в былые времена жители этого захолустья бороздили дальние моря и океаны. На многих могильных плитах вырезаны парусные суда, якоря и на редкость выразительные киты. Неужели отсюда уходили в море китобои? Одно надгробье особенно меня заинтересовало. На нем высечен дивной красоты якорь с куском каната и простая надпись: «Молчун. 1879–1918». Надпись показалась мне странной, но потом я сообразил, что Молчун, вероятно, был какой-нибудь глухонемой матрос, которого всю жизнь только по этому признаку и отличали. Бедняга.
А теперь вернемся в Шрафф-Энд. Фасад, глядящий на дорогу, сам по себе ничем не примечателен, но здесь, на мысу, открытом всем ветрам, кажется несуразным. Дом — кирпичный, «двухфасадный», с двумя фронтонами, на первом этаже окна фонарем. Кирпич темно-красный. В пригороде Бирмингема такой дом вообще не привлек бы внимания, но совсем один, на этом диком берегу, он, без сомнения, вышлядит странно. Задняя стена изуродована снаружи упрочненной штукатуркой, очевидно, для защиты от непогоды. Специалист, вероятно, установил бы возраст дома по бледно-желтым шторам, которые сохранились почти во всех комнатах — целехонькие, с блестящими деревянными кольцами на шнурах, с шелковыми кистями и кружевом понизу. Когда эти шторы спущены, с дороги дом выглядит до жути загадочно и самодовольно. А внутри в занавешенной шторами комнате желтый свет почему-то навевает на меня печальные воспоминания детства, может быть, атмосферу дедушкиного дома в Линкольншире.
Одну из комнат нижнего этажа я называю «книжной» (там стоят фанерные ящики с моими книгами, еще не распакованные), другую — столовой (там я держу вино). Но живу я только в комнатах с видом на море, наверху — в спальне и в гостиной, как я решил ее именовать, внизу — в кухне и в прилегающей к ней небольшой комнате, которую я называю «красной». Там есть хороший камин, который, видимо, топили дровами, и вполне приличный бамбуковый стол с таким же креслом. Стены снизу обшиты белыми деревянными панелями, а выше покрашены в томатный цвет, экзотический штрих, единственный во всем доме. Кухня с газовой плитой вымощена шиферными плитами, огромными, я таких еще не видал. Холодильника, конечно, нет, для любителя рыбы факт прискорбный. Есть вместительная кладовая, кишащая мокрицами. На первом этаже все дерево пропитано сыростью. В прихожей я отодрал кусок линолеума и тут же в страхе водворил его на место. Из-под него пахнуло соленым запахом. Неужели это море, отыскав какой-то потайной ход, поднимается в дом? Не может быть. Надо мне было, конечно, потребовать заключения инспектора, но очень уж я торопился. У парадной двери старомодный звонок — длинная проволока с медной ручкой. Звонит он в кухне.
Главная особенность дома, для которой я не могу предложить рационального объяснения, состоит в том, что и на первом, и на втором этажах есть внутренняя комната. Другими словами, между передней комнатой и задней есть еще одна, без окон в наружной стене, освещаемая только через окно из комнаты, обращенной к морю, наверху — из гостиной, внизу — из кухни. Эти две нелепые внутренние комнаты — очень темные и совершенно пустые, в нижней стоит только большой продавленный диван, а в верхней — столик, и там же на стене затейливый чугунный кронштейн для лампы, единственный на весь дом. Занимать эти комнаты я ничем не намерен. Со временем уберу лишние стены и таким образом расширю гостиную и столовую. Обстановка в доме вообще небогатая, и своих вещей я привез очень мало. (Кровать, например, всего одна, ведь гостей я не жду!) Эта пустота меня вполне устраивает; в отличие от Джеймса я не собиратель, не накопитель. Я даже стал привязываться к некоторым из вещей миссис Чорни, которые мне пришлось купить, сколько я ни сопротивлялся. Особенно я полюбил большое овальное зеркало в прихожей. Вещи миссис Чорни здесь как-то к месту. Случайными кажутся те редкие предметы, которые я привез с собой. Я много чего распродал, когда расстался с моей просторной квартирой в Барнсе, а почти все остальное перевез в крошечный pied-a-terre[6] в Шепердс-Буше, свалил там кое-как и запер на ключ. Возвращаться туда мне страшновато. Сейчас я уже не могу понять, чего ради вообще сохранил за собой какое-то пристанище в Лондоне; это меня друзья уговорили.
Я сказал «друзья», а если подумать, как же мало их осталось после целой жизни, прожитой в театре. Каким дружелюбным и сердечным может казаться театр, каким тоскливым одиночеством он может обернуться. Великие меня покинули: Клемент Мэйкин умерла, Уилфрид Даннинг умер, Сидни Эш уехала в Стратфорд, провинция Онтарио, Фрицци Айтель погиб — процветает в Калифорнии.
Остались единицы: Перри, Алоиз, Маркус, Гилберт, считанные женщины… Я заболтался. Уже вечер. Море золотое, усыпано белыми точками света, плещется успокоенно и равномерно, как неживое, под бледно-зеленым небом. Какой он необъятный, какой пустой этот простор, к которому меня тянуло с детства.
Писем все нет.
Сегодня море не такое тихое, и чайки кричат. Тишину я, в сущности, не люблю, кроме как в зрительном зале. На море волны, темно-синие, с белыми гребешками.
Я отправился собирать плавник и дошел до каменистого пляжа. Было время отлива, так что с башенных ступенек я не мог выкупаться. А нырять с моего утеса я, пожалуй, подожду, разве что в совсем тихую погоду, пока не придумаю там каких-нибудь зацепок для рук. Я выкупался с пляжа, но не особенно удачно. Ступать по камням было больно и очень трудно выбираться из воды — пляж поднимается ступенями и волны упорно смывали с них камни прямо на меня. Я двинулся домой не на шутку озябший и раздосадованный и забыл прихватить дрова, которые успел собрать.
Сейчас я уже подкрепился (чечевичный суп, потом колбаски «чиполата» с вареным луком и яблоками, вымоченными в чае, потом курага с песочным печеньем; вино — легкое бургундское) и чувствую себя лучше. (Свежие абрикосы, конечно, вкуснее, но и курага, если залить ее на сутки водой, а потом подсушить, — божественное сопровождение к любому сладкому печенью или тартинкам. Особенно она идет к тесту, в котором есть миндаль, а значит, хорошо согласуется с красным вином. Персики, по-моему, превозносят незаслуженно. На мой взгляд, царь фруктов — абрикос.)
Пойти вздремнуть.
Поздний вечер. Две керосиновые лампы, чуть слышно потрескивая, льют спокойный бледно-желтый свет на исцарапанный, весь в пятнах, прекрасный стол палисандрового дерева, некогда — собственность миссис Чорни. Это мой рабочий стол у окна в гостиной, но пользуюсь я и маленьким складным столиком, который принес сюда из внутренней комнаты, чтобы раскладывать на нем бумаги и книги. Окно пришлось закрыть, а то налетают ночные бабочки, большущие, с бежево-оранжевыми крыльями, этакие вертолетики. Ламп в доме всего четыре, в полной исправности и тоже из собрания Чорни. Они старомодные, довольно тяжелые, медные, с красивой формы колпаками матового стекла. Управляться с керосиновыми лампами я научился в США, в нашей хижине с Фрицци. А вот две керосиновые печки внизу до сих пор остаются для меня загадкой. Нужно будет их обновить, пока ночи не стали холоднее. Вчера к вечеру сильно похолодало, я попробовал затопить камин в красной комнате, но плавник оказался слишком сырой, и камин дымил.
Зимой я, вероятно, буду жить внизу. Как я мечтаю об этом. Гостиная все же скорее не комната, а наблюдательный пункт. В ней властвует высокий камин с выкрашен-ной в черное деревянной отделкой — множество полочек, и над каждой зеркальце. Это, конечно, музейный экземп-ляр, но он смахивает на алтарь какой-то оккультной секты (есть в нем что-то растительное, на восточный лад).
Сегодня вечером, прежде чем зажечь лампы, я какое-то время просто сидел и смотрел на лунный свет — извечное чудо и радость для горожанина. Над скалами так светло, что хоть читай. Но странная вещь, с тех пор как я сюда приехал, читать мне совсем не хочется. Хороший знак. Письмо словно заменило мне чтение. А вместе с тем я как-то все откладываю ту минуту, когда начну писать о себе по порядку. («Родился я на заре нового века, в городе…» — ну, и так далее.) Для связного рассказа о моей жизни найдутся и время, и повод после того, как я, если можно так выразиться, доверю бумаге достаточный запас размышлений. Я все еще как-то стесняюсь собственных чувств, робею перед беспощадной силой некоторых воспоминаний. Одного только рассказа о моих годах с Клемент могло бы хватить на целый том.
Я отчетливо ощущаю безмолвное присутствие обступившего меня дома. Одни части его я освоил, другие упорно не даются мне, пребывают в тумане. В прихожей темно и нет ничего интересного, кроме большого овального зеркала, о котором упоминалось выше. (Этот изящный предмет обстановки как бы излучает собственный свет.) Лестница не вызывает во мне теплых чувств. (По лестницам всегда бродят призраки прошлого.) С поворота ее несколько узких ступенек ведут вбок, в неожиданно большую ванную, обращенную к шоссе, а оттуда, пройдя через низенькую дверцу, можно подняться выше, на чердак. В ванной сохранились хорошие изразцы с изображениями лилий на изогнутых стеблях и лебедей. Стоит там огромная, сильно запущенная ванна на львиных лапах с массивными медными кранами. (Но греть для нее воду негде! Реальнее, видимо, ориентироваться на сидячую ванну, которую я обнаружил внизу в чулане.) Висит там еще инструкция, писанная не английским почерком, относительно того, как спускать воду. Главная лестница после поворота выводит на просторы верхней площадки. Я сказал «просторы», потому что там и правда много места и царит свое особенное настроение. Как на сцене перед началом действия. Иногда мне кажется, что когда-то давно я видел ее во сне. Это большое продолговатое помещение без окон, днем свет попадает туда из открытых дверей, а украшает его, как раз напротив двери во внутреннюю комнату, крепкая дубовая подставка, на которой высится большущая, на редкость безобразная зеленая ваза с широким гофрированным горлом и сыпью розовых роз на толстых боках. Я сильно привязался к этому грубо сработанному изделию. Рядом с вазой — неглубокая ниша в стене, слов-но бы предназначенная для статуи, но за неимением оной похожая на дверь. А дальше — самое интригующее, что есть на этой площадке, — арка с занавеской из бус. В странах Средиземноморья примерно такие занавески вешают на дверях магазинов для защиты от мух. Бусы желтые и черные, выточены из дерева и слегка пощелкивают, когда раздвигаешь их, чтобы пройти. За аркой — двери в спальню и в гостиную.
Пора ложиться спать. За спиной у меня прорезанное высоко в стене, вытянутое в ширину окно во внутреннюю комнату. Вставая из-за стола, я невольно смотрю в ту сторону и вижу свое отражение в черном стекле, как в зеркале. Меня никогда не терзали ночные страхи. В детстве, сколько помнится, я никогда не боялся темноты. Мать всегда внушала мне, что боязнь темноты — суеверие, которого богобоязненные люди не признают. А Бог как защита и не был мне нужен. Защитой от любого ужаса были для меня родители. И в Шрафф-Энде я ничего жуткого не нахожу. Дело не в том. Просто я только что сообразил, что впервые в жизни остаюсь по ночам совсем один. Родительский дом, актерские меблирашки в провинции, квартиры в Лондоне, отели, временные жилища во многих столицах: всегда я жил в ульях, всегда за стеной были какие-то люди. Даже когда я жил в той хижине (с Фрицци), я никогда не был один. Шрафф-Энд — первый дом, которым я владею, и первое настоящее одиночество, в котором я поселился. Ведь этого я и хотел? Конечно, мой дом, как и всякий дом почтенного возраста, даже в безветренную ночь полон тихих скрипов и шорохов, и по нему гуляют сквозняки от рассохшихся оконных рам и плохо пригнанных дверей. Так что, лежа ночью в постели, я без труда могу вообразить, что слышу осторожные шаги на чердаке у себя над головой или что занавеска из бус тихо постукивает, потому что кто-то украдкой прошмыгнул сквозь нее.
Вероятно, я выбрал не самый подходящий момент, на ночь глядя, чтобы писать об этом переживании, но очень уж ярко оно вспыхнуло вдруг у меня в мозгу. Мой гипотетический читатель, возможно, недоумевает, почему я больше не упоминал о чем-то «немыслимом и страшном», что я пережил здесь у моря и не решился описать. Может показаться, что я забыл об этом, и в каком-то смысле я действительно об этом забыл, что подтверждает одну из возможных разгадок этого явления. Теперь я попробую его описать.
Я сидел на скалах над своим утесом, положив эту тетрадь рядом с собой, и смотрел вдаль, на море. Светило солнце, море было спокойно. (Как сказано в записи, с которой начинается эта тетрадь.) Незадолго перед тем я пристально всматривался в озерко среди скал и наблюдал за длиннющим красноватым, с редкими щетинками морским червем, пока он не свился причудливыми кольцами и не исчез в глубине. Я разогнул спину и уселся лицом к морю, помаргивая от солнца. И тут, не сразу, а минуты через две, когда глаза приспособились к яркому свету, я увидел, как из моря поднялось чудовище.
Иначе я не могу это выразить. На моих глазах из совершенно спокойного, пустого моря за четверть мили от меня (или даже ближе) какое-то гигантское существо разбило водную гладь и дугой выгнулось кверху. Сперва оно было похоже на черную змею, потом за длинной шеей последовало продолговатое толстобокое туловище с хребтом из острых шипов. Мелькнул не то ласт, не то плавник. Целиком оно не было мне видно, но нижняя часть его тела или, может быть, длинный хвост вспенил воду под тем, что теперь поднялось из воды на высоту, как мне показалось, двадцати — тридцати футов. Потом это создание свернулось кольцами, длинная шея описала два витка, и голова, теперь явственно различимая, очутилась низко над поверхностью моря. Сквозь кольца было видно небо. И голова была видна совершенно отчетливо — змеиная голова с гребнем, с зелеными глазами и раскрытой пастью, зубастой и розовой. Голова и спина отливали синим. А потом все это мгновенно рухнуло — кольца упали, спина еще с минуту резала зигзагами воду, потом не осталось ничего, только огромная вспененная воронка там, где исчезло чудовище.
Сраженный ужасом, я сначала не мог пошевелиться. Я хотел спастись бегством. Больше всего меня страшило, что чудовище появится снова, ближе к берегу — может быть, прямо у моего утеса. Но ноги меня не слушались, а сердце так колотилось, что любое резкое движение могло привести к обмороку. Море снова утихло, больше ничего не произошло. Наконец я встал и медленно пошел к дому. Поднялся в гостиную и посидел, осторожно дыша и держась за сердце. Дойти до моего обычного места у окна я не решился и с полчаса просидел возле столика в глубине комнаты, прислонясь головой к стене, после чего собрался с силами и внес в эту тетрадь вторую запись.
Пока я вот так держался за сердце, дрожал и переводил дыхание, я наконец заставил себя подумать о том, что же произошло. Способность трезво мыслить и рассуждать, совсем было мне изменившая, постепенно возвращалась. Что-то случилось, а то, что случается, можно как-то объяснить. В голове мелькнуло сразу несколько объяснений, и когда я начал перебирать их, классифицировать и сопоставлять, я почувствовал некоторое облегчение, и невыносимый безотчетный страх отступил. То, что я видел, могло быть «попросту» плодом воображения. Но нет, такого ужаса и в таких подробностях «попросту» не вообразишь. Позже мне показалось многозначительным, что эта тварь не вызвала у меня ни удивления, ни любопытства, а только страх. Страх я испытал неимоверный. Я не алкоголик и, уж во всяком случае, не склонен к безудержным фантазиям. Другая возможность: а что, если я, опять-таки «попросту», видел животное, неизвестное науке? Что ж, это не исключено. Или еще: не было ли то, что я видел, исполинских размеров угрем? А такие угри бывают? А бывает ли, чтобы угорь поднимался из моря, свивался кольцами и держался стоймя в воздухе? Нет, что я, это был не угорь. У этого было толстое туловище, я видел его спину. Да и никакого угря, даже самого гигантского, я не мог принять за эту нечисть, эти мерзостные кольца на фоне светлого неба.
На каком расстоянии от меня было это чудище и на какую высоту оно поднялось над водой? Я уже стал подозревать, что первое впечатление меня обмануло, хотя по-прежнему был убежден, что видел нечто совершенно невероятное. Всплывшие водоросли, плавник? Эти гипотезы я сразу же отмел. Стоило обдумать еще одну возможность. Ведь как раз перед тем, как увидеть мое гигантское чудовище, я внимательно разглядывал в озерке между скал другое, миниатюрное чудовище, красного червя со щетинками, который при длине в пять-шесть дюймов казался большим, когда извивался в тесном пространстве озерка. Что, если я, повинуясь оптическому обману, какому-то неизвестному науке свойству сетчатки, «спроецировал» облик червя на поверхность моря? Идея интересная, но абсолютно неправдоподобная, поскольку красный червь был совсем не похож на иссиня-черное чудовище, если не считать того, что оба они свивались в кольца. Да я никогда и не слышал о таких оптических фокусах. И еще меня смущало то обстоятельство, что помнил я это чудище очень отчетливо, зрительное впечатление оставалось подробным и четким, а вот расстояние, разделявшее нас, я представлял себе все более смутно.
Разгадка, которая сейчас кажется мне наиболее вероятной (еще неизвестно, останусь ли я при этом мнении), состоит в следующем, хотя признать это мне немного стыдно. Я не алкоголик и не наркоман. Крепких напитков почти не употребляю, гашиш курил в Америке лишь изредка. Но один раз, несколько лет назад, я сдуру вкатил себе дозу ЛСД. (Сделал я это в угоду одной женщине.) Последствия были скверные, очень скверные. Не буду и пытаться описать свои тогдашние переживания, отвратительные и не делающие мне чести. (Скажу только, что в них фигурировали внутренности.) Очень трудно, почти невозможно, было бы выразить это словами. Это было что-то гнусное в моральном, духовном плане, словно твои зловонные кишки вышли наружу и заполнили собой вселенную: какая-то эманация темного, полуосознанного морального зла, от которого не будет спасения. «Неотторжимо» — помню, это слово возникло тогда в связи с моими ощущениями. Зрительные образы в моих видениях были до ужаса четкими и как бы властными, они и сейчас встают передо мной, и писать о них я не хочу. Больше я, разумеется, к ЛСД не прикасался. Позднейших последствий я избежал и через какое-то время стал, по счастью, забывать об этом, забывать совсем по-особенному, как забываешь сны. И все же, может быть, позволительно, даже неглупо, предположить, что морское чудовище, которое я «видел», было галлюцинацией, частично вызванной и тем единственным случаем, когда я как идиот испробовал этот мерзкий наркотик.
Правда, морское чудище было совсем не похоже на то, что мне мерещилось тогда в галлюцинациях, как не было оно похоже и на красного червя в озерке. Но ощущение ужаса было того же порядка, так по крайней мере мне стало казаться очень скоро после того, как это случилось. И процесс забывания, как мне теперь кажется, был оба раза одного порядка. Мне говорили, что такие галлюцинации иногда повторяются спустя много времени. Читатель, остерегись! Должен, впрочем, сознаться, что сейчас, когда я об этом размышляю, самым сильным аргументом в пользу этого последнего объяснения является то, что все остальные абсолютно неприемлемы.
Опять началось сердцебиение. Надо ложиться. Следовало, пожалуй, отложить этот рассказ до завтра.
Приму снотворное.
Прошло два дня. Спал я хорошо, после того как все записал о своем «чудовище», и мое объяснение пока еще кажется мне правильным. Как бы там ни было, воспоминание теряет четкость, и чувство ужаса исчезло. Пожалуй, мне даже пошло на пользу, что я это записал. Я уже решил, что «шаги» на чердаке — просто крысы. Погода и сегодня солнечная. Писем все нет.
Я опять купался с каменистого пляжика и, хотя море было довольно спокойное, опять злился на то, как трудно из него вылезать. Пришлось лезть круто вверх, галька под ногой осыпалась и сползала вниз, а волны одна за другой окатывали меня сзади. Наглотался воды и порезал ногу. Нашел забытую в тот раз охапку плавника и принес домой. Сильно прозяб, но слишком устал, чтобы возиться с сидячей ванной, тяжелая она, как чугунная. А таскать горячую воду наверх в ванную — нестоящее занятие.
Мне пришло в голову, что, если к железному поручню у башни привязать веревку, там можно будет пользоваться ступеньками и при сильном волнении; а если найти, к чему привязать веревку на моем утесе, чтобы она свешивалась до самой воды, то и там вылезать было бы нетрудно. Надо узнать, продается ли в здешней лавке толстая веревка. И еще узнать, где можно купить баллоны с газом.
Мой дед со стороны отца был огородником в Линкольншире. (Вот я, оказывается, и начал свою биографию, и какое отличное начало! Я знал, что так оно и будет, надо только дождаться.) Дом его назывался Шакстон. Мне казалось, что это очень аристократично — иметь дом с названием. Кем был мой дед с материнской стороны, не знаю, он умер, когда я был еще совсем маленький. Кажется, он «служил в конторе», как позднее и мой отец. Был, очевидно, каким-нибудь клерком, и отец мой тоже, но в доме у нас слово «клерк» не употреблялось. У моего деда с отцовской стороны было два сына: Адам и Авель. Мне никогда не казалось, что он наделен богатым воображением, но в этих именах слышится что-то от поэзии. Мне с раннего детства было ясно, что мой дядя (Авель) пользуется большей любовью и достиг больших успехов, чем мой отец (Адам). Каким образом ребенок замечает такие вещи или, вернее, почему они так заметны, так очевидны для ребенка? Наверное, он, подобно собаке, читает знаки, ставшие невидимыми за условностями взрослого мира, так что взрослые в своей жизни, сотканной из лжи, не обращают на них внимания. Что мой отец (старший сын) — безнадежный неудачник, я знал еще до того, как узнал значение этого слова, до того, как узнал что бы то ни было о деньгах, общественном положении, власти, славе, любой из вожделенных наград, которые, принимая самые разнообразные формы, превратили мою жизнь в ту пляску дервишей, что теперь, надо надеяться, кончилась. Но когда я говорю, что мой милый отец был неудачником, я имею в виду только грубый, житейский смысл этого слова. Он был умный и добрый человек, с чистым сердцем.
Родители моей матери жили в Карлайле, я их почти не знал. Ее сестры запомнились как две бледные «тетечки», тоже в Карлайле. Моя бабка, мать отца, рано умерла и в моих воспоминаниях о Шакстоне фигурирует как фотография. Да и которого я боялся и не любил, запомнились только высокие сапоги и громкий Адам и Авель — вот кто заполнял мой детский мир, властвуя над ним, как боги-близнецы. Мать была отдельной силой, всегда отдельной. И еще, разумеется, был мой кузен Джеймс, как и я — единственный ребенок.
Пути братьев разошлись. Отца занесло в Уорикшир, где он стал служить в «местном управлении». «Занесло»: я вижу его на плоту. Дядя Авель стал преуспевающим адвокатом и осел в Линкольне, где жил в загородном доме Рамсденс — еще один аристократический дом с названием. Рамсденс был больше, чем Шакстон. Оба эти дома до сих пор мне снятся. Со временем дядя Авель перебрался в Лондон, а Рамсденс сохранил за собой как дачу. Дядя Авель женился на хорошенькой американке, которую звали Эстелла. Помню, моя мать говорила, что она — «богатая наследница». Мой отец женился на моей матери, которая работала счетоводом на ферме. Имя ее было Мэриан. Отец звал ее «дева Мэриан».[7] Она была христианкой сурового евангелического толка. Отец, конечно, тоже был христианин, как и я, как и дядя Авель, пока тетя Эстелла не увлекла его в царство света. Я не представить себе мою мать как прелестную девушку, как деву Мэриан на лесных тропинках Уорикшира. С самых ранних лет я помню ее лицо как маску озабоченности. Она была сильнее отца. С отцом мы любили, слушались и утешали друг друга тайком. Впрочем, мы все трое любили и утешали друг друга. Но втроем нам было неловко, тоскливо, не по себе.
Сегодня утром в кухне я насмерть перепугался — мне показалось, что из кладовой вылезает огромный, мясистый паук. На поверку он оказался очень симпатичной жабой. Я легкостью поймал ее и отнес за шоссе, за скалы, к мшистым болотным окнам. Дальше она не спеша двинулась куда-то сама. И как только выживают такие безобидные, беззащитные твари? Я еще побыл там немного, когда жаба ушла, поглядел на красные мхи и на растения — хвощ, который я помню с юных лет, и этот противный желтый цветок, который ловит мух. Вереска особенно много повыше, дальше от моря, в сторону фермы Аморн. Агент, который продавал мне дом, сказал, что в этих местах можно встретить орхидеи, но я их еще не видел. Может быть, они — такой же миф, как тюлени.
Позже я сходил в деревню, купил копченого селедочного филе (беднякам заменяет лососину). Свежей рыбы здесь купить совершенно невозможно, о чем мне с гордостью сообщили все местные жители. Порасспросил я и насчет прачечной, но толком ничего не узнал. Пока я все стираю сам, даже простыни, а сушиться расстилаю их на лужайке. Возможно, буду так делать и дальше. Эти нехитрые занятия дают удивительное чувство удовлетворения. Забыл записать, что я обнаружил в деревне вторую лавку, вроде скобяной, в переулке позади трактира. Именует она себя «Магазин для рыбаков» и в прошлом, несомненно, торговала рыболовной снастью. Там, как я выяснил сегодня, имеются и керосин, и баллонный газ. Еще я купил там свечей, новую керосиновую лампу и моток толстой веревки. Нагруженный этими трофеями, я по пути домой зашел в «Черный лев». При моем появлении тамошняя распивочная замолкает, а стоит мне выйти, разражается громкими хриплыми комментариями, однако я намерен заглядывать туда и впредь. Пассивная враждебность здешних жителей меня не смущает. Благодаря телевизору они, конечно, знают, кто я такой. Но они старательно разыгрывают безразличие, а может быть, им, при их надменной ограниченности, это и в самом деле безразлично. Возможно, для них я существо нереальное, как нереально и само телевидение. По счастью, никто из них не навязывался мне в друзья.
На второй завтрак я съел селедочное филе, быстро размороженное в кипятке (отчасти эту работу уже выполнило солнце), сдобренное лимонным соком, прованским маслом и чуть припудренное душистой травкой. Филе из селедки вкуснее, чем копченая лососина, разве что самого высокого качества. К нему — жареная молодая картошка (консервы, свежей еще нет). Картошка для меня — изысканное яство, а не скучное повседневное сопровождение к мясу. Затем гренки с сыром и горячая свекла. Расфасованный хлеб из здешней лавки — отнюдь не шедевр, но в поджаренном виде, с новозеландским маслом, вполне годится в пищу.
По счастью, я очень люблю все виды хрустящего скандинавского печенья, которое рекламируют как средство для похудания. (Худеть от него, конечно, не худеют. Кому суждено быть толстым, тот толстеет от любой еды. Для меня-то это никогда не было проблемой.) Теперь, раз я владею землей, надо мне завести огородик. Свежая травка для приправы — это всегда было проблемой на поприще просвещенного едока, которое я для себя избрал. (Мне, конечно, не приходило в голову сеять душистые травки в родительском огороде. Наверно, дети вообще ничего не смыслят в еде.) Но где мне его устроить? Ни ту ни другую мою лужайку мне не хочется вскапывать, к тому же они слишком близко от моря. Если я тайком сам себе выделю участок за шоссе, не разворуют ли мои посевы крестьяне или какие-нибудь животные? Надо все это обдумать. Счастливые, невинные заботы, так непохожие на былые терзания.
После завтрака я отрезал кусок веревки и привязал к железному поручню у башенных ступенек, теперь она удобно свисает в море, потемнела и колышется в волнах. На конце я завязал узел, чтобы легче было ухватиться. С утесом меня постигла неудача по той простой причине, что на нем не за что закрепить веревку. Скалы слишком гладкие и выпуклые, а до дома веревку не дотянуть — не хватит. Купить кусок подлиннее, привязать к кухонной двери или к столбику у крыльца и каждый вечер втаскивать длинный мокрый конец в кухню? Тоже проблема, не лишенная интереса. Сама веревка — первый сорт, слегка навощенная и пахнет вином ретсина. Говорят, местного производства.
Часть дня я провел, лежа на моем каменном «мосту» между домом и башней и глядя, как волны пролетают подо мной и в приступах ярости разбиваются о дальнюю стену глубокой воронки. Вид кипящей вспененной воды через некоторое время вызвал странное полуобморочное состояние, словно у меня закружилась голова и я туда свалился. Ощущение очень приятное. Немного обескуражило меня другое: рассматривая цветные открытки в лавке, я убедился, что мой мост и водоворот за ним относятся к местным достопримечательностям. К счастью, открытки были старые, захватанные, и я скупил весь запас за фунт стерлингов и еще получил сдачи. Не желаю я, чтобы какой-нибудь турист стал высматривать здесь «красивые виды». Да и ничего особенного этот мост собой не представляет: всего-навсего обломок скалы с дыркой, а за ним — открытый водоем. В часы прилива вода, прорываясь под мост, грохочет громко и глухо. Надеюсь, это не привлекает туристов. Из надписи на открытках я узнал, что называется это место «Миннов Котел». Я спросил у лавочницы, кто был Минн, но она не знает.
Далекий перезвон колоколов напомнил мне, что сегодня воскресенье. Небо стало затягиваться. Я долго смотрел на облака и подумал, что ни разу в жизни со мной этого не бывало, чтобы просто сидеть и смотреть на облака. В детстве я бы счел это пустой тратой времени. И мать не разрешила бы мне сидеть сложа руки. Сейчас я сижу на своей лужайке позади дома, куда я вынес стул, плед, диванную подушку. Вечереет. Толстые, бугристые серо-синие тучи, по краям тоже синие, но посветлее, медленно тянутся по небу грязноватого, но блестящего золота — впечатление, как от тусклой позолоты. Над горизонтом поблескивает легкая, чуть зубчатая серебряная полоска, напоминающая современные ювелирные изделия. Море под ней неспокойное, точно живое, золотисто-коричневое в пляшущих белых мазках. Воздух теплый. Еще один счастливый день. (Они спрашивали: «Что ты там будешь делать?»)
В глубине души, не хвалясь, я чувствую, что очень собой доволен.
Прошел еще один день. Я решил не датировать записи, это нарушило бы ощущение непрерывности мыслей. Перечитал начало моей автобиографии! Какие пугающие отзвуки будят мои утверждения о детстве, в которые я почему-то вложил столько уверенности. Я и не думал, что это для меня так важно. Я хотел писать о Клемент. Неужели мне правда хочется описывать мое детство?
Сегодня я не купался. Днем дошел до башенных ступенек, думал выкупаться, но оказалось, что веревка, которую я привязал к поручню, каким-то образом развязалась и уплыла в море. По части узлов я не мастер. Да и веревка, пожалуй, слишком толстая, вязать из такой узлы нелегко. Вероятно, сподручнее был бы длинный кусок нейлона.
Приуныл, но ужин взбодрил меня: макароны с маслом и сушеным базиликом. (Базилик, вне всякого сомнения, лучшая из душистых травок.) Потом молодая капуста, тушенная на медленном огне, с укропом. Вареный лук с заправкой из муки грубого помола, травки, соевого масла и помидоров, туда же вбить одно яйцо. К этому — два ломтика холодного консервированного мяса. (Мясо, в сущности, всего лишь предлог, чтобы поесть овощей.) Выпил бутылку ретсины за здоровье веревки, хоть она того и не заслужила.
Сейчас поздний вечер, я сижу наверху, зажег две лампы — новую и одну из старых. У новой свет не такого прелестного оттенка, но зато она не такая тяжелая. Надо купить еще таких ламп, хотя совсем без свечей я тоже, вероятно, не обойдусь. От миссис Чорни мне досталось штук десять подсвечников, не блещущих красотой, но удобных, и я расставил их, со свечами и спичками, по всему дому, где они могут понадобиться. Запах новой лампы напоминает мне о Фрицци. Продолжу мою биографию.
Родился я в Стратфорде-на-Эйвоне, вернее — вблизи этого города, а еще точнее — в Арденском лесу. Я рос в лесистой центральной Англии, так далеко от моря, как это только возможно на нашем острове. До четырнадцати лет я даже не видел моря. Всей своей жизнью я, конечно, обязан Шекспиру. Не живи я рядом со знаменитым театром, именно с этим знаменитым театром, я вообще не увидел бы ни одного спектакля. Родители мои никогда не ходили в театр, более того — мать решительно его не одобряла. Свободных денег для «выездов в свет» в доме вообще было мало, и мы никуда не выезжали. В ресторане я побывал в первый раз, уже когда окончил школу. В отель в первый раз вошел и того позднее. На летние каникулы мы уезжали в Шакстон, или в Рамсденс, или на ферму, где мать раньше работала счетоводом. Я и вообще не попал бы в театр, если бы мы не «проходили» Шекспира в школе. Один из наших учителей был помешан на Шекспире. Этот человек тоже определил мою дальнейшую жизнь. Звали его мистер Макдауэл. Он часто водил нас в театр, мы пересмотрели все пьесы. Иногда он платил за меня. И конечно, мы сами ставили спектакли. Мистер Макдауэл бредил театром, это был несостоявшийся актер. Я стал его последователем и любимцем. (Это он возил меня и еще нескольких мальчиков на неделю в Уэльс, к морю. Вероятно, то была одна из счастливейших и самых значительных недель в моей жизни.
«Счастливый» — не то слово. Я все время пребывал в каком-то радостном безумии.) Моя мать не препятствовала походам в театр, потому что они «входили в школьную программу». Я даже хитрил: притворялся, что мне это не очень интересно, просто нужно для экзамена. Скверный лгунишка. Я блаженствовал. Отец знал, но мы нипочем не признались бы другу, что обманываем мою мать.
Отец был человек тихий, книжный и самый, кажется, незлобивый из всех, кого я знал в жизни. Я не хочу этим сказать, что он был робок, хотя робок он, вероятно, тоже был. Незлобивость же определяла весь его нравственный облик. Вижу, словно это было вчера, как он, со своей всегдашней нервной улыбкой, нагибается, подбирает на бумажку паука и осторожно препровождает за окно либо в какой-нибудь безопасный уголок в доме. Я был его товарищем, мы играли, читали; может быть, только со мной он вел иногда серьезные разговоры. Я всегда чувствовал, что мы с ним заодно, что все самое интересное у нас с ним общее. Мы читали те же книги и обсуждали их: детские книжки, приключения, позже — романы, исторические сочинения, биографии, стихи, Шекспира. Нас всегда тянуло друг к другу, всегда хотелось быть вместе. Вот она, проверка: это сильнее, чем преданность, восхищение, страсть. Если тебе все время нужно, чтобы человек был рядом, это и есть любовь. Позже я, помнится, часто думал, что никто не знает, до чего мой отец добрый; сомневаюсь, чтобы даже мать это знала. Мать я, конечно, тоже любил, но в ней была какая-то жесткая сердцевина, а в отце нет. Она верила в справедливого Бога. Как знать, возможно, эта вера поддерживала ее, когда она чувствовала, что жизнь не оправдала ее надежд.
Беда моих родителей, по крайней мере с моей точки зрения, состояла в том, что они никуда не хотели ездить и ничего не хотели предпринимать. Мать считала излишним куда-либо ездить и что-либо предпринимать отчасти потому, что это было связано с расходами, отчасти же потому, что на любом новом пути нас могли подстерегать суетные соблазны. Отец не хотел никуда ездить и ничего не хотел предпринимать отчасти потому, что мать этого не одобряла, отчасти же из робости и некоторой врожденной вялости характера. Из моих слов может сложиться впечатление, будто отец у меня был меланхоликом, но это не так. Он ценил радости простой жизни, умел предвкушать маленькие праздники. Свою скучную канцелярскую работу он, я уверен, выполнял на совесть, а в мелкие хозяйственные дела вкладывал всю душу. Его любимым чтением, помимо того, что он считал полезным для меня, были романы и приключения. Помню, как он, уже смертельно больной, читал «Остров сокровищ» с лупой. Мать и меня он любил и лелеял. И этим был очерчен его мир. Его не интересовали ни политика, ни путешествия, ни какие бы то ни было развлечения, ни даже искусство, если не считать литературы. У него не было друзей (кроме меня). Своего брата Авеля он любил, но сильно ли — в этом я никогда не был уверен. С моим кузеном Джеймсом он был в прохладных отношениях, потому что видел в нем моего соперника. Тети Эстеллы он стеснялся. Моя мать терпеть их всех не могла, однако держалась безупречно.
В театр я пошел, разумеется, ради Шекспира. Те, кто впоследствии знал меня как постановщика шекспировских спектаклей, и представить себе не могли, как властно этот Бог с самого начала направлял мои шаги. Были у меня, конечно, и другие мотивы. От простой и безгрешной жизни родителей, от неподвижности и тишины нашего дома я бежал к фантасмагории и магии искусства. Я жаждал блеска, движения, акробатики, шума. Я изобретал летательные машины, ставил дуэли, я всегда, как отмечали мои критики, чрезмерно, словно ребенок, увлекался сценическими трюками. И сам я потому стал актером — это я тоже понимал с самого начала, — что мне хотелось развлечь не только себя, но и отца. Едва ли он понимал театр или научился понимать его под моим восторженным руководством. Извлекать из театра радость для себя — это мне удавалось потом всю жизнь, почти непрерывно. Далеко не таким успехом увенчались мои попытки убедить родителей получать удовольствие. В последующие годы я возил их в Париж, в Венецию, в Афины. Им везде было неуютно, неспокойно, они рвались домой; впрочем, впоследствии мысль, что они там побывали, возможно, и доставляла им какое-то удовлетворение. Им действительно только того и было нужно, что оставаться в своем доме, в своем саду. Есть такие люди. Я был тихим, послушным, привязчивым мальчиком; но я знал, что предстоит великий бой, и хотел победить, и победить быстро. Я так и сделал. Когда мне исполнилось семнадцать лет, отец задумал дать мне университетское образование. Мать этого хотела, хоть и боялась расходов. А я вместо этого поступил в театральное училище в Лондоне. (Мне дали стипендию: Мистер Макдауэл не зря потрудился.) Идти наперекор отцу мне было невыразимо тяжело. Но ждать я не мог. Мать была в ужасе. Театр она считала притоном разврата (и была права). И еще она была уверена, что я не добьюсь успеха и вернусь домой нищим. (Она презирала людей, неспособных себя прокормить.) В этом она ошиблась и с годами хотя бы прониклась уважением к моей способности наживать деньги. Театр с тех самых пор стал моим домом; даже во время войны я был актером, врачи нашли у меня затемнение в легком (оно вскоре затем прошло), и в армию меня не взяли. Впоследствии я об этом жалел.
— Мистер Аркрайт, вы когда-нибудь видели в этих краях очень крупных угрей?
Прямая речь. Я записал то, что сказал сегодня утром в «Черном льве», куда зашел купить местного сидра. Сидр, к сожалению, оказался слишком сладким, а скромный запас вина, который я привез с собой, подходит к концу. «Черный лев», конечно, о легких винах слыхом не слыхал, но в отеле «Ворон» продают «настоящее вино», так мне сказала всезнающая владелица лавки.
Фамилия Аркрайта, хозяина «Черного льва», вызывает неприятные воспоминания об одном шофере с той же фамилией, одно время служил у меня в годы моей славы и люто меня ненавидел. Просто удивительно, какого накала достигают порой отношения между шофером и тем, у кого он состоит в услужении. Аркрайт из «Черного льва» и сам по себе малоприятный тип. Это огромный детина с длинными черными волосами и черными баками, этакий наглый кондуктор омнибуса викторианской эпохи. Когда в распивочной меня пробуют разыграть, он в этом деле первый заводила. Теперь он делает вид, будто не понял моего вопроса. Угрей? Очень крупных? В этих краях? И спрашивает: «То есть, значит, на суше?» — «Это он про червей», — поясняет один из посетителей. Посетители почти всегда одни и те же, надо полагать — бывшие батраки. Женщин, конечно, нет. «Да не на суше, а в море».
Все сокрушенно качают головой. Слышится голос: «А в море-то их разве увидишь? Они же под водой». Другой голос добавляет мрачно: «Какой от них прок, от угрей?» Тема будто исчерпана. Я отправляюсь домой, прихватив ненужный мне сидр, купленный только из вежливости.
Одной удачей я все же могу похвалиться. В маленькой комнате наверху (с видом на шоссе, с того боку, где внутренняя комната и гостиная) висели занавески из крепкой бумажной ткани. (Добавлю, что с другого боку этому окну соответствует окно ванной.) Так вот, одну из этих занавесок я разрезал вдоль, связал половинки концами и эту «веревку» привязал к железному поручню, благодаря чему отлично выкупался с башенных ступенек сегодня утром, во время отлива и при довольно сильной волне. На второй завтрак — сосиски с омлетом, жареными помидорами и чуточкой чеснока, потом готовая коврижка, которую я сбрызнул лимонным соком и залил йогуртом и сметаной. Запил сидром, чтобы не пропадал. Поев, начал выкладывать вокруг моей лужайки бордюр из красивых камней, которых собрал уже довольно много. Сам еще не знаю, нелепо это будет выглядеть или нет. День сегодня облачный, ветер прохладный, над морем разлит странный прозрачный полумрак кофейного цвета. К вечеру — обычный парад облаков. Светлые золотисто-коричневые облачные утесы и башни величественно взмывают ввысь, и толстые их бока подсвечены чистым золотом. Пробовал растопить плавником камин в красной комнате, но он опять дымил.
Начал наводить в доме чистоту и порядок. До чего же это приятно — наводить чистоту! (Не от сознания ли, что все это твое? Наверно, так.) Я подмел прихожую и лестницу. Отскреб огромные плиты кухонного пола (давно пора было). Вымыл я и огромную безобразную вазу на площадке и отполировал исцарапанный стол палисандрового дерева (он заметно похорошел). Стал было протирать камин в гостиной, но какой-то домовой, поселившийся в нем, всячески мне мешал. Теперь я занялся большим овальным зеркалом в прихожей (о нем я, кажется, уже упоминал). Эта прекрасная вещь (конец XIX века?), вероятно, лучший антикварный предмет во всем доме. Стекло немного искривилось и кое-где в пятнах, но сохранило изумительный серебряный блеск, так что зеркало кажется источником света. Рама какого-то матового серого металла (олово?) в виде гирлянды из листьев, веток и ягод. Наждак придал этой металлической флоре немного больше отчетливости и мерцания. На тряпке, во всяком случае, осталось достаточно грязи. Я только что просидел минут пять, глядя на себя в это зеркало, так что сейчас, пожалуй, самое время описать мою наружность.
Казалось бы, в этом нет надобности. Да, конечно, фотографировали меня много. Но фотоаппарат был мне ненадежным другом. (Какое счастье, что у меня никогда не было желания стать кинозвездой.) Попробую описать себя таким, какой я на самом деле. Я худощав, среднего роста. Лицо удлиненное, с коротким прямым носом и тонкими губами. Кожа светлого ровного тона, легко краснеет. От досады или обидного слова я заливаюсь краской. Это свойство, когда-то очень меня смущавшее, превратилось в своего рода торговую марку; а когда я в своем кругу приобрел репутацию «тирана», оно мне даже пригодилось — пугать людей.
Глаза у меня холодного голубого оттенка, для чтения ношу небольшие овальные стекла без оправы. Волосы светлые, прямые, матовые, коротко остриженные. Они у меня и всегда-то были без блеска, а теперь и вовсе потускнели, но не седеют. Я решил их не красить. (Несколько лет назад, когда они начали отступать со лба, я прибегнул к помощи науки и остался вполне доволен результатом.) Чего фотография не способна передать, так это нежную, почти девичью фактуру моего лица (я, разумеется, не ношу усов и бороды) и его немного ироничное, лукавое выражение. (Скажу без обиняков — лицо у меня умное.) Фотографам ничего не стоит представить человека дураком. Я часто думаю, что похож на отца, хотя у него лицо было простое и доброе, чего обо мне не скажешь.
Лягу рано, с грелкой. Очень устал.
Писать о театре будет, вероятно, не так-то легко. Возможно, мои размышления на эту обширнейшую тему составят отдельную книгу. А сейчас лучше перейти прямо к Клемент Мэйкин. Как-никак, ведь это ей,
Клемент, я обязан тем, что очутился здесь. Здесь ее родина, она росла на этом пустынном берегу. Вместе мы здесь не бывали. Видно, я все-таки суеверен. Ее родные места дождались меня.
Клемент была моей первой женщиной. Когда мы встретились, мне было двадцать лет, а ей (по ее словам) тридцать девять. Отчасти из-за той, кого я любил и потерял, а отчасти в силу моего пуританского воспитания я был девственником, пока Клемент не налетела на меня, как орлица. Была ли она великой актрисой? Думаю, что да. Конечно, женщины все время играют роль. О мужчинах в этом смысле судить легче. (Взять хотя бы Уилфрида.) Кое-что мне придется сказать о театре просто для того, чтобы создать для Клемент контекст, обставить сцену для ее выхода. Она была не такая, какой ее считали, ни поклонники, ни враги не отдавали ей должного, а и тех и других у нее было в избытке. За тех, кого она любила, она дралась когтями и зубами, отметая все соображения нравственности; ради них лгала и жульничала и плевать хотела на чужие права и сердца. Меня она любила, и я вполне готов признать, что она меня «сделала»; впрочем, сложись обстоятельства иначе, я бы и сам себя «сделал». Упокой, Господи, ее беспокойную душу.
Чувства, если разобраться, существуют либо в самой глубине человека, либо на поверхности. На среднем же уровне их только играют. Вот почему весь мир — сцена, почему театр не теряет своей популярности, почему он вообще существует, почему он похож на жизнь, а он похож на жизнь, хоть и является в то же время самым пошлым и откровенно условным из всех искусств. Писатель, даже посредственный, может сказать немало правды. Его единственное средство воздействия тяготеет к правде. В то время как театр, даже самый «реалистический», находится примерно на том же уровне и пользуется примерно теми же методами, что и наша повседневная ложь. Именно в этом смысле «обычный» театр похож на жизнь, а драматурги, исключая самых великих, беспардонные лжецы. С другой стороны, чисто формально театр из всех искусств ближе всего к поэзии. Когда-то мне казалось, что если б я мог стать поэтом, то вообще не совался бы в театр. Это, конечно, вздор. Чтобы громогласно заявить о-себе миру, моей изголодавшейся, молчащей душе нужен был именно театр. Театр — это порабощение человечества средствами магии: из вечера в вечер подчинять себе публику, заставлять зрителей смеяться и плакать, страдать и опаздывать на поезд. Актеры, конечно, видят в публике врага, которого надо обманывать, одурманивать, оглушать, захватывать в плен. Отчасти это объясняется тем, что публика — это в то же время и суд, чей приговор не подлежит апелляции. Здесь общение искусства с его потребителем самое тесное и непосредственное. В других искусствах мы можем осуждать потребителя: он, мол, невежествен, неопытен, невнимателен, туп. А театр бывает вынужден потакать и потакать публике, пока не добьется полного, прямого контакта, которого другие художники могут позволить себе добиваться не спеша, кружными путями. Отсюда натиск, шум, нетерпение. Все это было частью моего реванша.
Как пошло, как жестоко все это было — я оценил и прочувствовал только теперь, когда поставил на этом крест, когда могу сидеть на солнце и глядеть на спокойное, тихое море. Это одиночество и покой после неумолчного гама и сутолоки, глубокая, статичная тишина, так непохожая на эффектные минуты тишины в спектакле — «Буря», сцена 2, или появление Питера Пэна. И так же непохожая на знакомую, особенную тишину в пустом театре. Актеры — пещерные жители в живом пульсирующем мраке, который они и любят, и ненавидят. С каким наслаждением я, бывало, раздирал напряженную тишину ожидания шумом — шумом декораций, шумом красок. (Однажды я ставил пьесу с детективным сюжетом, и начиналась она так: долгая тишина, потом пронзительный вопль за сценой. Этот вопль неизменно производил фурор.) Между тем, а может быть именно поэтому, я довольно равнодушен к музыке. Меня восхищает сложная и, по существу, беззвучная музыкальная драма балета, а вот оперу я терпеть не могу. Клемент говорила, что это от зависти. Вагнеру я и правда завидую.
Театр — это сборище одержимых. Это отнюдь не страна сладких грез. Какие уж тут грезы — безработица, бедность, неудачи, колебания (одно возьмешь — упустишь другое), и, как в семейной жизни, слишком скоро убеждаешься, сколь ограниченны возможности человеческой души. А одержимость остается. Все драматурги и режиссеры и большинство хороших актеров (не все) — одержимые. Только такие гении, как Шекспир, скрывают это или, вернее, переключают свою одержимость в духовный план. А одержимость требует тяжелой работы. Сам я всегда работал (и других заставлял работать) как дьявол. Мать воспитала во мне привычку к труду. Она всегда что-то делала и не терпела, чтобы другие бездельничали. Отец охотно что-нибудь чинил и приколачивал, но он был бы не прочь иногда и посидеть просто так, глядя, как жизнь течет мимо него, а вот это не разрешалось. Мать не имела по отношению к нему честолюбивых замыслов. Она презирала суетный преуспевающий мир дяди Авеля и тети Эстеллы, хотя мне сдается, что мысль о них не давала ей покоя, как заноза. Ей просто хотелось, чтобы мой отец всегда был занят чем-нибудь полезным. (К счастью, разговоры со мной о прочитанных книгах входили в число полезных дел.) Она даже не притворялась, что понимает его работу, никогда о ней не расспрашивала и скорее всего понятия не имела о том, что он делает на службе. Она управляла им дома. Она и мной управляла, но это было легко: я и сам всегда был одержим каким-нибудь делом. Интервьюеры спрашивали меня, как случилось, что я стал писать пьесы. Высказывалось нелестное мнение, будто я стал писать, когда убедился, что актера из меня не выйдет. Это неверно. Я начал писать еще в ранней молодости, потому что не хотел терять времени, когда бывал безработным. Я сразу заметил, как деморализующе действуют вынужденные простои на многих моих собратьев. В жизни актера «отдых» — наименее отдохновительное время. Эти периоды стали к тому же моим университетом. Я читал, писал и обучал себя моей профессии.
Поскольку люди неосведомленные и не всегда доброжелательные строили на этот счет много догадок, я хотел бы сейчас сам сказать кое-что о своих пьесах. Все они были задуманы как однодневки, как нечто вроде легких пантомим, и все существовали только в моей постановке. Никого другого я к ним не подпускал. При отсутствии подлинно большого таланта трудно удержаться на грани между иронией и наивностью, а ирония мстит за себя абсурдом. Я не обольщаюсь насчет масштабов моего таланта. Говорили еще, что мои пьесы — всего лишь материал для Уилфрида Даннинга. Почему «всего лишь»? Уилфрид был великим актером. Такие теперь перевелись. Он начинал в старом мюзик-холле на Эджуэр-роуд. Он мог стоять на эстраде неподвижно, с каменным лицом, а зрители покатывались со смеху. Потом моргнет — и они еще пуще хохочут. Способность прямо-таки пугающая: тайны человеческого тела, человеческого лица. Лицо у Уилфрида было одухотворенное. И между прочим, это было самое большое лицо, какое я когда-либо видел, за исключением, может быть, Перегрина Арбелоу. Пожалуй, в каком-то смысле он действительно был единственным, кто подвигнул меня на драматургические опыты, и, когда он умер, я перестал писать. Скажу без сожаления: мои пьесы принадлежат прошлому, и я никому их не завещаю. То были сказочки, пустячки, фейерверки. Только вот эти мои записи воплощают — или предвещают — то, что мне хотелось бы оставить после себя как долговечную память. Кто-то когда-то сказал, что мне следовало стать хореографом. И я понимаю такое мнение. Многих удивляло, каким успехом я пользовался в Японии. Я-то знал причину этого, и японцы тоже.
Хотя меня называют экспериментатором, я — убежденный сторонник занавеса, отделяющего сцену от зрителей. Стою за иллюзию, а не за отчуждение. Я ненавижу бессмысленную суету вокруг сцены, вынесенной в зрительный зал, в которой тонет четкая последовательность событий. Противна мне и вся эта чепуха насчет «участия публики». Мятежи и прочие массовые выступления, возможно, и имеют свою ценность, но не следует смешивать их с искусством театра. Театр должен создавать условный отрезок времени и удерживать в его пределах завороженного зрителя. Театр пытается утвердить ту глубокую истину, что мы — существа протяженные, но существуем только в настоящем. Настоящее это условно, поскольку лишено свободной ауры личного восприятия и таит в себе собственные границы и выводы. Так, например, жизнь смешна, порой ужасна, но не трагична: трагедия — это уже хитроумное измышление театра. Разумеется, в большинстве случаев театр — это грубое производство заурядных поделок, а читать (не только ради режиссерских помет) можно только пьесы великих поэтов. Я сказал «великих поэтов», но имел в виду, вероятно, одного Шекспира. Какой парадокс — самое легкомысленное и безродное из серьезных искусств породило величайшего в мире писателя! Что Шекспир совсем не такой, как другие, что он был не просто primus inter pares,[8] а качественно иной, — это я постиг своим умом еще в школе и на этой тайне был вскормлен. Никакие другие пьесы на бумаге не живут, разве что творения древних греков. Я по-гречески не читаю, а Джеймс утверждает, что они непереводимы. Просмотрев множество переводов, я пришел к убеждению, что он прав.
Разумеется, театр — это вечная смена надежд и разочарований, и в этих его циклах ярче переживается цикличность нашей обычной жизни. Радостное волнение премьеры, позор провала, усталость, когда пьеса держится на сцене долго, и бездомное ощущение, когда ее сняли с репертуара; после непрерывного cозидания — непрерывное разрушение. Снова и снова концы и разлуки, сборы в дорогу, и проводы, и расставания с теми, кто успел стать для тебя семьей. Все это делает из людей театра кочевников, или, вернее, разобщенных членов некоего монашеского ордена, требующего подавления некоторых естественных чувств (например, жажды прочного существования). Мы обретаем «бессердечие» монахов, а значит, переживаем превратности обычной жизни по-своему, в сублимированном, символическом плане. Как актер, режиссер и драматург, я, конечно, полной мерой хлебнул разочарований, потерянного времени, тщетных поисков. Моя «блестящая» карьера насчитывает много неудач, много тупиков. Так, на Бродвее все мои пьесы провалились. Большим актером я не стал, как драматург кончился. Лишь благодаря моей славе как режиссера об этом склонны забывать.
Если правда, что неограниченная власть развращает, тогда я — самый развращенный из людей. Театральный режиссер — самодержец (иначе он не выполняет своего назначения). Я слыл безжалостным и всячески поддерживал в людях это убеждение, что оказалось весьма удобным. В моем присутствии актеры каждую минуту ждали слез и нервных вспышек. Большинству из них только того и нужно было — они ведь не только нарциссисты, но и мазохисты. Я отлично помню, с каким наслаждением Гилберт Опиан закатывал истерики. Женщины, те, конечно, плакали, не осушая глаз. (Когда я, уже зрелым режиссером, работал с Клемент, мы оба плакали. Боже, как мы с ней ругались!) Я был беспощаден к пьянству, и это подпортило мои отношения с Перегрином Арбелоу еще до истории с Розиной. Перегрин — пьяница самой худшей породы, ирландской. Уилфрид пил как лошадь, но на сцене это никогда не было заметно. О черт, как скверно, что его нет.
Меня вполне устраивала закрепившаяся за мной слава тирана и деспота. Награждали меня и другими характеристиками, более гадкими и не соответствующими истине. Я ни разу не воспользовался своим положением, чтобы уволочь женщину в постель. Конечно, театр — это все то, что думала о нем моя мать, плюс много такого, чего бедняжка и вообразить не могла. Но не следует забывать, что театр — это еще и профессия; и очень часто «типичный» актер — это человек средних лет, регулярно имеющий работу и живущий добродетельной жизнью с женой и детьми где-нибудь в пригороде. На таких людях театр и держится. Да, театр — это секс и еще раз секс, но так ли уж это важно для профессионала? Мою мать огорчало, что я буду «играть плохих людей», ей казалось, что это пойдет во вред моей нравственности (а она и видела-то меня, кажется, только в школьных спектаклях). Я далеко не уверен, что такая зависимость вообще возможна. Над этим стоит задуматься. Да, чтобы сыграть злодея, необходимо в какой-то мере отождествить себя с ним, но такое отождествление не бывает полным, прежде всего потому, что злодейство принимает столько индивидуальных обличий. (У каждого актера есть уровень, на котором он не способен лепить характер. Он может работать либо выше этого уровня, либо ниже.) И еще: мы носим маски. В идеале маска еле-еле касается лица. (Таково мое мнение, некоторые дураки со мной не согласятся.) Вспоминается анекдот про одного старого актера. Когда ему предложили роль старика, он воскликнул испуганно: «Но я же никогда не играл стариков!» Вот это настоящий профессиональный подход.
Однако вернемся к моей особе. Пусть в наши дни признаваться в этом не модно, но я не наделен повышенной сексуальностью, а прекрасно могу обходиться без «половых сношений». Иные наблюдатели даже подозревали меня в гомосексуализме, потому что у меня не было беспрерывной смены любовниц. Я ненавижу грязь. Может быть, этому меня научила моральная гигиена моей матери. И мне всегда претило непотребное сквернословие «мужских» разговоров. Конечно, любовные связи у меня были, и немало. Но я никогда не заманивал женщин в постель пустыми обещаниями. Кто-то (Розина) сказал однажды: «Театр для тебя значит больше, чем женщины». Это была правда. Никогда (кроме одного раза, когда я был еще очень молод) я не думал всерьез о браке. Лишь однажды (все тот же один раз) любил без оглядки. Потом была Клемент, вечная, восхитительная, ни с кем не сравнимая Клемент. И бывали «безумные увлечения». И бывали такие милые, милые женщины. Но я не бабник. Я всегда был законченным профессионалом. Тут я был беспощаден не только к другим, но и к себе. Пошлые любовные интрижки, особенно внутри замкнутой группы, мешают серьезной работе. Я и сам очень подвержен ревности и имел дело со многими ревнивыми людьми. Зависть отравляла мне жизнь не так сильно. В театре жгучая зависть может прямо-таки сгубить человека, и я очень скоро понял, что, не преодолев ее, нечего и надеяться на успех.
Жалел ли я, что так и не стал выдающимся актером? Сколько раз мне задавали этот вопрос! Ну конечно, жалел. Режиссеры всегда завидуют актерам, и я подозреваю, что чуть ли не каждый великий режиссер предпочел бы быть великим актером. Кое-кто считал, что мои актерские способности лучше проявятся в кино и на телевидении, меня пытались туда сманить, с этим связано много забавных историй, но, в сущности, ни в кино, ни на телевидение меня не влекло. Я всегда считал, что подлинное драматическое искусство — это живой театр. Были у меня и свои заветные мечты, конечно, по части Шекспира; но на Лира я так и не отважился, а о моем Гамлете лучше и не поминать. Кажется, я хорошо сыграл Просперо в той постановке, когда Лиззи была Ариэлем. Это была моя первая большая роль, и как же давно это было. Со временем тщеславия у меня поубавилось. В театре тщеславие получает такие щелчки, что, казалось бы, должно быстро поджать хвост, однако большинство актеров умудряются его сохранить — у них это не только профессиональная болезнь, но и единственная возможность не пойти ко дну. Искреннее, великодушное восхищение, а оно тоже не редкость, помогает и врачует. Я смотрел и просто хороших, и великих актеров — Уилфрида, Сидни Эша, Маркуса Хенти (тоже один из любовников Клемент), даже Фабиана Гинсберга, даже Перри, даже Алоиза. И спокойно зачислил себя в актеры второго разряда. Это было тем легче, что к тому времени я уже с головой ушел в режиссуру. Чтобы позабавить себя и публику, я исполнял крошечные роли в собственных постановках и как-то раз чуть не затмил всех остальных, сыграв Якова в «Чайке».
Ну и ну, какая же получается мешанина, если писать вот так подряд все, что придет в голову. Может, лучше и в самом деле рассматривать этот дневник как черновые наброски. Постараюсь, хотя бы на время, удержаться от пространных воспоминаний о моих постановках. Известность мне принес Шекспир, но я брался и за многое другое. За что только я не брался! А в общем, довольно хвастать. Все это я наплел в виде пролога к разговору о Клемент Мэйкин. Но бедная Клемент может подождать, ведь ничего другого ей и не остается. Для нее битва жизни кончилась. А я сижу здесь и дивлюсь на себя. Что же я, добровольно распростился с этой магией, бросил свою книгу в море, как Просперо? Простил врагам своим? Отречение от власти, окончательное претворение магии в жизнь духа? Время покажет.
Происшествие странное и огорчительное. Я писал, сидя на своей лужайке, в своем каменном кресле, возле корытца с камнями. Утреннее солнце стало припекать, и я решил сходить в дом за шляпой. Побаливает голова, пора, вероятно, сменить очки. Я вошел в дом и стал подниматься по лестнице, помаргивая после яркого света, и, когда ступил на верхнюю площадку, сразу почувствовал, что что-то случилось, но не мог понять, что именно. Потом до меня дошло, что моя милая большая безобразная ваза исчезла со своей подставки. Она упала на пол и разбилась вдребезги. Но каким образом? Подставка не качается и не сдвинута с места. Ветра нет, занавеска из бус не колышется. Может быть, я слегка сдвинул вазу вчера, когда стирал с нее пыль?
Или был подземный толчок? Не хочется думать, что это моя вина, да я знаю наверняка, что не виноват. Я любил эту несчастную уродину, она была вроде старой собаки. Я подобрал осколки со смутным намерением ее склеить, но куда там, это невозможно. И как она могла соскочить с подставки? Не знаю, что и думать.
— Да все ваши письма в конуре, мистер Эрроуби!
Я наконец не выдержал и справился на почте. Не выдержал — то есть уронил себя, не столько в глазах деревни (хотя мне и этого не хотелось), сколько в собственных глазах. К чему мне теперь письма, к чему ждать их, изнывать, удивляться, что никто мне не пишет? Ведь я договорился с мисс Кауфман, что деловые письма она будет оставлять в Лондоне, а пересылать только письма от друзей. Но друзей-то у меня нет, втолковывал я себе. Правда, одно письмо мне очень хотелось получить, или, лучше сказать, я был уверен, что получу его. Однако вернемся к вопросу о конуре.
— В конуре?! — переспросил я почтмейстершу. (Она сестра нашей лавочницы, и почта помещается в лавке.)
— Ну да, каменная конура, не доходя поворота к вашему дому. Для миссис Чорни письма всегда там оставляли.
Я, конечно, видел эту кучу камней — в свое время дойдя со мной до шоссе, объяснил, что здесь кончаются мои владения, — но подробно ее не обследовал. Формой она и напоминает собачью конуру, но жить там, на мой взгляд, могла бы только каменная собака. Думаю, что сложили ее здесь для какой-то другой цели, какой — понятия не имею.
Я возмутился. Откуда мне было знать? Почему мне не сказали? Как мог почтальон не заметить, что письма не вынимают? А если дождь? И т. д.
Почтмейстерша повторила невозмутимо, что миссис Чорни всегда получала свою корреспонденцию в конуре, что почтальону это сокращало маршрут, что нельзя требовать, чтобы он еще проверял, взяты ли письма, да и, в конце концов, я мог быть в отъезде. И т. д.
Я купил мороженого окуня (гораздо вкуснее трески) и поспешил домой. Да, письмо, которого я ждал, и еще несколько других писем лежали в конуре (в дождливую погоду там было бы полно воды), и я принес всю пачку в дом.
Нужное мне письмо было от Лиззи Шерер, и когда я приведу его здесь, станет ясно, в каком отношении я в этом дневнике погрешил против правды. До сих пор мне вообще не хотелось говорить о Лиззи, потому что я сам еще не решил, как расцениваю один свой поступок, связанный с нею. Не то чтобы это расстраивало меня или волновало. Я приехал сюда с твердым намерением никогда больше не волноваться из-за личных отношений. Слишком часто такие волнения оказываются одним из видов тщеславия. А сделал я вот что: я послал Лиззи письмо, задуманное как своего рода проверка, или рискованный ход, или игра. Игра всерьез. С Лиззи я всегда играл в серьезные игры. Пожалел ли я, что отправил это письмо? Жалею ли об этом теперь, пожалею ли в будущем? Но сначала — несколько слов о самой Лиззи.
Клемент Мэйкин была великой актрисой, или без пяти минут великой. Лиззи Шерер на другом конце шкалы, назвать ее актрисой вообще можно лишь с натяжкой. Если Лиззи стяжала кое-какие лавры, это целиком моя заслуга. Я выжал из нее больше того, что в ней было, и теперь могу признаться, что положил на нее много труда, потому что в каком-то смысле любил ее. «В каком-то смысле» означает, во-первых, что по-настоящему я любил только раз в жизни (не ее), а во-вторых, что бросить ее, когда пришло время, оказалось на удивление легко. Я никогда не сходил с ума по Лиззи, как было с некоторыми другими женщинами (Розина, Жанна). Мое чувство к ней было какое-то тихое, мечтательное, такого я, пожалуй, не испытывал больше ни к кому. Но я ее бросил. Она любила меня куда глубже. Для нее я был единственным.
Лиззи наполовину шотландка, наполовину испанская еврейка. Хотя ни у одной женщины, какую мне доводилось ласкать, нет таких обворожительных грудей, она не особенно хороша собой, даже в молодости не была красавицей, но у нее есть шарм. Этот неотразимый шарм в сочетании с молодостью помог ей на первых порах. Работала она упорно, и многих подкупала в ней этакая неколебимая шотландская надежность. Описать ее внешность нелегко. У нее большой широкий лоб и четкий привлекательный профиль (можно влюбиться и в профиль). Линия лба грациозно и мягко переходит в небольшой аккуратный носик, который устремляется навстречу людям, но кверху не вздернут. А ниже — прямая линия к твердому подбородку с еле заметной ямочкой. И губы у нее твердые, не толстые, но четко вылепленные и нервно отзывчивые. (До чего же разные бывают губы!) Не искусство, а сама природа раскрасила их в приятный терракотово-розовый цвет. Верхняя губа длинная, с красивой выемкой. (Существует ли на каком-нибудь языке слово для обозначения этого нежного желобка, что идет от носа ко рту?) Лицо это можно бы назвать умным, не будь оно отмечено какой-то детской робостью. Подозреваю, что в этом мягком, словно бы выражении и кроется ее шарм. Глаза у нее влажные, светло-карие. Как они вспыхивали, когда я ее целовал! Она близорука и часто щурится. (Как сказал однажды Перегрин, красивые женщины мало что видят, потому что из тщеславия не носят очков.) Бровки почти невидимые, и, пока длилось мое царствование, никаких манипуляций с ними она не проделывала. На щеках здоровый розовый румянец. Она почти не красится, и ей недостает (может, это преднамеренно) той прелестной искусственности, что отличает многих актрис, их эмалевые лакированные лица. Такая искусственность, конечно, привлекает. Меня она привлекала. Мне нравится примесь искусства во внешности женщины, хотя видеть, как достигается тот или мной эффект, для меня не обязательно. Волосы Лиззи, теперь крашеные, коричнево-каштановые и очень густые. (Они пышные и завиваются не кудрями, а штопорчиками.) Когда она счастлива, ее лицо так и лучится весельем. (В лучшие ее времена лицо ее исторгало в публике дружный вздох удовольствия.) Она и теперь еще недурна, хотя стала неряшлива, не следит за собой. В любом театральном училище физическая дисциплина — неизменное требование, игра на сцене невозможна без физической дисциплины. Актрисы всячески стараются сохранить грациозную моложавость, а Лиззи этим пренебрегла. Шика в ней и никогда-то не было. (Женщина, в которой есть шик. — услада для глаз, к которой я далеко не равнодушен.) А с годами она, скажем без обиняков, еще и растолстела. Бог ты мой, ей, наверно, уже под пятьдесят.
Итак, вот письмо Лиззи, извлеченное из собачьей конуры и само себя более или менее объясняющее.
«Дорогой мой, твое прекрасное, великодушное письмо получила, но я его не понимаю. Может быть, не хочу понять. Достаточно того, что оно у меня есть. Когда я увидела твой почерк, у меня дух захватило от радости и страха. Но почему страха? Ведь я тебе ничего не сделала, только любила тебя всегда. Читала твое письмо и плакала, плакала. Ты сам-то знаешь, сколько времени не писал мне? (Открытки не в счет.) Больше всего мне хотелось бы просто радоваться, что ты мне написал, а не думать о твоем письме и не отвечать на него. А то сразу одолевают тревоги и страхи.
Что тебе нужно, Чарльз? Ох, как хорошо я тебя помню! Но я всегда тебя помнила, не забывала ни на миг с тех самых пор, как полюбила. Особенно порадовало меня твое письмо тем, что ты не сомневаешься, что я все еще люблю тебя. „Все еще“ здесь неуместно. Моя любовь к тебе живет в каком-то нескончаемом настоящем, ею, можно сказать, измеряется время. Это не пустые уверенья. Такая любовь совместима с отчаянием, с покоем, со смирением, с повседневностью, усталостью и молчанием. Я люблю тебя, Чарльз, буду любить, пока жива, и ты можешь схоронить это в своем сердце и знать, что так оно и есть.
Твое письмо такое спокойное, нарочито спокойное, с шуточками (насчет того, что тебе нужна „нянька“!). Ладно, ты хочешь со мной повидаться, почему бы и нет, ведь мы старые друзья. Но именно эти двое старых друзей, во всяком случае один из них, не могут просто встретиться и сказать: „Как жизнь?“ Смотрю на твое письмо и пытаюсь Читать между строк. Что там есть, между строк? Видимо, я должна догадаться о твоем настроении. Уж эти твои настроения! Ты что, настроился на очередной романчик? Извини за эти ужасные слова, но ты поставил меня в ужасное положение. Может быть, твое письмо вообще ничего не значит и что-то выдумываю? Ты сам не знаешь, что хотел сказать, и знать не хочешь. С тебя и это станется. Прости меня.
Послушай, Чарльз, я сказала, что благодарна тебе, и это правда. Ты же знаешь, что я годами, годами готова была по первому знаку выйти за тебя замуж. Да сколько раз я сама делала тебе предложение, когда мы были вместе. Я понимаю, что в этом твоем письме речь, конечно же, не идет о браке. Тогда о чем же? О воскресном пикнике? Ты не говоришь, что любишь меня. Хочешь, видно, поэкспериментировать, благо есть свободное время? Чарльз, я хочу жить. Хочу уцелеть. Не хочу второй раз лишиться рассудка. Как подумаю — я просто боюсь подойти к тебе близко. Тебе пришлось бы меня уговаривать, а это не для тебя. Ты сам когда-то сказал: что А любит В — сразу заметно, точно комбинация из-под юбки. Мы не виделись больше года, в последний раз на завтраке в честь Сидни Эша, и как я ждала этой встречи, а ты со мной двух слов не сказал. Потом я хотела уехать с тобой в такси, а ты ни с того ни с сего предложил Нелл Пикеринг тоже ехать с нами. (Ты, наверно, уже забыл.) И с тех пор от тебя ни звука. Не звонил, не написал ни строчки, хотя знаешь, как бы я обрадовалась. Ты даже не знаешь, где я живу, вот и письмо послал на моего агента! О чем это все говорит? А теперь вот это странное, двусмысленное письмо. Просто тебе что-то взбрело в голову, какая-то абстракция. Наверно, ты уже успел пожалеть, что написал.
Если бы я приехала тебя навестить, как ты просишь, приехала просто потому, что ты в настроении меня повидать, вроде бы поглядеть, что из этого выйдет, — на меня сразу накатило бы прежнее безумие. Это не значит, что оно прошло, но я как-то жила, справлялась, даже навела наконец какой-то порядок в своей жизни. Ведь времени, с тех пор как ты меня бросил, прошло достаточно! Ты и не знал, что со мной творилось в те дни. Я не хотела тебя огорчать, из мести открыть тебе мою боль. Пока мы были вместе, я каждую минуту, каждую секунду знала, что это не навек. Ты не давал мне об этом забыть. Но почему-то (вот оно, безумие) я пошла на эту муку, если б могла страдать сильнее, страдала бы и сильнее. Интересно, ты когда-нибудь так любил? Может быть, ты понимал такое только на сцене. (Мне кажется, я влюбилась в тебя, когда ты на репетиции заорал на Ромео и Джульетту: „Не прикасайтесь друг к другу!“) Ты все говорил, что большая любовь была у тебя в молодости, но думаю, это говорилось мне в утешение за то, что меня ты любил недостаточно. Так или иначе, ты любил меня недостаточно, и вдруг теперь… нет, в чудеса я не верю.
Чарльз, я побывала в аду, и выбралась оттуда, и не хочу возвращаться. Ревность — это ад, а я не излечилась. Что, если я явлюсь к тебе со своей прежней любовью, а ты улыбнешься и пожмешь плечами. Ты же свободен, это ясно из твоего письма. Прости, но ты сам знаешь, люди болтливы. Все всё всем рассказывают, и я до сих пор встречаю женщин, про которых и не знала, что ты их знал, и они рассказывают, что у них были с тобой романы, может быть, врут, конечно. Ты знаешь, что не можешь жить без женщин, а я уже и не молода и не красива, а ты любишь гоняться за тем, что нелегко дается в руки, ни с кем не остаешься долго, всех рано или поздно бросаешь. Ты как-то сказал, что жениться — все равно что купить куклу, вот, значит, как ты смотришь на брак. И не верю я, что ты навсегда ушёл из театра. Гилберт говорит, что с тем же успехом Бог мог бы удалиться от дел, слишком ты для этого беспокойный. Ты заставил меня играть, ты всех заставлял играть, ты как очень хороший танцор, с которым всем легко танцевать, но тебе нужно, чтобы танцевали с тобой.
Людей как таковых ты не уважаешь, ты их не видишь, ты, в сущности, не учитель, а вроде как хищный волшебник. И ты думаешь, я поверю, что все это может кончиться? Или я нужна тебе как терпеливый друг, как дуэнья с вязаньем, спокойная, мудрая женщина, нечто вроде отставленной старшей жены, которой можно поплакаться на других, помоложе? Ничего из этого бы не вышло, Чарльз. Я не спокойная и не мудрая. Мне подавай все или ничего. У тебя еще могут быть дети. Я помню, ты не раз говорил, как хотел бы иметь сына. Ты и сейчас еще мог бы иметь сына, да я-то не могла бы его родить. Ах, Чарльз, Чарльз, почему ты не женился на мне тогда, давно, я так тебя любила. Я так тебя люблю, но не могу я сунуть голову в петлю. Моя любовь к тебе наконец-то утихла. Я не хочу, чтобы она разгорелась пожаром.
Должна сказать тебе еще одну вещь. Я живу с Гилбертом Опианом. Ты, видно, этого не знал, а то упомянул бы в письме. Я помню, ты взял с меня слово, что я сообщу тебе, если когда-нибудь прочно свяжу с кем-нибудь мою судьбу. (Так было больно, когда Рита сказала мне, что ты и с нее взял такое обещание. Про свое обещание я ей не сказала. Она говорит, что не считает себя связанной словом, потому что оно было дано под давлением.) Про Гилберта я тебе не сказала, потому что так я с ним не живу, конечно, в том смысле, что мы не любовники, не стал же он вдруг нормальным мужчиной. Просто мы любим друг друга, помогаем друг другу, живем под одной крышей, и знаешь, Чарльз, впервые в жизни я счастлива. Тут есть с моей стороны что-то творческое, куда больше, чем было в моей игре. Когда мы встретились с тобой на том завтраке, я бы тебе рассказала, если б ты проявил хоть каплю интереса, расспросил бы! И еще, Чарльз, я ведь бросила сцену, и от этого мне стало много легче. По чести говоря, театр был для меня сплошной мукой. Блистала я только ради тебя, а когда ты меня бросил, сразу свяла. (Да и раньше не многого стоила!) Как вспомнишь, какой жалкой, нелепой, путаной жизнью я жила столько лет, просто непонятно, как я это терпела. И ведь прекрасно могла быть счастлива, а вот, как нарочно, не была! Мужчины всегда относились ко мне безобразно. Гилберт совсем не такой. Можешь скалить зубы сколько влезет. Эти чертовы мужчины всю жизнь мной помыкали. А теперь я веду упорядоченное, деятельное существование. Я даже приношу пользу. Работаю неполный день в канцелярии одной больницы. Учусь живописи и пишу книжки для детей (ни одна еще не издана). На твой взгляд, может быть, радости мало, но для меня это счастье и свобода. И Гилберту хорошо. Он больше не терзается из-за того, что не добился успеха, не стал звездой. Получает кое-какие мелкие роли; немножко работает на телевидении. Мы не богаты, но денег заработать можем и можем заботиться о друге. Нежность, абсолютное взаимное доверие и контакт и правда — это с годами становится все нужнее. Гилберт перестал „охотиться“, он говорит, что всегда искал одного — любви, а теперь, со мной, он ее Все как-то сразу стало просто и невинно. (Теперь мне кажется, что всем нам в свое время промыли мозги по части секса.) Пожалуйста, Чарльз, милый, пойми меня и не сердись. Ты сам знаешь (не буду об этом распространяться, потому что в прошлом это тебя раздражало), что Гилберт тоже очень тебя любит. Он прямо-таки преклоняется перед тобой. Но сейчас он испугался. Он говорит, что ты приедешь на тройке и увезешь меня к цыганам. (Наверно, это цитата, а ты всегда говорил, что я читаю только Шекспира, да и то только свою роль.) Он до сих пор тебя боится, и я тоже. Очень уж мы привыкли тебе повиноваться. Не употреби свою власть нам во зло. Ты легко мог бы оказать на нас страшный нажим, не делай этого. Будь великодушен, мой дорогой. Ты мог бы нас обоих довести до безумия. Мы долго мучились, пока не решили свои проблемы, и если некоторым людям такое решение кажется смешным, это значит только, что им недостает ума и воображения. А ты не лишен ни того, ни другого.
Чарльз, я не хочу тебя сейчас видеть, еще не время. Я бы не устояла. Мне надо прийти в себя после твоего письма. Пожалуйста, напиши мне и постарайся не сердиться. Когда я немножко успокоюсь, давай повидаемся, приезжай сюда, и Гилберта повидаешь. Что-нибудь придумаем. После твоего письма осталась какая-то ноющая пустота, нехватка, и этого не поправишь. Но здесь мне хорошо, и Гилберту я нужна, и у нас есть этот дом (вернее, полдома), который мы вместе устраивали, и если б я сейчас ушла, это было бы полным крушением для нас обоих. (Не знаю я, не знаю, что тебе от меня было нужно, теперь-то, может быть, ничего уже не. нужно. О Господи!) Гилберт говорит, что в конце концов ты должен воспринять нас как своих детей. Ох, Чарльз, до чего же могущественны эти силы, которым я приказала уснуть. Вся она еще тут, вся моя любовь к тебе. Не будем швыряться любовью, не так часто она встречается. Ты вспомнил обо мне, написал мне так по-хорошему, так великодушно. Неужели и теперь, когда уже близко старость, мы не можем любить друг друга и встречаться как свободные люди, без этой страшной жажды обладания, без надрыва и страха? Я так хочу, чтобы мы любили друг друга, но не хочу, чтобы любовь меня сгубила. Я столько горя испытала из-за тебя. Вся моя любовь к тебе была смешана с горем. Сколько же слабости в силе любви! Кажется, что можешь подчинить любимого своей воле, но это иллюзия! Пишу и плачу. Пожалуйста, ответь поскорее, скажи, что повидаться можно и не сейчас, через некоторое время, и что не разлюбишь меня. Не потеряй эту любовь, ведь, какая бы она ни была, она заставила тебя написать мне. И мы посмот-рим друг на друга.
Всегда твоя Лиззи».
Я уже довольно долго просидел в красной комнате, где мне наконец-то удалось растопить камин. Сегодня он не дымит — то ли одумался, то ли просто дрова подсохли.
Письмо Лиззи я прочитал два раза. Конечно, это глупое, путаное, чисто женское письмо, написано одно, а понимай наоборот. Лиззи предлагает себя, иначе она не может. А все остальное, конечно, в большой мере «пустые уверенья». Женщина поумнее могла бы ответить спокойно и предоставить мне читать между строк. Поумнее и не такая искренняя. Кое-где она, впрочем, пытается хитрить, но очень уж неумело. Бедная Лиззи. Насчет Гилберта Опиана все это чепуха, но меня и правда задело, что она мне не сказала, не сдержала слова. Так какие же у них отношения? Жить рядом с Лиззи — этого и теперь еще, надо полагать, достаточно, чтобы любой мужчина стал нормальным. (Одни ее груди чего стоят.) Они что же, вместе пьют какао, оба в халатах? Думать об этом противно. Гилберт, конечно, ничтожество, козявка, я его одной рукой мог бы раздавить, а другой увести Лиззи. Платоническое любовное трио — это уж совсем не в моем вкусе. Судя по штемпелю, письмо Лиззи провалялось в конуре больше недели. Может, это и к лучшему. Получи я его сразу, мне бы, может быть, вздумалось и ответить тут же, либо отчитать ее, либо отделаться шутками. А так у нее было время обдумать мое молчание. И пожалуй, имеет смысл это молчание продлить.
А впрочем, если повторить за Лиззи ее вполне разумный вопрос, чего я хочу? И почему эти женщины на все реагируют так остро, так волнуются по пустякам? Почему вечно требуют объяснений, уточнений? Что и говорить, в ее письме есть и довольно-таки проницательные догадки, и приглушенная вспышка обиды от меня не ускользнула. Эти язвительные и не так чтобы совсем уж несправедливые упреки копились, наверно, долгое время. Может, мне и в самом деле нужна на неполный рабочий день этакая «старшая жена», нечто вроде бывшей наложницы в гареме, ставшей просто другом: она никуда не денется, с ней легко и привычно, и ничего от тебя не ждут, кроме дружеских чувств? (А изредка можно и побаловаться любовью. Да, такая гаремная ситуация мне подошла бы в самый раз.) И как у Лиззи не хватает ума понять? В моем письме не было ни слова о времени и пространстве, просто я подумал о ней, захотелось ее повидать. А она требует вразумительных ответов. «Поэкспериментировать»? Ну, а если и так? Знает ведь, как я ненавижу излияния, а все равно изливается. Ей, видите ли, подавай «все». Ну так всего она не получит. И точка.
К Гилберту я не ревную, но слегка ему завидую! Он-то всех перехитрил. Взял к себе простушку Лиззи на роль милой, ласковой экономки, причем очень сомнительно, чтобы при этом так-таки перестал «охотиться». Сознаюсь, на Лиззи я до сих пор смотрю как на свою собственность. Как-то она во мне застряла. Да, она права, любовь видна, как комбинация из-под платья, как я сказал ей когда-то, когда у нее выглядывала комбинация. (Надо же, как эти женщины запоминают каждое твое слово.) Я бывал к ней невнимателен, даже жесток, но это можно назвать доказательством любви, как невнимание — доказательством доверия. И я, между прочим, отлично помню историю с такси после того завтрака в честь Сидни. Я видел, что Лиззи нацелилась уехать со мной, но в последний момент нарочно предложил подвезти и Нелл Пикеринг. Нелл — новая опереточная дива, я флиртовал с ней в течение всего завтрака. Ей двадцать два года. (Я бы не прочь иметь ее в моем гареме.) Бедная Лиззи. Не пойму, с чего я вдруг написал ей это провокационное полушутливое письмо? Или это страх перед одиночеством, страх смерти явился ко мне из моря?
Раз уж речь зашла о Лиззи Шерер, можно порассказать о ней и еще. Я полюбил Лиззи, когда мне стало ясно, как она любит меня. Ее любовь тронула меня, потом привлекла — так бывает. Я тогда режиссировал шекспировский сезон. Она влюбилась в меня во время «Ромео и Джульетты», я понял это во время «Двенадцатой ночи», мы познакомились ближе во время «Сна в летнюю ночь». Потом (но это было позже) я полюбил ее во время «Бури», а еще позже бросил ее во время «Меры за меру» (когда герцога играл Алоизиус Булл). Как сейчас, помню тот день, когда до меня дошло, что она меня любит. Она играла Виолу (то был период ее недолгой славы, ее annus mirabilis). Уилфрид Даннинг, обычно игравший сэра Тоби Белча, пожелал тогда сыграть Мальволио. Настаивать ему не пришлось: я не стал возражать. Мальволио он был неподражаемый, но спектакль в целом погубил. Мы с Лиззи были одни в помещении церкви, там был ужасный сквозняк, но другого места для репетиций не нашлось. Был зимний вечер, освещение, почему-то запомнилось, — газовое. Лиззи добралась до четвертой сцены второго акта, а после слов «Она молчала о своей любви» вдруг запнулась, точно поперхнувшись, и умолкла. Сперва я решил, что это она сама придумала сделать здесь такую эффектную паузу, и ждал продолжения. А она смотрела на меня. Потом в глазах у нее заблестели большущие слезы. Поняв, в чем дело, я рассмеялся, никак не мог остановиться, а тут и Лиззи рассмеялась и долго беспомощно смеялась сквозь слезы. Золотая была девочка. Она и теперь такая.
Почему-то я всегда представляю себе Лиззи в мужском костюме. Вначале она обратила на себя внимание как мальчик-герой в провинциальных пантомимах. Она тогда была очень тоненькая, чем-то похожа на мальчика, расхаживала в высоких сапожках и очень коротко стриглась. Ее заветной мечтой, так и не сбывшейся, было сыграть Питера Пэна. Она вполне сносно (хоть и недолго) исполняла роли шекспировских травести. (Сидни впоследствии готовил с ней Розалинду.) Я сделал из нее обворожительную Виолу, но величайшим ее триумфом в тот исторический сезон был Пэк. (В «Ромео и Джульетте» она была дамой без слов. Кто играл Джульетту — не помню, знаю только, что была из рук вон плоха.) Меня трогала ее любовь, ее идеальное послушание, но я в то время был связан с Розиной, и Лиззи оставалась для меня прелестным полупризрачным ребенком-эльфом. При виде ее я всегда смеялся, и она смеялась в ответ. Мы пересмеивались из разных углов ресторанов и в самые неподходящие моменты на репетициях. В силе ее любви я мог не сомневаться, хотя она никогда, даже в тот первый раз, ни слова об этом не сказала. Я счел это признаком хорошего вкуса. Все то время, что мы готовили «Сон», ее сияющий взгляд был обращен на меня, ее воля касалась моей и трепетала. Она понимала и слушалась и, хотя (как сказала мне позже) знала про Розину, пребывала в какой-то блаженной муке, что, признаюсь, доставляло мне приятное чувство. Может быть, это чувство было предвестником той любви к ней, которая позже на меня нахлынула. А от Розины я к тому времени уже порядком устал. В той постановке «Сна» Оберона играл Алоиз Булл (очень неровный актер), играл грубовато, и я жалел, что сам не взял эту роль. Для Лиззи это был бы предел мечтаний. После того сезона я уехал в Америку, и была гнусная голливудская авантюра, и скандал с Фрицци Айтелем. Я, кажется, и в Голливуд-то уехал, чтобы спастись от Розины, во всяком случае, я от нее спасся. Розина думала, что я бросил ее ради Лиззи, но она ошибалась.
Когда я вернулся в Англию, внезапно наступила передышка, атмосфера воззращенной невинности и душевного мира. Было лето. С Клемент все шло гладко, она в то время развлекалась с одним из своих молодых остолопов. После гнусностей Калифорнии я чувствовал себя свободным и счастливым. Хотелось вернуться к Шекспиру после того дерьма, с которым я возился в Америке. Один «дикий» американский режиссер по имени Моммсен предложил мне сыграть Просперо. Ариэля играла Лиззи. Более одухотворенного, более «точного» Ариэля я в жизни не видел. Ее вдохновляла любовь ко мне, и я, поддавшись этим чарам, тоже полюбил ее. У меня было странное чувство, оно и теперь не прошло, что я люблю ее так, как мог бы любить сына. Она иногда называла себя моим пажом. У нее были хороший слух и приятный голосок, я до сих пор слышу, как она выводит «Отец твой спит на дне морском». Ну как, мой ловкий дух, ты все живешь? Помню, она как-то сыграла Керубино в любительской постановке «Фигаро», и этот свой крошечный успех ценила чуть ли не превыше всего. Черт, меня только что осенило: не иначе как Гилберт Опиан видит в ней мальчика!
Моя любовь к Лиззи была в каком-то смысле невинной. (Боже мой, в какие гнусные дрязги меня вовлекали и Рита, и Розина, и Жанна, и Дорис…) Невинность шла от Лиззи. Ее любовь была такая совестливая, такая умная. Она не пыталась, пользуясь своей властью, налагать на меня какие бы то ни было моральные обязательства. Читатель скажет: но обязательства-то были! Ну да, были, но какая-то высшая благодать, рожденная самоотверженностью Лиззи, словно упразднила их, и мы жили в безоблачном мире. Никогда она меня не упрекала. Можно подумать, она стремилась к тому, чтобы я не себя в долгу перед ней, а только использовал ее для собственного счастья. Вот так, выраженное словами, это звучит цинично. Но на деле с ее стороны это был величайший, смиреннейший такт, а с моей — самая бережная благодарность. Мы берегли, щадили друг друга.
Но в то же время это было, конечно, безжалостной пыткой. (Почему я записал это с таким удовольствием?) Я с самого начала сказал ей, что не намерен на ней жениться. И все же, может быть, ее бесконечную доброту ко мне питала дурацкая, слепая надежда? это некрасивая мысль: не было у нее надежды. Я говорил ей, что наша связь не навек, что моя любовь к ней не навек и ее любовь ко мне, несомненно, тоже. Я толковал о том, что все на свете смертно, о том, как хрупки и нереальны человеческие планы на будущее, какая неразбериха царит в человеческой психике, а ее большие светло-карие глаза говорили мне о вечном. Она говорила — тебя я хочу быть безупречной, чтобы ты мог покинуть меня без боли, а меня это безупречное проявление любви только злило. Она говорила — я буду ждать всю жизнь, хотя знаю… не жду… ничего. Это ли не любовный дуэт, и как я им упивался, хотя и мучился слегка ее муками! Сколько могла, она скрывала свою боль, но к концу это стало ей не под силу. Она плакала при мне с широко открытыми глазами, не утирая слез. Ее слезы дождем лились мне на рукав, на руку. И когда я наконец велел ей уйти, она ушла как тень, послушалась молча и быстро. После этого я совершил вторую поездку в Японию. Вкус саке до сих пор напоминает мне о слезах Лиззи.
С моим отъездом театральные успехи Лиззи кончились. (Все актрисы, которых я бросал, постепенно сходили на нет, кроме Розины. Клемент я, конечно, вообще не бросал, даже когда у нас обоих были другие любовники, что для последних было несладко.) Через два года после апофеоза Лиззи, после ее Ариэля, люди спрашивали: «А куда девалась Лиззи Шерер?» Я был ей так благодарен, из-за одного этого она во мне «застряла». Милая Лиззи, она ни разу не дала мне почувствовать, что я виноват! Свет мужества и правды озаряет ее в моей памяти. Возможно, она единственная женщина (за одним исключением), которая никогда мне не лгала. И мысль о ее муках не раз наполняла меня какой-то нежной радостью, в то время как о муках других женщин я думаю равнодушно, а то и с досадой.
Когда-то, когда я был молод, я хотел иметь жену, но та девушка исчезла. С тех пор я никогда не думал всерьез о браке. По моим наблюдениям, состояние это незавидное. Единственные счастливые женатые пары, которые я знаю, — это мои кембриджские друзья Виктор и Джулия Банстед, а в театре — Сидни и Розмэри Эш… Да и они… как знать. Люди скрытны. Можно бы причислить сюда еще Уилла и Аделаиду Боуз, но их брак не распался только потому, что она все время уступает — тоже, наверно, выход из положения. Мне же больше по сердцу драма расставаний, предвкушение новых встреч. Я не способен предпочесть пугающее постоянство брака магии свиданий и разлук. Меня и общая постель не привлекает, и мне редко хочется провести всю ночь с женщиной, с которой я спал. Утром она кажется мне шлюхой. Брак — это своего рода «промывка мозгов», приучающая нас мириться со многими ужасами. Как часто женатые люди, сами того не замечая, опускаются, делаются неряшливы, некрасивы, скучны. Порой я размышляю об этих ужасах, просто чтобы порадоваться тому, как счастливо я их избежал.
В этом отношении Клемент понимала меня прекрасно — может быть, потому, что, как она сама не уставала повторять, «годилась мне в матери». Сколько раз, вся светясь своей прославленной красотой и обаянием, которые ей удавалось сохранять так долго, она сражала меня этими словами! Мы знали, что никогда не поженимся, знали, что доставим друг другу немало страданий, и все-таки строили счастливые планы на будущее, вдвоем изощрялись над решением этой проблемы. Случай, конечно, был безнадежный, но каким-то чудом этого безнадежного случая хватило Клемент на весь остаток жизни: значит, я не так уж плохо обращался с этой поразительной, неуемной женщиной. Было ли немного жестоко с моей стороны не признаваться, как сильно я люблю ее, постоянно держать ее на иголках, сбивать ее с толку, озадачивать, ставить в невыгодное положение? Допускаю. Я боялся, как бы она меня не «проглотила». Я уходил, возвращался, уходил снова. Она тоже не оставалась одна. Ее всегда осаждали мужчины. Я ее особенно не ревновал — разве что одно время к Маркусу, — потому что связан был с нею так крепко, точно она (ей я этого не говорил) и впрямь была мне матерью. В последние годы она стала очень раздражительна и деспотична; и так трогательно все еще старалась мне угодить. Покончить с кокетством она не могла. Когда начались болезни, она очень подурнела, приходилось ей лгать по поводу ее внешности. От ее фигуры ничего не осталось, она ходила в вельветовых брюках и мешковатой кофте — ни дать ни взять старый холостяк, у которого вся одежда спереди в винных пятнах и крошках табака. И все-таки час в день она проводила перед зеркалом со своей косметикой. Наверно, это — последняя радость, с которой расстается женщина. Нет, о браке я никогда не думал. После той, первой, девушки все женщины казались мне суррогатом. А может быть, я просто равнялся на шекспировских героинь.
Пишу это после обеда. На обед у меня было яйцо-пашот в горячем омлете, потом окунь, тушенный с луком и капелькой порошка карри, а к нему — немножко кетчупа и горчицы. (Только глупцы презирают кетчуп.) Потом божественный рисовый пудинг. Приготовить отличный рисовый пудинг не так уж трудно, но многие ли это умеют? В честь окуня я выпил полбутылки мерсо. Вино у меня кончается.
Да, Лиззи. Она выдержала испытание временем. С другими я знавал более сильную страсть при меньшем комфорте: таинственные глубинные предпочтения одних человеческих особей другим, проворные щупальца, ищущие во мраке, беспричинная, но несомненная любовь к А и равнодушие к В. С Лиззи мне было легко, ее ласковые, умные насмешки давали мне ощущение свободы. Да, решающая проверка — насколько тебе нужно, чтобы человек всегда был рядом. Это — точная мера, это важнее, чем страсть, или восхищение, или «любовь». Уж не заботит ли меня, кто станет за мной ухаживать, когда придет старость и страх? В общем, хорошо, что ее письмо можно понять как прямой отказ. Никаких тревог, никаких решений. Пусть все идет как идет. Что касается этого ничтожества Гилберта — да пропади он пропадом. Немножко удивляет только, как трогательно Лиззи в него верит. Она права, я мог бы оказать на них обоих страшный нажим, но, конечно, не сделаю этого. Достаточно я, видимо, навредил уже тем, что напомнил бедной Лиззи о своем существовании.
— Мистер Аркрайт, вы знаете, что такое полтергейст?
Мистер Аркрайт выдерживает презрительную паузу, не спеша протирает стойку. Его молчание — отнюдь не признак неуверенности.
— Знаю, сэр. — В слове «сэр» не почтительность, а сарказм.
— А вы не слышали, в Шрафф-Эндс они водятся?
— Нет, сэр.
— Кто водится? Что он сказал? — спрашивает один из гостей.
— Полтергейст, — отвечает мистер Аркрайт. — Это такой:
Он не находит слов, и я объясняю:
— Это такое озорное привидение, которое любит все ломать и бить.
— Привидение? — Все многозначительно умолкают.
— Вы не слышали, в Шрафф-Энде бродят привидения?
— Они во всяком доме бродят, — заявляет кто-то.
— Там миссис Чорни бродит, — раздается другой голос. — Она и похожа-то была на: Сравнение ему не дается. Я меняю тему.
Мой вопрос к мистеру Аркрайту был продиктован не только гибелью моей безобразной вазы. Прошлой ночью случилось довольно-таки страшное происшествие. В шестом часу утра (как потом выяснилось' меня разбудил ужасающий грохот где-то внизу. Уже светало, но в прихожей и на лестнице всегда темно, и я зажег свечу. Сильно, не скрою, напуганный, я спустился в прихожую и увидел, что большое овальное зеркало упало на пол и разбилось вдребезги. Самое страшное то, что и проволока, на которой оно висело, не оборвалась, и гвоздь остался на своем месте в стене. Я был так потрясен и расстроен, что не стал подробно обследовать место происшествия, к тому же боялся, что погаснет свеча — из двери отчаянно дуло. Сегодня утром я как дурак вытащил гвоздь из стены и выкинул, не разглядев его толком. Конечно же, он постепенно отгибался книзу под тяжестью зеркала, и в конце концов проволока с него соскочила. Почему-то мне неохота в это вдумываться, и мне очень жаль зеркала. Рама не пострадала, в нее можно вставить новое стекло, но то, старое, так прекрасно и таинственно отливало серебром. После этой встряски я заснул не сразу и даже не погасил свечу. А когда наконец заснул, мне приснилось, что миссис Чорни появилась из двери в нише и спрашивает, что я делаю в ее доме. Она была похожа на…
Подыскивая за шоссе место для моего огородика, я набрел на кустики превосходной молодой крапивы. А сегодня утром мне посчастливилось купить в деревне свежих домашних лепешек. Какая-то местная благодетельница иногда приносит их в лавку на продажу. Она, говорят, и хлеб печет, я уже оставил заказ. На второй завтрак у меня были холодные ломтики бекона и яйца-пашот на крапиве (крапиву готовить как шпинат, я делаю из нее негустое пюре с чечевицей). После этого я услаждался лепешками с маслом и малиновым вареньем. Пил местный сидр и старался к нему привыкнуть. Винная проблема все еще маячит на горизонте.
Нашел в конуре еще несколько писем. Приходят они, видимо, нерегулярно, почтальона я еще ни разу не видел. От Лиззи ни слова. Приведу послание от моего кузена Джеймса, очень характерное.
«Дорогой Чарльз!
Я узнал, что ты приобрел дом на берегу моря. Означает ли это, что ты расстался с театром? Если так, то это должно быть для тебя облегчением — не нужно больше работать в спешке, вечно помнить о сроках. Во всяком случае, хочется думать, что в твоем приморском убежище ты вкушаешь заслуженный отдых, что нашлось где расставить и развесить твои сокровища и что есть у тебя хорошая кухня, где можешь разыгрывать твои кулинарно-мистические действа! Оставил ли ты за собой твою лондонскую квартиру? По чести говоря, я уже считал тебя неисправимым лондонцем, так что твое бегство меня удивило. Видно ли из твоих окон море? Море всегда возвышает дух, отрадно видеть горизонт как чистую линию. Я бы и сам не прочь глотнуть немножко озона. В Лондоне жарко невыносимо, и уличный шум как будто еще усиливается от жары. Может быть, физики могут объяснить это какой-то связью со звуковыми волнами? Ты, наверно, много купаешься? Помню, каким ты всегда был заядлым пловцом. Буду рад получить от тебя весточку, а если окажешься в Лондоне, неплохо бы встретиться и выпить. Надеюсь, ты уже совсем обжился на новом месте и в ладах со своим домом. Любопытно, откуда у него такое необычное название? Как всегда, с наилучшими пожеланиями.
Джеймс».
Письма Джеймса звучат слегка покровительственно, словно он старший брат, а не младший кузен. Иногда они даже бывают так по-родительски назидательны, что собственные дела и поступки начинают казаться детской игрой. И в то же время в этих письмах, которые я получаю регулярно два-три раза в год, за скучным педантством словно сквозит легкое безумие.
Пожалуй, сейчас самое время поговорить о моем кузене более подробно и откровенно. Не то чтобы он когда-нибудь играл в моей жизни важную роль, и в дальнейшем я этого не предвижу. Последние двадцать лет мы видимся все реже, а в самое последнее время и вовсе почти не встречались. Упоминание в его письме насчет того, чтобы «встретиться и выпить», — это, конечно, пустая дань вежливости. Я редко знакомил Джеймса с моими друзьями (о женщинах и говорить нечего), а он меня со своими, если они у него есть. (Интересно, от кого он узнал про мой «дом на берегу моря». Увы, скорее всего и это попало в газеты. Неужели пресса и здесь не оставит меня в покое?) Нет, кузен Джеймс никогда не был важным или активным фактором в повседневных событиях моей жизни. Роль его чисто психологическая.
Мы встречаемся редко, но когда встречаемся, ступаем на почву глубокую и древнюю. Оба мы — единственные дети, сыновья братьев-погодков (дядя Авель был чуть моложе моего отца), у которых не было ни других братьев, ни сестер. Мы нечасто предаемся воспоминаниям, однако воспоминания детства у нас общие, делиться ими нам большене с кем. Некоторые люди, даже если их ценишь, навсегда остаются зловещими свидетелями прошлого. Для меня такой свидетель — Джеймс. Неясно даже, симпатизируем ли мы друг другу. Узнай я сегодня, что Джеймс умер, я бы, возможно, счел эту новость приятной, но что это доказывает? Cousinage — dangereux voisinage[9] для нас имело совсем особое значение. Я заметил, что употребил прошедшее время; и правда, как подумаешь, в большой мере все это теперь дело прошлого, плохо только, что до глубин нашего сознания представление о времени вообще не доходит. С годами мне все легче становится не усматривать в образе Джеймса ничего опасного. Как-то раз один мой друг (это был Уилфрид), встретившись с ним у меня, сказал: «Похоже, твой кузен — человек, во всем изверившийся». Я словно прозрел, и у меня сразу отлегло от сердца.
В детстве я никак не мог решить, кто из нас настоящий, Джеймс или я. Почему-то было ясно, что оба мы не можем быть настоящими, один из нас должен жить в реальном мире, а другой — в мире теней. Джеймс всегда был до противности неуязвим. Что ж, так пошло с самого начала. Как я уже говорил, мне рано открылось (путем того психологического осмоса, к которому так склонны дети), что дядя Авель женился более «выгодно», чем мой отец, и что в таинственной, но непреложной житейской иерархии семейство Авеля Эрроуби занимает место выше семейства Адама Эрроуби. Моя мать ощущала это различие очень остро и в глубине своей религиозной души наверняка старалась не придавать ему значения. (Говоря о тете Эстелле, она как-то по-особенному выделяла слова «богатая наследница».) Отец, я уверен, действительно не придавал бы этому значения, если бы не я. Помню, он как-то сказал таким странным, чуть ли не виноватым тоном: «Очень мне жаль, что я не могу подарить тебе такого пони, как у Джеймса…» В ту минуту я любил его так неистово и в то же время чувствовал (сколько мне тогда было — десять лет, двенадцать?), что не способен выразить мою любовь, что он, может быть, и не знает про нее и не догадывается. Знал он или нет?
По части материальных благ жизнь наших семей, безусловно, сложилась неодинаково. Джеймс был гордым обладателем вышеупомянутого пони, а затем и еще целого ряда лошадей, и весь уклад его жизни выражался для меня в словах «собственные лошади». И сколько же мучений я претерпел от этих проклятых лошадей! Когда я бывал в Рамсденсе, Джеймс иногда предлагал мне прокатиться, а дядя Авель (тоже заядлый наездник) готов был поучить меня верховой езде. Но как ни страстно я об этом мечтал, я всегда отказывался — из гордости, с деланным равнодушием; и по сей день я ни разу не садился на лошадь. Более важным предметом зависти, если и не столь жгучей, были путешествия на континент. Дядя Авель ездил с женой и сыном за границу почти на каждые каникулы. Они объездили всю Европу. (У нас, конечно, машины не было!) Они побывали в Америке у родных тети Эстеллы, о которых я нарочно не расспрашивал. Я не выезжал из Англии до поездки в Париж с Клемент после войны. Я завидовал не только их лошадям и машинам, но и их предприимчивости. Дядя Авель был выдумщиком, искателем приключений, изобретателем, даже гедонистом — не то что мой милый, добрый отец. Дядя и тетя ни разу не брали меня с собой в свои сказочные путешествия. Лишь много позже мне пришло в голову, и эта мысль вонзилась мне в мозг, как заноза (кажется, она до сих пор где-то там сидит), что они не приглашали меня, потому что этого не хотел Джеймс!
Как я уже сказал, такое положение дел заботило моего отца только из-за меня. И меня оно заботило из-за меня, но, кроме того, совершенно независимо, из-за него тоже. Мне было обидно за него. За него я огорчался так, как он, при своем великодушном и мягком характере, за себя не огорчался. И я чувствовал, даже ребенком, что тем самым отстаю от него в нравственном отношении. У меня был хороший дом, любящие родители, но я не мог не жаждать тех благ, которые, равняясь на отца, в то же время и презирал. Я не мог не взирать на дядю Авеля и тетю Эстеллу как на существа высшие, почти богоподобные, по сравнению с которыми мои родители казались незначительными и скучными. При таком сравнении я не мог не видеть в них неудачников. И в то же время я знал, что мой отец — человек положительный и достойный, а дядя Авель, всегда такой эффектный, — самый заурядный, законченный эгоист. Я, разумеется, не хочу сказать, что мой дядя был нахалом или хамом, отнюдь нет. Он любил свою красавицу жену и, насколько я знаю, не изменял ей. Был, как мне известно, ласковым и требовательным отцом. Я ни минуты не сомневаюсь, что работал он добросовестно и в денежных делах был безупречно честен — словом, «примерный гражданин». Но это был самый обыкновенный эгоцентрик и сенсуалист, самый обыкновенный удачливый делец. А мой отец, пусть никто, кроме моей матери и меня, этого не знал, был совсем не таким, он был особенным.
И вопреки всему этому я только что не боготворил дядю Авеля и танцевал вокруг него, как собачонка. Во всяком случае, в детстве. Позже, из-за Джеймса, я держался с чуть большим достоинством. Бывало ли моему отцу больно от того, что дядя Авель казался мне таким живописным? Возможно. Сейчас эта мысль наполняет меня пронзительной грустью. Он не дорожил мирскими благами, но, может быть, втайне жалел, опять-таки ради меня, что начисто лишен внешнего блеска. Мать, возможно, догадывалась об этих его сожалениях (а может, с ней он ими делился), и не этим ли объясняется та раздражительность, которую она не всегда умела скрыть при упоминании о дядиной семье, а в особенности после того, как они побывают у нас в гостях. Они, надо сказать, навещали нас нечасто; им становилось не по себе, когда моя мать, чувствуя, что не может их принять так, как того требует их богатство и положение, начинала извиняться за наш более чем скромный образ жизни. Жили мы, к слову сказать, в районе, где одиночество сочеталось с невозможностью укрыться от чужих глаз. В каменный, окруженный деревьями Рамсденс я обычно отправлялся один, потому что для моей матери было пыткой находиться под кровлей зятя, а для отца было пыткой находиться под чьей-либо кровлей, кроме своей.
А теперь, упомянув о матери, я должен кое-что рассказать о тете Эстелле. Как я уже сказал, она была американкой, но из каких именно мест — не помню и, вероятно, никогда не знал. Америка в те времена была для меня чем-то очень большим и туманным. Где они познакомились с дядей — тоже не знаю. В тете Эстелле воплотилось для меня некое общее представление об Америке: свобода, веселье, шум. Там, где была тетя Эстелла, там были смех, джаз и (о ужас!) вино. И опять я рискую быть неправильно понятым. Ведь речь идет о ребяческих бреднях. Тетя Эстелла не злоупотребляла спиртным, а ее «выходки» — не более как избыток энергии: здоровье, молодость, красота, деньги. В ней было бессознательное великодушие женщины, которой решительно во всем повезло. Меня, когда я был маленьким, она экспансивно ласкала и привечала.
Моя мать, человек отнюдь не экспансивный, относилась к этим (возможно, наигранным) излияниям холодно, но меня они пленяли. У тети Эстеллы был приятный голосок, она любила напевать песенки времен Первой мировой войны и последние модные шлягеры («Розы Пикардии», «Тихо по тюльпанам», «Так печально», «С Дженни в тумане в аэроплане» и прочую классику в том же роде). Помню, однажды в Рамсденсе, когда она зашла ко мне вечером проститься, она мне спела песенку про то, что «одному при луне сидеть на плетне совсем неинтересно». Меня эта песенка рассмешила, и, вернувшись домой, я попробовал позабавить ею родителей, что, конечно, было ошибкой. («Скучно сидеть под зеленой сосной в обнимку с самим собой».) Тете Эстелле я, вероятно, обязан тем, что поющий человеческий голос всегда глубоко, почти пугающе волнует меня. Странно и жутко выглядят на сцене открытые рты певцов и особенно певиц — блестящие белые зубы, влажная красная пасть. В общем, тетя Эстелла была для меня фигурой символической, сверхсовременной, даже футуристической, как вещий зов в мое собственное будущее. Она обитала в стране, которую я был твердо намерен найти и завоевать. Примерно так оно и случилось, но когда я стал в той стране королем, ее уже не было в живых, и странно думать, что мы, в сущности, не знали друг друга, никогда с ней серьезно не разговаривали. Как легко нам было бы в последующие годы забыть о разнице в возрасте и с каким удовольствием мы могли бы общаться! Я изредка упоминал о ней в разговорах с Клемент, и та говорила, что из всей моей родни только с ней была бы рада познакомиться. (Родители мои, разумеется, никогда не видели Клемент — им было бы очень тяжело узнать, что я открыто живу с женщиной вдвое меня старше; а с тетей Эстеллой я мог бы ее познакомить.) Когда тетя Эстелла погибла в автомобильной катастрофе, мне было шестнадцать лет и горевал я меньше, чем можно было ожидать. У меня в то время были другие заботы. Но грустно думать, что, хотя она, на свой рассеянный лад, была ко мне так добра, для нее я, вероятно, остался всего лишь неловким, неотесанным, неприметным кузеном Джеймса. А для меня она была чудом, знамением. Третьего дня, разбирая в Шрафф-Энде всякие мелочи, я нашел ее снимок. Снимков моей матери не нашлось ни одного.
Нельзя сказать, чтобы моя мать строго судила тетю Эстеллу или очень уж не одобряла ее поведения, хотя от спиртного и шума ее всю передергивало; и не то чтобы она завидовала: ведь ей не нужны были те мирские блага, что составляли усладу тети Эстеллы. Нет, самое ее существование глубоко удручало мою мать, а ее посещения, как я уже упоминал, вызывали мрачную раздражительность. Возможно, дядя и тетя считали, что меня воспитывают слишком строго. Глядя со стороны и видя запреты, но не видя любви, эти запреты диктующей, люди склонны слишком поспешно зачислять других людей в разряд «узников». Я вполне допускаю, что умный дядя Авель и эмансипированная тетя Эстелла жалели моего отца и меня и осуждали мою мать за то, что считали с ее стороны деспотизмом. Если мать догадывалась о таком их отношении, ей, конечно, это было обидно; и возможно даже, что эта обида толкала ее на то, чтобы быть с нами еще строже. Возможно и то, что, прозревая мои ребяческие фантазии об Америке, которую в моих глазах воплощала собой тетя Эстелла, она ревновала. Много позже я спросил себя, уж не воображала ли она, что мой отец был неравнодушен к своей неугомонной невестке? Но нет, я уверен, что он не питал к тете Эстелле никаких глубоких чувств, и мать это знала. (До чего эгоистично все это звучит, точно вся жизнь родителей только вокруг меня и вертелась. Но ведь так оно и было.) Со временем я перестал предвкушать посещения тети Эстеллы (хотя радовался им по-прежнему), потому что они так удручали и сердили мою мать. Эти визиты всегда наносили нашему дому какой-то ущерб, от которого он не сразу мог оправиться. Мы выходили проводить их на крыльцо, и когда «роллс-ройс» наконец скрывался из виду мать сжимала губы, отвечала односложно, а мы с отцом на цыпочках и старались не встречаться глазами.
В школе мне было хорошо, но там не было ни закадычных дружб, ни волнующих происшествий, не было и горячо любимых учителей, хотя некоторые из них, например тот же мистер Макдауэл, имели на меня влияние. Дядя и тетя маячили как огромные романтические образы как точки приложения смутных чувств на фоне в общем-то до странности пустого детства. Но они оставались далекими, словно в дымке, словно в тумане, — отчасти, конечно, потому, что мною интересовались только между прочим. Я никогда не чувствовал, что они по-настоящему меня видят или хотя бы пытаются разглядеть. С Джеймсом все было иначе. С самых ранних лет мы с ним без слов, но постоянно, остро и подозрительно ощущали существование друг друга. Мы наблюдали друг за другом, инстинктивно скрывая это взаимное внимание от родителей. Не могу сказать, что мы боялись друг друга: боялся я, и не столько Джеймса, сколько чего-то, что стояло за ним. (То было, надо полагать, мое еще неясное представление о собственной жизни как неудаче, как полном провале.) Но наши отношения были словно окутаны облаком неуюта и тревоги. И все это, конечно, без звука: мы никогда не говорили об этой скованности, нас разделявшей; возможно, мы бы и не нашли для этого слов. И едва ли наши родители об этом догадывались. Даже мой отец, знавший, что я завидую Джеймсу, об этом и понятия не имел.
Повторяю, я не чувствовал себя с Джеймсом свободно отчасти из страха, что он преуспеет в жизни, а я нет. Это, вдобавок к лошадям, было бы уже слишком. Невозможно сказать, в какой мере моя «воля к власти» была порождена глубоко скрытым давнишним желанием в чем-то превзойти Джеймса и поразить его воображение. Не думаю, чтобы Джеймс тоже стремился меня превзойти, а может быть, он знал, что ему для этого и стараться не нужно. Все преимущества были на его стороне. Он получил куда лучшее образование (о чем я не мог думать без скрежета зубовного). Я ходил в местную классическую школу (добропорядочную и скучную, ныне уже не существующую), Джеймса отдали в Винчестер. (Впрочем, там были свои недостатки. В него они въелись прочно. Говорят, мало кому удается от них избавиться.) Я сам себе дал вполне приличное образование, а главное — я приобщился к Шекспиру. Но Джеймс, как мне тогда казалось, учился решительно всему. Он знал латынь, греческий и несколько новых языков. Я немного знал французский, еще меньше — латынь. Он много знал о живописи, регулярно посещал музеи Европы и Америки. Он мог порассказать о разных странах. Он был среди первых по математике, получал призы по истории. Он писал стихи, и их печатали в школьном журнале. Он блистал; и хотя вовсе не был хвастлив, я, когда бывал с ним, все острее ощущал себя провинциалом и варваром. Я чувствовал, что пропасть между нами ширится, и из этой пропасти, в которую я все пристальней всматривался, на меня глядело отчаяние. Было ясно, что моему кузену написан на роду успех, а мне — поражение. Интересно, насколько все это понимал мой отец?
Перечитал эти страницы и опять чувствую, что создаю неверное впечатление. Автобиография, какой же это, оказывается, трудный жанр! Обида, неистовое честолюбие, которое Джеймс (совершенно, я уверен, бессознательно) пробудил во мне, — все это росло постепенно и бушевало с перерывами. В раннем детстве, да и позднее, мы с Джеймсом играли, как самые обыкновенные мальчишки. У меня было мало товарищей — мать не любила, чтобы у нас бывали другие дети. (Я не жаловался — я сам не очень-то любил других детей.) А Джеймс, если у него и были товарищи, не знакомил их со мной. И мы играли вдвоем, но при этом далеко не всегда так болезненно следили друг за другом, как можно заключить из рассказанного выше. Но и в обычных играх превосходство Джеймса обнаруживалось без всяких усилий с его стороны. Он больше моего знал о цветах и птицах, ловко лазил на деревья. (Совсем маленьким он, помню, всерьез собирался научиться летать!) Он прекрасно ориентировался без дорог. Каким-то шестым чувством обнаруживал нужные места и вещи. Всегда первым находил закатившийся мяч; а однажды мгновенно отыскал мой старый игрушечный самолетик, стоило мне сказать, что я потерял его.
Пока я огорчал своих родителей, изучая театральное искусство в Лондоне, Джеймс был примерным студентом в Оксфорде, где занимался в основном историей. В эту пору мы совсем разошлись; я не жаждал узнавать о новых и новых его триумфах, отказывался интересоваться его планами. Каковы бы ни были эти планы, они не осуществились, потому что началась война. Он вступил в полк каких-то там стрелков, позже их прозвали Зеленые куртки, и с тех пор на всю жизнь стал военным, хотя в то время едва ли это предвидел. Сейчас мне и думать о нем трудно иначе, как о военном. Войну он провел весьма интересно (пока я разъезжал в автобусах с шекспировскими спектаклями для шахтеров). В какой-то момент я узнал, что он в Индии, в Дехрадуне. У меня были свои проблемы, главным образом первая любовь и ее последствия, а затем первые стычки в долгой войне с Клемент. О приключениях Джеймса я узнал в общих чертах позднее. Он совершил несколько восхождений в горы. Заинтересовался Тибетом, изучил тибетский язык и периодически исчезал верхом за линией границы. (Вот когда ему, наверное, пригодилась домашняя выучка.) Затем его послали с какой-то миссией или миссиями к какому-то тибетскому правителю — что-то связанное с германскими военнопленными. Времяпрепровождение это было захватывающее, но в боях он, сколько я знаю, не участвовал. Я все опасался, что он вот-вот получит крест Виктории. Но что он храбрый человек в том смысле, в каком про меня этого не скажешь, — в этом я никогда не сомневался.
Мои родители очень удивились, узнав после войны, что Джеймс решил стать кадровым военным. Они говорили, что дядя Авель разочарован этим решением. Дядя Авель мысленно видел Джеймса премьер-министром. (Это было уже после смерти тети Эстеллы.) А я вроде бы даже приободрился — мне показалось, что Джеймс сделал неправильный ход. Я тогда начинал утверждаться в театре, моя «воля к власти» уже приносила кое-какие плоды, и Клемент была в моей жизни как нескончаемый карнавал. Так, значит, кузен Джеймс будет военным. Дядя Авель говорил, что это временно, что Джеймсу просто хочется иметь побольше свободного времени и писать стихи. Моя мать говорила, что дядя Авель высосал это из пальца. Никто из нас как будто и не вспомнил, что армия тоже, и притом с незапамятных времен, служит дорогой к власти и славе. Сразу после войны, когда происходили трогательные встречи ее уцелевших участников, я довольно часто видался с Джеймсом, но потом он опять исчез. Он только и делал, что исчезал. Вернулся из Индии и получил назначение в Германию. Потом снова был в Англии, учился в штабном колледже, потом снова Индия. Позже один человек сказал мне, что он был послан в Тибет с секретным поручением — разведать, что предпринимают в этом районе русские. Мне он, конечно, ни слова не говорил о своей работе. Его маршруты я себе более или менее представлял, потому что он регулярно, два раза в год, присылал мне открытки с видами — к Рождеству и ко дню рождения. Я не оказывал ему таких знаков внимания, но если получал письмо, то всегда отвечал, хоть и кратко. Его письма, по большей части скучные, не содержали никаких интересных сведений. В следующий раз он появился в Лондоне сразу после китайского вторжения в Тибет. Ни до того, ни после я не видел его в таком волнении. Было ясно, что для него это личная трагедия. Он с горечью клеймил недомыслие тех, кто не понял, что настоящая угроза исходит не от России, а от Китая. Но больше всего огорчало его не то, что в верхах пренебрегли разумными советами (возможно, его собственными), а то, что рушится нечто очень ему дорогое. Он скоро подавил чувство и никогда больше со мной этой темы не затрагивал.
Следующую открытку я получил из Сингапура, а в следующем письме, тоже из Сингапура, он выражал соболезнование по поводу смерти моего отца. (Как он о ней узнал?) После этого я потерял Джеймса из виду, потому что на какое-то время потерял из виду все и вся, свет погас в моей жизни. Я оплакивал отца долго и горестно. Боль от утраты этого доброго, прекрасного человека не прошла до сих пор. И, словно этого было мало, посыпались новые беды. Я ушел от Клемент, запутался в связях с другими женщинами; и профессиональная моя карьера пошла прахом, как казалось тогда — окончательно. Вскоре после этого умерла моя мать, и я воспринял ее смерть не как отдельное событие, а лишь как неотвратимое дополнение к смерти отца. А еще немного позже умер дядя Авель. Я к тому времени уже давно перестал им восхищаться, перестал даже думать о нем. Помню, что собирался написать Джеймсу, но так и не написал. Помню и то, что только тут впервые задумался, каково было Джеймсу, совсем еще юному, когда умерла его изумительная мать. Меня-то участь тети Эстеллы не так уж потрясла, мне хватало своих горестей. А что должен был пережить Джеймс, об этом я не подумал.
Я упомянул об одном человеке (следовало сразу его назвать, его зовут Тоби Элсмир), от которого слышал о секретных миссиях Джеймса в Тибет. Этот человек, ничем вообще-то не примечательный, изредка сообщал мне кое-какие сведения о моем кузене. Они вместе учились в школе и служили в Зеленых куртках. Элсмир стал биржевым маклером, потом издателем, вкладывал деньги в театральные предприятия, на этой почве мы с ним и познакомились. Немного спустя после моей полосы невезения мы встретились на вечере по случаю какой-то премьеры, и Элсмир сказал: «Вам, вероятно, известно, что ваш кузен стал буддистом?» Эта новость поразила меня и заинтриговала безмерно. Я никогда не связывал Джеймса с религией. Нас обоих растили в понятиях туманного английского христианства, которое уже в юности выветривается. Моя мать, надо отдать ей должное, не навязывала ни отцу, ни мне своих узкоевангелических верований. Возможно, полагала, что это грешно. Однако она априори считала нас христианами. Мы ходили в англиканскую церковь. С Джеймсом мы, конечно, никогда не говорили о религии. Доведись мне задуматься над этим в молодости, я, вероятно, сказал бы, что руководящий этический принцип в жизни Джеймса — не быть вульгарным. Религия как стиль поведения? Что ж, бывает и хуже. Вот уж не думал, что он способен увлечься мистикой экзотического Востока. Очень, очень странно.
Удивлялся я, впрочем, недолго. В конце концов, как это можно понять? Не мог же Джеймс уверовать в переселение душ. Следующая наша встреча состоялась, уже когда в нашей жизни наступила, можно сказать, новая эра. Смерть моего отца, мой период профессионального отчаяния, мои злоключения в Голливуде — все это было позади. С Клемент я помирился. (Мы вместе ездили в Японию.) Я успел прославиться, поистине стал королем в стране тети Эстеллы. Я спросил Джеймса: «Так ты, говорят, буддист?» Он ответил с улыбкой: «А как же!» — и тон его мог означать либо «Да», либо «Что за чушь!». Я заговорил о другом. С годами он все больше времени стал проводить в Лондоне, работал в министерстве обороны, и сейчас там работает. Его квартира в Пимлико битком набита Буддами, но она же битком набита всяким восточным хламом, в том числе, надо думать, и индуистским.
Джеймс теперь, конечно, генерал. Не помню, какой именно. На своем поприще он, думаю, тоже прославился. А тайное ощущение, что я «выиграл игру», происходит от того, что он, по-моему, изверился в жизни, а я нет.
— Там человек в одну секунду утопнет.
— В три секунды.
— В одну.
— В три.
Образчик дискуссий в «Черном льве». Завсегдатаи словно воспринимают как личную обиду, что я купаюсь в море, которым они гордятся как потенциальным убийцей.
Рассуждения в таком духе — разумеется, обращенные не ко мне, — начинаются, как только я появляюсь в трактире.
Я вступаю в разговор:
— Я хорошо плаваю.
— Вот такие-то и топнут.
— Голяком плаваете, — добавляет кто-то.
— Голяком?
— Плаваете, говорю, голяком.
— А-а, без трусов.
Значит, за мной наблюдают.
Они смотрят на меня молча, с тупой неприязнью.
— Тюленей еще не видали? — бодро спрашивает мистер Аркрайт.
— Пока нет.
Нынче утром, наведавшись к башне, я с сожалением обнаружил, что моя «веревка» из занавески тоже каким-то образом отвязалась и исчезла. Я все же выкупался. Кажется, мускулы у меня окрепли и вылезать на берег я наловчился. Но при этом всегда умудряюсь исцарапаться или порезаться. Желтые скалы, издали такие гладкие, на самом деле шершавые и колючие, словно обклеены миллионами крошечных острых осколков от ракушек. Вчера я нырял со своего утеса во время прилива и выбрался благополучно, хотя легкая тревога и подпортила мне удовольствие. Но я не уроню себя в глазах «Черного льва», не дождутся они, чтобы я пошел на «дамское купанье»!