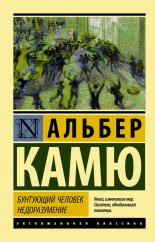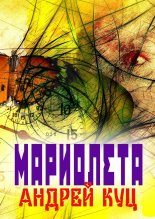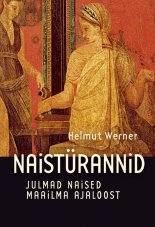Море, море Мердок Айрис
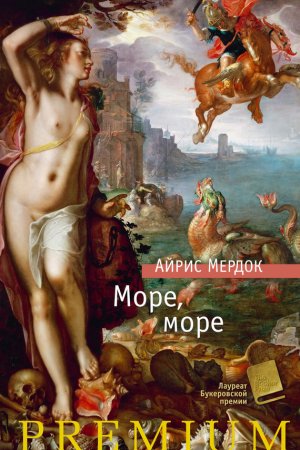
А еще я думал о Хартли на велосипеде, вспоминал ее чистое правдивое лицо, каким оно тогда было, такое похожее и такое непохожее на теперешнее, измученное и старое, которое страдало и грешило все те долгие годы, что я обретался где-то с Клемент, с Розиной, с Жанной, с Фрицци. «Зачем, о мой прелестный друг, меня ты гонишь с глаз долой, ведь я всегда тебя любил, всю жизнь хотел прожить с тобой…» С годами я придавал все больше значения моей вере в Хартли. А между тем всегда ли я поклонялся этой иконе? Молодые тоже безжалостны, хотят выжить во что бы то ни стало. Потеряв всякую надежду на ее возвращение, всякую надежду найти ее, я какое-то время жил своей обидой, тешил себя злобным: «Ушла — ну и пусть!» И теперь из глубоких гротов памяти всплыл один разговор о ней с Клемент. Да, Клемент я рассказал про Хартли. И Клемент тогда сказала: «А теперь, мой мальчик, убери ее в шкаф с игрушками». Боже мой, я услышал сильный, звучный голос Клемент так явственно, будто она произнесла эти слова сейчас, в темной кухне. Я на время и правда убрал Хартли подальше. И никогда больше не говорил о ней с Клемент. Это было бы признаком дурного тона, а дурного тона Клемент не прощала. Клемент, возможно, и забыла о ней, но я-то не забыл, и Хартли лежала в моем сердце как семя и снова проросла в своей первозданной чистоте.
Я только теперь понял, как много вложил в этот образ от себя, но все же не могу ощутить его как вымысел. Скорее, это особая правда, некий пробный камень, словно моя мысль овеществилась и в то же время стала правдой. А ложь — то чувство обиды, то злое «Ушла — ну и пусть!». Моя странная, почти сумасшедшая верность в конце концов сама себе явилась наградой. С течением лет я разгладил морщины на лбу Хартли, снял пелену с ее чудесных глаз, и мучительно двоящийся образ стал кротким источником света.
Но что же произошло теперь? Перед глазами вставала жуткая сцена чаепития в «Ниблетсе» — сандвичи с огурцом, и лепешки, и глазированный торт, и Бен с Хартли, такие чистенькие и благополучные. (Помахав мне на прощание, Бен вполне мог вернуться в гостиную и отрезать себе большой кусок торта!) Вся картина дышала неправдоподобным покоем, как картины ранних голландцев — счастливые супруги в хорошеньком домике и при них собачка. Они «уплотнились» в моей памяти, как искусство уплотняет модели, придает им больше гладкости и округлости, чем в жизни, делает более осязательными. Никогда еще я не видел их такими здоровыми, нормальными, солидными. Почему? Что породило этот их спокойный, довольный вид? Страшный ответ гласил: смерть Титуса. Я вспомнил, что говорила Хартли в тот вечер, когда прибежала ко мне и рассказала, как она несчастна, и вселила в меня надежду спасти ее, — тот вечер, который я назвал «доказательством». Она говорила, что сломлена, как будто внутри у нее все рассыпалось, потому что годами она была вынуждена держать сторону Бена против Титуса. И я еще подумал тогда, что она такое — страдалица, искупитель или просто полутруп? «Все было сломано, как будто стоять на ногах еще можешь, а внутри сломано, и кости и суставы, и ты уже не человек». Не исключено, что эти страшные годы и в самом деле разрушили ее любовь к Титусу. Слишком много она из-за него перестрадала. Я вспоминал ее слова: «Иногда мне казалось, что он нас ненавидит… иногда я чуть не желаю, чтобы он умер». Груз вины был так тяжек, что не мог не вылиться постепенно в глубокое чувство обиды. Титус, этот злосчастный младенец, которого она сама так искала и принесла в свой дом, загубил ее брак, загубил ее жизнь. Но теперь он сам оказался искупителем, он исчез и унес с собой ее вину. Укоров совести не стало. Бен почувствует тайное облегчение, и еще более тайно она примкнет к нему — тайно, инстинктивно, слепо разделит его облегчение. Теперь, когда убийство совершилось, обоим станет легче. Теперь чувство вины затихнет. Выходит, что смерть Титуса была предопределена, и выходит в конечном счете, что Бен действительно убил его.
Разумеется, то были шальные, пьяные мысли, но я не мог не думать, что был прав, усмотрев в их приятии этой смерти не только непонятную резиньяцию, но и непонятное облегчение. И разумеется, пытаясь вписать это в общую картину их жизни, я сознавал, что втайне пытаюсь уменьшить собственную вину и раскаяние. Как тщимся мы любыми средствами, любыми доводами заслонить ужас смерти и утраты, словно сама судьба, нанеся нам удар, требует, чтобы мы ее оправдали.
И бегство в Австралию можно теперь обдумывать с чистой совестью. Как могла Хартли согласиться уехать из Англии, пока Титус был рядом? А она согласилась? Может быть, и нет. Может быть, потому это и казалось ей «сном»? В своих последних, невинных разговорах с Титусом она, безусловно, ни словом не обмолвилась об австралийской затее. Она ведь и мне ничего о ней не сказала. Теперь я воспринимал это как доброе предзнаменование. Она мне не сказала, потому что склонялась к мысли остаться здесь.
Титус как-то назвал ее фантазеркой. Чем больше я думал, тем сильнее убеждался, что во всем, что она мне говорила, была изрядная доля лжи. Сломленная душевно, как сломанная кость, которая никогда не срастется, сломленная Беном и Титусом, она заплуталась, забыла, в какой стороне правда. Так что же осталось от моего идеала? Самое удивительное, что свет не померк, что сама Хартли продолжает озарять Хартли. Я способен все это вместить, какова бы она ни была, я люблю ее, и только ее. Не моя вина, что у меня в жизни было всего одно место, где научиться безупречной любви, и всего один наставник. Так иные люди могут, сами того не зная, годами служить источником света в жизни других людей, в то время как их собственная жизнь идет другими, скрытыми от глаз путями. И точно так же человек может стать (я вспомнил слова Перегрина) демоном, раковой опухолью для кого-то, кого он едва помнит, а может быть, и вообще не знал лично.
Но даже если предположить, что такая любовь должна разочароваться в своем предмете, может ли она разочароваться в нем? Бывает, что даже смерти не удается победить любовь, хотя любить мертвых не так легко, как мы думаем. Но победить любовь можно более изощренными способами. Неужели я навсегда потеряю Хартли, оттого что какое-нибудь предательство с ее стороны обратит-таки мою любовь в ненависть? Способен ли я увидеть ее как существо холодное, бессердечное, коварное, как ведьму, колдунью? Невозможность этого я ощущал как достижение, почти как обладание. Правильно сказал Джеймс: «Даже зуб собаки излучает нездешний свет для тех, кто ему искренне поклоняется». Моя любовь к Хартли стала чуть ли не самоцелью. Как она ни крутись, что бы ни случилось, ей уже не уйти от меня.
Размышления мои не всегда удерживались на столь высоком уровне. Мимолетная мысль о Розине опять привела мне на память Бена, такого сытого, самодовольного, как сказал бы Фрицци Айтель — «глазки блестят, и хвост распушил». Была ли причиной этого только трагическая смерть, с которой смирились, усмотрев в ней путь к свободе, только видение оперного театра, отраженного в волнах? Где провела Розина ночь перед тем безобразным днем, когда мы отвезли Хартли домой? Помнится, Гилберт сказал, что слышал в доме женский голос, когда доставил туда мое письмо. Розина перед тем заявила, что собирается «утешить» Бена. Это могло быть всего лишь злобной шуткой. Но с другой стороны, Розина capable de tout![32] Если между Беном и Розиной «что-то было», этим можно объяснить не только его до странности самодовольный вид, но и его более либеральное отношение к Хартли, ведь он сам предложил пригласить меня и, мало того, разрешил нам целую минуту поговорить на крыльце. Может быть, Розина сослужила Хартли хорошую службу: либо благодаря ей у Бена у самого теперь рыльце в пушку, либо он понял, насколько его нелепая старая жена лучше, чем разудалая стерва-актерка. Мысли эти, как их ни поворачивай, оставляли невкусный осадок. Но в плане пошленького любопытства они порой служили передышкой от изматывающих «высших» соображений.
А однажды мне пришло в голову, что Розина, возможно, и сейчас еще живет в отеле «Ворон» и я могу просто пойти туда и спросить у нее самой; даже если она мне соврет, кое-что я все же узнаю.
Мне, конечно, не хотелось отлучаться из дому, поскольку я с минуты на минуту ждал Хартли или «знака» от нее, но я решил пойти на риск и оставил на двери записку: «X., подожди, скоро вернусь». В отель я не позвонил заранее, чтобы оставить за собой преимущество внезапности. Если позвонить, Розина успеет сочинить какую-нибудь небылицу. И еще я жаждал хотя бы крошечного утешения — увидеть, как она обрадуется, неожиданно увидев меня. Ибо, что греха таить, от Розины мне были нужны не только сведения касательно моей проблемы, но и немножко того тепла, которое может дать человеку расположенная к нему женщина, хотя бы и стерва. И самая прогулка, и цель ее сулили какое-то развлечение, какое-то дело в период, когда только ждать и думать уже становилось тяжко. Если Хартли не подаст знака, я скоро опять начну действовать. А пока позондировать Розину может даже оказаться полезным.
День был облачный, теплый, в Вороновой бухте ветерок сдувал с гребешков невысоких волн клочья белой пены. Темно-синее море было чем-то встревожено, даже летом эта холодная северная синева порой таит в себе зимнюю угрозу. И небо глядело по-зимнему — бледно-голубые просветы между плотных, очень белых, быстро бегущих облаков. Солнечный свет загорался и гас, пока я шагал знакомой дорогой, и огромные круглые валуны на берегу вспыхивали во всем разнообразии своих каменных очертаний, испещренные тенями, старыми пятнами от водорослей и блестками желтого лишайника, а когда набегало облако, снова тускнели.
В отеле я не бывал с того дня, когда меня не пустили в ресторан, потому что я был без галстука. В окна удобного, со вкусом обставленного вестибюля светило солнце, и я ощутил, как здесь чисто, прибрано и уютно после грязи и запустения Шрафф-Энда, где у меня уже рука не подымалась наводить красоту. Кресла были обиты ярким кретоном, в огромной вазе красовались фуксии, кипрей, полевая буддлея и розовый просвирник, какого много растет среди скал. Умеренно надменный лакей подошел спросить, что мне нужно. На мне были грязные бумажные брюки, слегка подвернутые, и синяя рубашка навыпуск, но утром это могло и не вызвать возражений даже перед лицом кретоновых кресел.
Я сказал:
— Извините, пожалуйста, что, мисс Вэмборо еще живет здесь?
Он глянул на меня как-то странно и ответил:
— Мистер и миссис Арбелоу в салоне, сэр.
Боже милостивый! Я пошел к указанной им двери. В просторном салоне с широким видом на бухту было пусто, только у окна спиной ко мне сидели мужчина и женщина. При моем появлении они оглянулись.
— Чарльз!
— Смотри-ка, наш любимый комик! Чарльз, старина, мы только что о тебе говорили, верно, Роз? Два лица, обращенные ко мне, светились веселым лукавством.
— Привет, — сказал я. — Приятно видеть вас снова вместе. Разрешите предложить вам выпить?
— Нет, нет, — заорал Перегрин, — выпивку ставим мы. Официант! Будьте добры, бутылку шампанского, того, что мы пили вчера, и три бокала.
— Ты побывал в Лондоне или прямо сюда приехал? — спросил я Перегрина.
— Нет, я сюда только заехал выпить с горя, а тут оказалась эта косоглазая ведьма.
— И вы упали друг другу в объятия?
— Не сразу, — сказала Розина. — Для начала мы чуть не подрались. Перегрин был настроен воинственно. Главным образом, сколько я понимаю, из-за ветрового стекла.
— Ветровое стекло меня доконало, — сказал Перегрин, — но это надо понимать символически… Благодарю вас, милейший…
— Давайте я открою! — вскричала Розина. — Обожаю откупоривать шампанское. — Пробка хлопнула, золотая влага запенилась. — Чарльз, за тебя!
— Спасибо. За ваше здоровье, мистер и миссис Арбелоу!
— Нам самим еще как-то не верится, — сказала Розина. — Мы счастливы. По крайней мере я. А ты счастлив, Перегрин?
— Это непривычное самочувствие я безошибочно определяю как счастье. Чарльз, будь здоров. Твой страшноватый военный родич все еще здесь?
— Нет, уехал.
Значит, ты прозябаешь с неизменно тебе преданной Лиззи?
— Нет, она тоже уехала.
— В полном одиночестве? — сказала Розина. — А бородатая дама?
— О, они уезжают. Да и вообще я отказался от поисков Бородатой Дамы. Это была кратковременная психическая аберрация.
— Таково было и общее мнение, — сказал Перегрин. — Поздравляем.
— Вы теперь домой, в Лондон?
— Завтра. Хоть здесь и чудесно и кормят лучше некуда. У меня дела на телевидении. Может, подвезти тебя?
— Нет, спасибо. Так вы в самом деле опять заключили союз?
— Да, — сказала Розина. — Все встало на свои места. Мы так и не научились обходиться друг без друга, а теперь уже не придется. Вот как все оказалось просто. А знаешь, Чарльз, когда я вдруг прозрела?
— Когда?
— Когда узнала, что Перегрин тебя убил!
— Попытался убить, — уточнил Перегрин. — Мне пристало быть скромным.
— Что же в этом было такого располагающего? — спросил я.
— Да не знаю, но это было здорово. В сущности, ты заслужил, чтобы тебя убили. За то, что ты сделал с нами, если не за что другое.
— Не будем об этом говорить, — сказал я.
— О, не бойся, мы не собираемся припоминать тебе все твои грехи. Зачем портить себе настроение. Но Перегрин молодец, здорово он столкнул тебя в воду. Мне всегда было противно думать, что он тебя простил. Жаль только, что ты не утонул, это было бы эффектнее.
— Я, между прочим, не понимаю, как ты не утонул, — сказал Перегрин.
— Это был великолепный образчик вполне уместного насилия. Я люблю жестоких мужчин, пусть он жестокий, но откровенный, честный. А ты, Чарльз, ужасный мошенник, но в основе-то мягкотелый. Непонятно, что я в тебе нашла. Скорее всего людей пленял в тебе не личный магнетизм, а твоя же мания величия. Самомнение, вот ты нас чем охмурял. Как мужчина ты тряпка, теперь-то я это вижу.
— Мне нравится быть мягким и уютным, как плюшевый мишка. Но скажите, вы правда решили опять пожениться? Неужели и на это готовы пойти? Не ты ли говорил, Перегрин, что брак — это ад, промывка мозгов?
— Не в тех случаях, когда женишься вторично на той же женщине. Это я всем рекомендую.
— А как же Памела?
— Ты разве не знаешь? Пам ушла к Маркусу Хенти. Он заделался фермером. Жизнь помещицы — это как раз то, что нужно Памеле.
— Вот я и подумала, надо перехватить Перегрина, пока он не начал подъезжать к Анджи.
— Ух ты черт, — сказал Перегрин, и оба захохотали как сумасшедшие. Большое морщинистое лицо Перегрина покраснело от солнца и от шампанского; Розина в своей любимой позе пристроилась на подлокотнике его кресла, болтая длинными голыми ногами, высоко подобрав белое платье. Она наклонилась над ним, провела носом по его волосам. Оба подмигнули мне, потом строго посмотрели друг на друга и опять покатились со смеху.
— Надеюсь, что у Фрицци найдется для Перегрина роль в «Одиссее», — сказал я. — Он мог бы сыграть старую собаку.
— О, это отменяется, — сказала Розина.
— Фрицци передумал?
— Нет, я передумала.
— Мы едем в Ирландию, — сказал Перегрин.
— В Ирландию?!
— Да, в Лондондерри. Хватит с нас театрального Вест-Энда. Мы понесем искусство театра в народ.
— Ну и ну!
— Не издевайся, Чарльз, мы хотим положить начало великому…
— Значит, ты, Розина, отказалась от роли Калипсо?
— Да.
— Вот когда ты меня действительно сразила.
— Положить начало великому движению, — сказал Перегрин. — Мы сами будем писать пьесы и ставить их местными силами. Ирландцы — прирожденные актеры, и театрик там имеется премиленький, от обстрела пострадал только самую малость.
— Я не издеваюсь, — сказал я. — По-моему, оба вы смелые люди, желаю вам всяческих успехов. Нет, шампанского больше не хочу, спасибо, я и так от него опьянел.
— Чарльз никогда не умел пить, — заявил Перегрин, наливая себе еще бокал.
— Надеюсь, я перестал быть для тебя демоном? — спросил я его.
— Да. Демона я убил, когда столкнул тебя в море. По правде-то, я рад, что ты уцелел. Все хорошо, что хорошо кончается.
— Так-то когда оно кончается? Ну, мне пора. Спасибо за шампанское.
— Я провожу тебя, — сказала Розина.
Она выбежала в вестибюль, я простился с Перегрином и пошел за ней.
Белое платье Розины оказалось бесформенным подобием одеяния жрицы, сшитым из очень легкой ткани, оно вздымалось вокруг нее как крылья. Она вытянула руки, прихлопнула его к телу, а потом закуталась в него. Мы вышли на воздух и постояли на солнце, на каменной бровке дороги. Розина была босиком.
— Так ты думаешь, у вас с Перегрином получится?
— Почему бы и нет? Между вами никогда ничего не стояло, кроме ревности.
— Ревность — это немало. И никто от нее не свободен.
— Что ж, где ревность, там и любовь. Перегрин из-за тебя просто с ума сходил, потом женился на этой Пам в пику мне. А я не могла ему простить его пассивности, когда ты меня увел. Я всегда хотела, чтобы он за меня боролся.
— Комплекс Елены Троянской. Не такая уж редкость.
— И когда я узнала, что он убил тебя…
— Он этим похвалялся?
— А как же.
— Ну что ж, желаю удачи. Скажи, Розина, в тот день, когда ты сказала, что хочешь навестить Бена, ты к нему поехала?
Розина бросила на меня зоркий косящий взгляд и плотнее запахнулась в свою белую мантию.
— Да.
— Ну и что?
— Ну и ничего. Состоялся содержательный разговор.
— Это уже не совсем ничего. О чем?
— Чарльз, ты задаешь слишком много вопросов. И норовишь получить что-то не платя, это тебе всегда было свойственно. Но одно могу тебе сказать с уверенностью, твоя бородатая дама — счастливая женщина. Как мужчина он в высшей степени привлекателен.
— Да ну его… — Я махнул рукой и отвернулся. Я много бы дал за магнитофонную запись этого «содержательного разговора» (если таковой в самом деле состоялся). И тут я впервые спросил себя: неужели Хартли и Бена толкнуло на брак чисто физическое влечение?
— Чарльз, подожди! — Розина бегом догнала меня, шлепая босыми ногами по траве, распустив свое белое одеяние.
Я остановился.
— Чарльз, дорогой, скажи мне, я хочу знать. Сегодня, когда ты сюда шел, ты хотел предложить себя мне?
— Слишком много вопросов задаешь, — сказал я и пошел дальше.
Вслед мне донесся ее веселый смех. Что она отказалась от такой роли в фильме, это-то не фантазия. Это реально.
В тот вечер облака сгустились, солнце спряталось и пошел дождь. Сумасбродная английская погода, до сих пор не без успеха подражавшая июню, теперь решила изобразить март. Холодный ветер с моря швырял дождевые струи, как пригоршни камешков, в окна, обращенные к берегу. Дом полнился странными звуками, стонами, скрипами, и занавеска из бус то и дело разражалась дробным тревожным постукиванием. Я стал искать ирландский свитер и наконец нашел его среди одеял и подушек, все еще не убранных с пола в книжной комнате. Попробовал затопить в красной комнате камин, но в доме дрова кончились, а возле дома намокли. Поев чечевичного супа, я не запил его красным вином и спать лег рано, с грелкой.
Наутро еще моросило, но ветер стих и стало теплее. Густой, промозглый перламутрово-серый туман окутал дом, даже конца дамбы не было видно. Я вынес к шоссе помойное ведро (давно пора было им заняться) и постоял, прислушиваясь. Вокруг меня, скрытая туманом, стояла огромная тишина. В дом я вернулся мокрый от тумана и дождика и угостил себя обильным завтраком из каши со сгущенными сливками и сахарным песком, яиц-пашот, печенья с медом (хлеб кончился) и нескольких чашек горячего чаю. Позже, когда я уже сидел в кресле, накрыв колени пледом, я нащупал в кармане какой-то предмет, который мои пальцы не сумели «прочесть». Я извлек его, он оказался заколкой Хартли, которую я сунул в карман в тот вечер, когда она ко мне прибежала. Я поглядел на эту никчемную вещичку, пытаясь усмотреть в ней знамение, но она только пробудила во мне умиление и печаль, и я убрал ее в ящик в красной комнате.
Потом опять накрылся пледом и стал обдумывать положение.
Была одна утешительная мысль, которая снова и снова посещала меня, когда я пытался представить себе ход мыслей Хартли: возможно, она решила отложить бегство до последней минуты. Пусть Бен уезжает в Австралию, это его желание, его идея. Возможно, она отделается от него раз и навсегда, если улизнет перед самым отплытием — спрыгнет, как Лорд Джим, прямо ко мне в шлюпку. Бен к этому времени уже будет чувствовать себя без пяти минут в Австралии и скорее всего решит: ну и шут с ней! Гипотеза неглупая и правдоподобная. Но я не мог всецело положиться на нее и ничего не предпринять заранее — как я решусь на такое долгое бездействие, не имея твердого заверения от Хартли?
Я решил, что могу позволить Хартли еще два-три дня поразмышлять над моим письмом. Меня радовало, что письмо у нее, и я представлял себе, как оно, подобно неотвязному бесенку, усердно гонит ее мысли в нужную мне сторону. Я помнил, что у меня хватило ума дать ей мой номер телефона. Со столярными курсами Бен, надо полагать, распростился, но отлучаться из дому ему все равно приходится — в связи с билетами, визами, деньгами; и даже если он берет Хартли с собой, не может он уследить за каждым ее шагом. Она, несомненно, может улучить минуту и позвонить. Потребуется всего несколько слов: «Жди, скоро приду». Раза два звук этих воображаемых слов помог мне преодолеть отчаяние, и оттого, что телефон мог позвонить в любую минуту, легче было вытерпеть тот недолгий срок пустого ожидания, который я себе предписал.
Ну, а если ничего не случится… а срок пройдет?.. Тогда, конечно, я должен буду повидать Хартли каким-то способом, который еще предстоит изобрести, пусть даже это повлечет за собой объяснение с Беном. Довольно играть в прятки. Перспектива этого объяснения наполняла меня смешанным чувством страха и приятного возбуждения: вот он, последний барьер, если я его опрокину, приз мне обеспечен. Однако самая процедура «опрокидывания» отнюдь мне не улыбалась. В лучшем случае я буду вынужден применить силу при самообороне. Бен по натуре более меня склонен к насилию, что дает ему значительное психологическое преимущество. Ему, наверно, нравится избивать людей. Он моложе меня, коренастый и сильный, но начал полнеть и сейчас не в лучшей форме, а я подвижен и ловок. Театр требует, чтобы человек всегда был в спортивной форме, и я всю жизнь неукоснительно считался с этим требованием.
Для целей самообороны я стал подыскивать в Шрафф-Энде подходящее тупое орудие. Ведь, если подумать, не Хартли, а Бен — вот кто в любой момент может ко мне заявиться. Мысль убить Бена не до конца выветрилась у меня из головы. Наперекор разуму и более спокойным размышлениям она оставила глубокий след, подобный следу в памяти, только относился он не к прошлому, а к будущему. Это был некий «след намерения», нечто, существующее в сознании человека, наделенного способностью «помнить будущее», как мы помним прошлое. Я понимаю, что звучит это бессмысленно, но то, что я ощущал, не было ни осознанным намерением, ни предчувствием, ни даже прогнозом. Всего лишь некий психологический шрам, с которым я не мог не считаться. Я еще не строил четких планов. Решающая сцена, как она мне смутно рисовалась, включала элемент законной самозащиты. И я стал подыскивать какое-нибудь тупое орудие.
Был поздний вечер следующего дня после моей встречи с Перри и Розиной. Немного раньше мне вдруг очень захотелось прогуляться в отель «Ворон» и по примеру Перегрина выпить с горя. Появилась потребность увидеть обыкновенных людей, живущих обыкновенной человеческой жизнью, в которой бывают отпуска, свадебные путешествия, ссоры, поломки машин и трудности с закладными. Но я боялся, что супруги Арбелоу отложили свой отъезд, а новое свидание с этой парой в ближайшее время меня не прельщало. Позже, когда-нибудь, я, может быть, съезжу в Лондондерри взглянуть на облюбованный ими театрик, но и это маловероятно. Идти в «Черный лев» я не хотел, потому что он слишком близко от Хартли и потому что опасался неприязненного любопытства посетителей, и потому что рисковал встретить там Фредди Аркрайта. К тому же нельзя было отлучаться от телефона. Поиски оружия — это хоть какое-то занятие.
Миссис Чорни оставила много всякого хлама на чердаке, там я порылся еще при дневном свете, но безрезультатно. За ванной я нашел толстую железную палку вроде лома, но она была слишком тяжелая и слишком длинная, в карман плаща ее не сунешь. Свои собственные инструменты я, конечно, перебрал, но их оказалось ничтожно мало: было несколько отверток, но ни одной стамески, а молоточек только невесомый, «дамский». Теперь, в вечерних сумерках, я с помощью свечки обследовал некое пространство под кухонной раковиной, куда, как видно, складывали всякое ненужное добро. Среди сырого гниющего дерева и целой колонии мокриц я нащупал какой-то тяжелый кусок металла, который оказался головкой от молотка. Стержень, или рукоятка, или как там называется деревянная ручка, на которой головка держится, лежал отдельно, я положил то и другое на стол.
За окном уже почти совсем стемнело, последние остатки света, какие еще могли задержаться в небе, поглотил туман, больше похожий на спустившееся сверху облако. Моросил дождь, и, хотя ветер был не сильный, весь дом словно двигался — вздрагивал, трясся, дергался и ходил ходуном, как деревянный корабль. Дребезжали оконные стекла, щелкали бусы занавески, постукивала парадная дверь и что-то вибрировало тоненьким, жестяного тембра, голоском, как мне удалось установить — проволока звонка, проведенного в кухню. И еще меня поразил звук, идущий снаружи, с моря, — протяжный прерывистый рев, похожий на рев пароходной сирены в тумане. До сих пор я ни разу не слышал такой сирены в нашем до странности пустынном море; возможно, какое-то судно сбилось с курса и вот-вот с оглушительным грохотом наскочит на мои скалы. Сирена, если то была она, примолкла, и тогда я различил другой звук: гулкие всплески, с которыми волны то устремляются в Миннов Котел, то снова из него убегают. Я поставил свечу на стол между головкой молотка и деревянной ручкой — сейчас, разделенные свечой, они выглядят как ритуальные аксессуары какого-то неведомого культа. Я вслушивался в громкие, гулкие взрывы из Миннова Котла, и сила их словно проникла в мое тело, обернулась сильным, бьющимся сердцем, уподобилась громкому биению моего собственного сердца, а потом — грозному, все убыстряющемуся стуку трещоток из японского театра.
Мне стало очень не по себе, и я решил запереть кухонную дверь. Я шагнул к ней, спиной к свече, смутно различил в окно свою лужайку. И вдруг в испуге застыл на месте: за дверью, между домом и скалами, кто-то стоял. В следующую секунду я уже знал, что это Джеймс. Вместо того чтобы отворить дверь, я повернулся, взял свечу и пошел в переднюю за керосиновой лампой. Я зажег ее, задул свечу и принес лампу в кухню. Джеймс, войдя туда в полной темноте, сидел за столом. Я поставил лампу, подкрутил фитиль и сказал: «А, это ты», — словно до этого не видел его или ожидал увидеть кого-то другого.
— Ничего, что я к тебе заглянул?
— Ничего.
Я сел и стал двигать по столу молоток. Джеймс встал, снял закапанный дождем пиджак, стряхнул его, повесил на спинку стула, отвернул манжеты рубашки и опять сел, облокотившись о стол и глядя на меня. — Что это ты делаешь?
— Чиню молоток. — Дело в том, что головка легко надевалась на ручку, но сидела неплотно, готовая соскочить при первом же ударе.
— Головка плохо держится, — сказал Джеймс.
— Это я заметил.
— Тут нужен клинышек.
— Клинышек?
— Загони туда щепку, чтоб держала.
Я нашел щепку (в доме их почему-то полно), пристроил ее в отверстие головки и, придерживая пальцем, вогнал в отверстие ручку. Потом помахал молотком. Головка сидела как впаянная.
— Зачем он тебе? — спросил Джеймс.
— Убить черного таракана.
— Ты же любишь черных тараканов, во всяком случае любил, когда мы были мальчишками.
Я встал, достал литровую бутылку испанского красного вина и, откупорив, поставил на стол вместе с двумя стаканами. В кухне было холодно, я зажег газ.
— Как весело нам бывало, — сказал Джеймс.
— Когда?
— Когда мы были мальчишками.
Я не помнил, чтобы мне когда-либо бывало с Джеймсом особенно весело. Я разлил вино, и мы посидели молча.
Джеймс, не глядя на меня, чертил на столе пальцем какие-то узоры. Возможно, ему было неловко; и от мысли, что он чувствует себя в непривычном положении просителя, мне самому стало неловко. Но выручать его я был не в настроении. Молчание длилось. Ни дать ни взять молитвенное собрание квакеров.
Вдруг Джеймс сказал:
— Ты слышишь море?
— Шекспир, любимая цитата Китса. — Я прислушался. Удары и взрывы прекратились, их сменили свистящие вздохи, это большие волны одна за другой деловито взбирались на скалы и, омочив их, откатывались. Ветер, видимо, усилился. — Да.
Снова помолчав, Джеймс спросил:
— Поесть у тебя найдется?
— Вегетарианское рагу с растительным белком.
— Вот и хорошо, яйца мне надоели.
Мы еще посидели, прихлебывая вино. Джеймс подлил в свой стакан воды, я тоже. Потом я встал, чтобы разогреть рагу. (Я открыл банку еще утром, но оно долго не портится.) И тут мне подумалось, что механизм, который я так искусно сконструировал, чтобы навсегда отделить себя от Джеймса, работает не очень-то исправно.
— Хлеба?
— Да, пожалуйста.
— О черт, хлеба-то нет, только печенье.
— Ничего, давай печенье. Мы принялись за рагу.
— Ты когда приедешь в Лондон? — спросил Джеймс.
— Не знаю.
— Как Хартли?
— Что Хартли?
— Есть новости, планы? — Нет.
— Видел ее?
— Пил чай у них в доме.
— И как было?
— Вежливо. Вина еще хочешь?
— Спасибо.
Я боялся, что Джеймс и дальше будет изводить меня вопросами, но нет, интерес его, видимо, иссяк. Теперь он заговорил, как бы обобщая:
— Мне кажется, ты почти выкарабкался. Ты построил клетку и поместил Хартли посреди нее, в пустом пространстве. А вокруг нее располагаются все твои сильные чувства: тщеславие, ревность, зависть, жажда мести, любовь к собственной молодости. Они не сосредоточены на ней, они до нее не дотягиваются. Кажется, что она у них в плену, а на самом деле ты не причиняешь ей никакого вреда. Для тебя она образ, идол, подобие, ты заклинаешь духов. Скоро ты увидишь в ней злую волшебницу. И тогда тебе останется только простить ее, и ты окажешься на это способен.
— Благодарствую, но я, понимаешь ли, люблю не ее подобие, а ее, включая самое в ней ужасное.
— То, что она предпочла его тебе? был бы настоящий подвиг.
— Нет, разрушительную силу, кровожадность, все, что у нее на уме.
— А что у нее на уме? Возможно, забыть тебя ей не давало чувство вины. Когда ты освободил ее от этого чувства, она была благодарна, но тогда уже в ней самой проснулись обида, воспоминания о том, как ей бывало с тобой скучно, а после этого пришло равнодушие. Сыра нет?
— Джеймс, ты решительно ничего в этом не понимаешь. Я не отступился, да и не выкарабкался, как ты изволил выразиться.
— Тебе, возможно, на роду написано жить одному и быть для всех дядюшкой, словно ты священник, давший обет безбрачия. Доживать жизнь можно и хуже. Сыр у тебя есть?
— Надеюсь, до конца жизни мне еще далеко. Да, сыр у меня есть. — Я достал сыр и открыл следующую бутылку.
— Между прочим, — сказал Джеймс, — ты, надеюсь, поверил тому, что я тебе сказал насчет Лиззи?
Я налил ему и себе.
— Могу поверить, что инициатива была ее, а ты был вынужден поступить по-джентльменски.
С минуту Джеймс задумчиво хмурился. Скорее всего обдумывал, не пуститься ли снова в подробности насчет того, как редко они виделись, и так далее.
Я решил, что это не важно. Я ему верил.
— Не важно, — сказал я. — Я тебе верю.
— Мне жаль, что это случилось, — произнес он, не столько прося извинения, сколько констатируя факт.
— Да ладно, хватит об этом.
Джеймс опять принялся чертить узоры на столе, и мне опять стало неловко. Я спросил с наигранной бодростью:
— Ты расскажи о себе, как твои дела?
— Я уезжаю.
— Ах да, ты ведь говорил, что тебе предстоит путешествие. Может быть, туда, где есть горы, и есть снег, и демоны прячутся в шкатулках?
— Как знать? Ты любишь море. Я люблю горы.
— Море чистое. Горы высокие. Я, кажется, пьян.
— Не такое уж море чистое, — сказал Джеймс. — Ты знаешь, что дельфины иногда совершают самоубийство, выбрасываются на берег, замученные паразитами?
— Напрасно ты мне это сказал. Дельфины такие симпатичные твари. Значит, и у них есть свои демоны. Что ж, счастливого пути. Дай мне знать, когда вернешься.
— Непременно.
— Не могу я понять твоего отношения к Тибету.
— К Тибету?
— Да, представь себе! Ведь это была всего лишь примитивная средневековая тирания, вся пропитанная суевериями.
— Конечно, это была примитивная средневековая тирания, пропитанная суевериями. Кто с этим спорит?
— Да выходит, что ты. Ты смотришь на Тибет как на потерянный буддистский рай. — Никогда раньше я не решился бы сказать Джеймсу такое. Наверно, это вино подействовало.
— Я не смотрю на него как на потерянный буддистский рай. Тибетский буддизм во многих отношениях изжил себя. Нет, то была изумительная человеческая реликвия, последняя живая связь с древним миром, необычайная, нетронутая страна, в которой религия и фольклор слились воедино. И все это разрушено умышленно, безжалостно, без разбору. Такое быстрое, бездумное разрушение прошлого всегда достойно сожаления, какие бы преимущества из него ни проистекли в дальнейшем.
— Значит, ты рассуждаешь, как любитель старины? Джеймс пожал плечами. Он разглядывал ночных бабочек, слетевшихся на огонь лампы.
— У тебя тут замечательные бабочки. Такого бражника я уже сто лет не видел. Ой-ой-ой, досталось ей, бедняжке. Можно, я закрою окно? — Он ловко поймал двух бабочек, выбросил их наружу вместе с трупиком их красивой подружки и закрыл окно. Я заметил, что дождь перестал и воздух прояснился. Туман разогнало ветром.
— Но тогда, значит, тебе просто интересно было изучать суеверия? — спросил я. Я чувствовал, что в этот вечер, несмотря на все наши неловкости, мой кузен более, чем когда-либо, мне приоткрылся.
— А что такое в конечном счете суеверие? — сказал он, подливая вина в оба стакана. — И что такое религия? Где кончается одно и начинается другое? Как ответить на этот вопрос применительно к христианству?
— Но я имею в виду, что ты только изучал… а сам не… — Что я имел в виду? Я никак не мог сформулировать свой вопрос.
— Ты, разумеется, прав, — сказал Джеймс (он под действием вина стал как будто только разговорчивее), — что все время пользуешься словом «суеверие», это очень существенно. Я спросил, где кончается одно и начинается другое. Думаю, что в сущности-то всякая религия есть суеверие. Религия — это сила, иначе и быть не может, она, например, помогает человеку изменить себя, даже убить себя. Но в этом и ее проклятие. Применение силы — опасная игра. Кратчайший путь — единственно верный, но он очень крут.
— Мне кажется, что религиозные люди чувствуют себя слабыми и поклоняются чему-то сильному.
— Это им только кажется. Преклоняющийся наделяет предмет своего поклонения реальной, не воображаемой силой, в этом суть онтологического доказательства, одной из самых двусмысленных теорий, до какой додумались умные люди. Но эта сила — страшная вещь. Наш бог создается из наших страстей и привязанностей. И когда одна из привязанностей отпадает, на смену ей, в утешение нам, приходит другая. Мы никогда целиком не отказываемся от какой-нибудь радости, мы только обмениваем ее на другую. Всякая духовность вырождается в магию, а магия автоматически влечет за собой возмездие, даже если сознание очищается от грубых мирских привычек. Белая магия — это черная магия. И неумелое вторжение в чей-то духовный мир может породить чудовищ для других людей. Демоны, использованные для добра, могут остаться при нас и впоследствии натворить много бед. Конечное достижение — это полный отказ от самой магии, конец того, что ты зовешь суеверием. Но как это происходит? Добро, отказавшись от силы, действует на мир отрицательно. Хороших людей даже вообразить невозможно.
Вероятно, Джеймс все-таки был пьян. Я сказал:
— Половины того, что ты наговорил, я не понимаю. Может быть, я всего лишь старомодный экс-христианин, но мне всегда казалось, что добро связано с любовью к людям, а это разве не привязанность?
— Да, конечно, — сказал Джеймс, но как-то слишком легко, — конечно… — Он подлил себе вина. Мы успели открыть еще одну бутылку.
— В этом отказе от привязанностей мне чудится не спасение и не свобода. Мне в нем чудится смерть.
— Что ж, Сократ сказал, что мы должны упражняться в умирании…
Это уже прозвучало как неуместная шутка.
— Но сам-то ты, — продолжал я, чтобы не дать ему увильнуть, я хотел свести всю эту метафизику с небес на землю, а также удовлетворить свое любопытство, раз уж он оказался в разговорчивом настроении, — сам-то ты любишь кого-то, и это естественно, хотя одному Богу ведомо, кто эти люди, ты ведь все скрываешь. Ты не познакомил меня ни с кем из твоих восточных друзей.
— Они у меня не бывают.
— Неправда. Я ведь видел у тебя в задней комнате этого тощенького, с бородкой.
— Ах, этот, — сказал Джеймс. — Это был просто тульпа.
— Надо полагать, рядовой представитель какого-то племени? Кстати, раз уж речь зашла о тульпа, кто был этот шерпа, про которого Тоби Элсмир сказал, что он так тебе приглянулся? Тот, что погиб в горах.