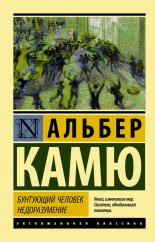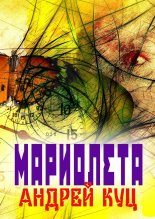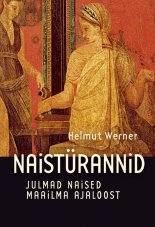Море, море Мердок Айрис
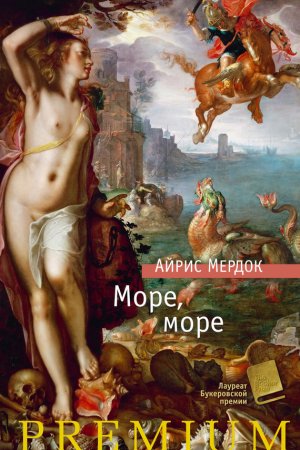
Джеймс не ответил, и я уже подумал было, что хватил через край, однако не прервал молчания. Море еще шумело, но не так громко.
— Да, — протянул Джеймс, — да… — И опять умолк, но было ясно, что он готов что-то рассказать, и я ждал.
— Не такая уж это интересная история, — начал он не очень-то обнадеживающе, — и рассказать ее можно в двух словах. Ты ведь знаешь, что, по верованиям некоторых буддистов, всякая земная привязанность, если она длится до смерти, приковывает человека к Колесу и не дает ему достигнуть свободы.
— Ах да, это Колесо…
— Колесо духовной причинности. Но это так, между прочим.
— Я помню, я как-то спросил тебя, веришь ли ты в переселение душ, и ты ответил…
— Этого шерпу, — сказал Джеймс, — звали Миларепа. Это было не настоящее его имя, я его так назвал в честь… в честь одного поэта, которого очень ценю. Он был моим слугой. Нам нужно было отправиться в одно путешествие. Дело было зимой, высокие перевалы засыпаны снегом, предприятие в общем-то невыполнимое.
— Это было военное задание?
— Один такой перевал нам нужно было пройти. Тебе ведь известно, что в Индии, в Тибете и вообще в тех местах можно научиться кое-каким фокусам, им почти все могут научиться, был бы хороший учитель и хватило бы старания.
— Фокусы?
— Ну да, знаешь, как индийский фокус с веревкой.
— Ах, ты про такие фокусы?
— Какие это «такие»? Повторяю, им могут выучиться самые разные люди, и они бывают очень утомительны, но они не имеют ничего общего с…
— С чем?
— Один из этих фокусов состоит в том, чтобы с помощью душевного напряжения повысить температуру собственного тела.
— Как же это делается?
— В пустынной, первобытной стране это бывает очень полезно, так же как умение прошагать сорок восемь часов, делая по пять миль в час, без еды, без питья и без отдыха.
— Этого-то никто не сумеет.
— И не озябнуть зимой в пути — такое умение, конечно, может очень пригодиться.
— Как добрый царь Венцеслав![33]
— Мне нужно было пройти этим перевалом, и я решил взять с собой Миларепу. Нам предстояла ночевка в снегу. Я мог и не брать его. Но я понадеялся, что смогу выработать достаточно тепла, чтобы нам обоим не замерзнуть.
— Постой, постой, ты хочешь сказать, что ты тоже умеешь вырабатывать тепло с помощью душевного напряжения?
— Я же сказал тебе, что это фокус, — раздраженно ответил Джеймс. — Это не имеет ничего общего с чем-либо серьезным вроде добра или…
— Ну, а дальше?
— Мы поднялись на перевал, а там попали в пургу. Я думал, обойдется. Но не обошлось. На двоих тепла не хватило. Ночью Миларепа умер, умер у меня в объятиях.
Я смог сказать только: «Ну и ну!..» В голове у меня мутилось, я совсем опьянел, и страшно хотелось спать. Голос Джеймса теперь доносился словно откуда-то издали. «Он мне верил… Это мое тщеславие его убило… Расплата за ошибку неизбежна… Они используют любую лазейку… Я ослабил свою власть над ним… Я сдал… Колесо справедливо…»
Тем временем голова моя склонилась на стол и я мирно погружался в сон.
Я проснулся, когда брезжил день. Солнце еще не вставало, ясный серый свет зари заливал кухню, стол в пятнах от вина, грязные тарелки, раскрошенный сыр. Ветер стих, и море молчало. Джеймса не было.
Я вскочил, окликая его, выбежал на лужайку. Бегом, не переставая звать, вернулся в дом и через переднюю, через парадную дверь выскочил на дамбу. В безмолвном сером свете открылись скалы, дорога и Джеймс, садящийся в свою машину. Хлопнула дверца. Я крикнул, замахал руками. Джеймс увидел меня и опустил стекло, он помахал мне, но мотор уже работал и машина тронулась.
— Дай знать, когда вернешься!
— Хорошо, до свидания!
Он бодро помахал рукой, «бентли» умчался, и звук его замер за поворотом. Я медленно повернул к дому.
Я шел по дамбе, только сейчас ощутив, что меня шатает и страшно болит голова — не мудрено, поскольку мы с Джеймсом, как я впоследствии выяснил, усидели без малого пять литровых бутылок вина. И перед глазами быстро скользили наискось черные точки. Я добрался до кухни и опять сел за стол, подперев голову руками. Тщательно обдумал, где добыть стакан воды и аспирина, потом встал, нашел то и другое, снова сел и задремал. Взошло солнце.
Когда я снова проснулся, голова у меня повисла и отчаянно болела шея. Я вспомнил, что мне снился странный сон, будто я насмерть замерз в пургу. Потом вспомнил, что Джеймс рассказал мне диковинную историю про путешествие в Тибете. И еще всякие непонятные вещи, которые он говорил. Я поднялся и чуть не упал, так закружилась голова, кое-как одолел лестницу, лег на кровать и впал в забытье. Позже я проснулся, не уверенный, утро сейчас или вечер, голова кружилась не так сильно, но мозг не работал. Я спустился в кухню, поел сыра и опять лег в постель.
После этого все окончательно спуталось. Почти весь тот день я, очевидно, провел в постели. Помню, как проснулся среди ночи и светила луна. Утром я спустился вниз рано и вдруг решил (а может, эта мысль пришла мне еще ночью), что, поскольку я перестал купаться в море, пора принять ванну. Таскать горячую воду наверх, в ванную комнату, мне не улыбалось. Зато на этот раз мне удалось вытащить из-под лестницы старую сидячую ванну миссис Чорни, и я поставил на плиту кастрюли нагреть воды. Еще не закончив этой работы, я почувствовал острую боль в груди и страшную слабость. Я махнул рукой на затею с ванной, вскипятил чай, но есть не мог. Меня подташнивало, я решил опять лечь. Надо бы проверить, не поднялась ли температура, но градусника не было. Кровать моя вела себя как матросский гамак в бурном море. Проплывали туманные многоцветные не то мысли, не то видения, я не мог бы сказать, открыты у меня глаза или закрыты. Похоже было, что я серьезно болен. Теперь у меня был телефон, но не было врача. Того, который видел меня в два часа ночи после «несчастного случая», вызывать не хотелось, да я и не знал его фамилии. Я подумал, не позвонить ли моему лондонскому врачу и описать симптомы, но раздумал — симптомы покажутся ему неинтересными, заинтересовать моего лондонского врача чем бы то ни было вообще трудно. Я постарался утешить себя мыслью, что подхватил такой же грипп, или что-то в этом роде, чем заболел Джеймс, после того как я чуть не погиб в море, а Джеймс ведь болел недолго.
Я-то, очевидно, проболел дольше. Несколько дней я пролежал пластом, лень было пошевелиться, о еде не мог и думать. Никто не приходил, никто не звонил. Один раз я дополз до конуры, но оказалось, что никто и не писал. Возможно, на почте прибавили нерабочих дней или бастуют почтальоны. Отсутствие новостей не очень меня тревожило, я был занят только своей болезнью. Она поглощала меня, как работа. Я и насчет нее перестал тревожиться, и постепенно, как я и предвидел, она отступила. Я уже мог спуститься в кухню, не отдыхая на каждой ступеньке, и однажды порадовался, ощутив голод. С удовольствием поел печенья.
В тот день, а вернее, на следующий, потому что я немножко окреп и пришел в себя, с утра зазвонил телефон. Теперь я уже не сомневался, что это за странный звук. Перед этим я напряженно думал о Хартли и, услышав отвратный пронзительный звон, сразу сказал себе: «Вот оно». Спотыкаясь, я побежал в книжную комнату. Схватил трубку, выронил ее, подобрал.
— Алло!
— Чарльз, привет. Это была Лиззи. Я сказал:
— Привет, минуточку.
Я положил трубку на какие-то книги и посидел, стараясь успокоиться и собраться с мыслями. Из-за Хартли больно сосало под ложечкой, и я знал, что эта боль уже не отпустит.
— Прости, Лиззи, я только выключил газ.
— Чарльз, ты как, ничего?
— А что мне сделается? Впрочем, у меня был грипп, но сейчас уже лучше. А ты как?
— Хорошо. Я у «Черного льва». Можно тебя навестить?
— Нет, я сам приду. Который час? Мои часы уже несколько дней как не ходят.
— Сейчас около десяти.
— Он уже открылся?
— Кто? А-а, трактир? Нет, но к тому времени, как ты подойдешь, откроется.
— Ну так я скоро.
Голос Лиззи пробудил во мне неистовое желание вырваться из дому. Я вбежал в кухню и погляделся в зеркальце над раковиной. Во время болезни я не брился и оброс противной рыжеватой бородой. Я побрился, два раза порезавшись, пригладил волосы. Нашел свою мятую куртку и бумажник. Светило бледное солнце, но было холодно. Я выбежал из дому, пробежал дамбу и свернул к деревне. Однако скоро перешел на шаг, потому что слабость облаком обволокла мое тело и стала качать его из стороны в сторону. Дальше я пошел медленно, выравнивая дыхание, и только тут подумал, не Джеймс ли надоумил Лиззи меня навестить. С радостью обнаружил, что это мне безразлично, и выбросил это из головы. Свернув в деревню, я сразу увидел возле трактира желтый Гилбертов «фольксваген».
— Чарльз!
Лиззи увидела меня и побежала мне навстречу. В дверях «Черного льва» стоял и ухмылялся Гилберт. Какая роль уготована мне в этой комедии? Я расслабился и чувствовал, что улыбаюсь как со сна, точно актер, забывший слова роли, но уверенный, что сумеет экспромтом подать нужные реплики.
— Привет, Лиззи, привет, и Гилберт здесь, вот хорошо-то!
— Чарльз, какой же ты худой и бледный!
— Приятно слышать. Я как-никак болел.
— Тебе, наверно, еще надо лежать?
— Нет, ничего. Значит, вы оба здесь, какой приятный сюрприз!
— Привет, Чарльз, дорогой мой, — сказал Гилберт, подходя к нам. Его красивое, собранное в складки лицо по-собачьи выражало вину и робкую надежду на прощение. Погладь его — и он запрыгает, залает.
— Вид у Чарльза совсем больной.
— Ты, надеюсь, не заразен?
— Нет, нет.
— Мы тебя поджидали на улице, — сказала Лиззи. — На солнышке совсем тепло.
— И правда.
— Чарльз, тебе чего принести? — сказал Гилберт. — Нет, нет, ты садись, ты на положении больного. Хочешь сидра, или он на твой вкус слишком сладкий?
— Да, спасибо, давай. Ну, Лиззи, до чего же я рад тебя видеть, и выглядишь ты замечательно!
Некоторые женщины — и Лиззи, как я уже говорил, из их числа — наделены поразительно изменчивой внешностью, могут казаться и уродками, и красавицами. Лиззи сегодня была ближе ко второй крайности — молодая, миловидная, как пухленькая травести, и кудряшки-стопоры развеваются от ветра. На ней были длинная полосатая синяя с зеленым рубашка и черные брюки. А на лице, как и у Гилберта, по-собачьи виноватое выражение, только с примесью победного лукавства.
Мы сели на деревянную скамью перед трактиром и поглядели друг на друга, я — с неопределенной улыбкой, она — вся собранная, с блестящими глазами. Я чувствовал себя как никогда на виду у аборигенов, но улица, к счастью, была безлюдна.
Я сказал:
— Спасибо, что позвонила мне. Вы здесь как, проездом? Ты прости, что не приглашаю погостить, принимать гостей мне еще не под силу.
— Нет, что ты, мы сразу вернемся на магистраль. Гилберту нужно кое-кого повидать в Эдинбурге. На фестивале пойдет та пьеса…
— Все понятно.
— Чарльз, милый, милый, ты меня простил, ты не сердишься?
— За что, Лиззи? — Все равно, ты только скажи, простил?
— Да, если это тебе нужно, но я не знаю, о чем ты. Ужасно ты любишь секретничать! А вот и наш Гилберт с выпивкой.
Лиззи и Гилберт попросту приехали за отпущением грехов. Они сидели, смотрели на меня и улыбались, как двое детей в ожидании справки, что наказание с них снято, чтобы тут же вприпрыжку убежать, размахивая ею в воздухе. Они хотели, чтобы я их любил и снял последнюю пылинку с их счастья. Как тщательно они, должно быть, все обсудили, перед тем как нанести мне визит! Мне они сейчас казались детьми, и я вдруг почувствовал себя стариком, а пожалуй, и правда сильно постарел с тех пор, как поселился у моря.
Я потерял Лиззи, но как, когда? Может быть, нужно было сразу ее присвоить. Или, может быть, Гилберт и жизнь с Гилбертом ей действительно больше по душе. Или, может быть, я, когда услал ее в Лондон с Джеймсом, слишком ее напугал. Лиззи хочет жить спокойно и счастливо, довольно с нее страхов, и не мне ее осуждать. Что Джеймс возвел между нами стену, это я знал. Пусть с Джеймсом у нее и не было «ничего такого», этого «ничего» оказалось более чем достаточно. С Джеймсом всегда так бывало. Одним прикосновением мизинца он мог испортить для меня что угодно. Возможно, я не мог отделаться от детского представления, что Джеймс все делает лучше меня. Джеймс, конечно, не желал мне зла, но самая его ложь оказалась поистине роковым изъяном. Джеймса я, вероятно, не потерял, а вот Лиззи потерял, сумел «отстранить» ее, как пытался раньше. А ведь отстранить Лиззи я хотел из-за Хартли. И из дому выбежал утром, чувствуя, что ни секунды больше не могу в нем пробыть, тоже из-за Хартли. Моя болезнь отмерила срок ожидания, теперь этот срок миновал. Телефонный звонок Лиззи и был сигналом, призывом к действию. Для меня и для Хартли час пробил.
А пока я сидел и ласково улыбался Лиззи, и сколько бы мы ни улыбались — а она, возможно, улыбалась невинно, с надеждой, воображая, что может по-прежнему держать меня и не держать, отпустить и не отпустить — все равно все кончится хорошо, — связь была порвана. Я вспомнил слова Джеймса, что мне на роду написано доживать одному и быть для всех дядюшкой, и спросил:
— Рада, значит, видеть дядю Чарльза?
Она рассмеялась, и я рассмеялся, и мы все посмеялись, а Лиззи стиснула мне руку. Я разрешил им быть счастливыми и видел, как они довольны и благодарны мне. Все «распушили хвост», все, кроме меня.
Сидр, слишком сладкий и довольно-таки крепкий, начинал оказывать свое действие. Я совсем было развеселился, но вдруг мне явилась мысль о Титусе, торжественно, точно кто-то внес на блюде отсеченную голову. Джеймс что-то говорил про Титуса, но что? Причинность убивает. Колесо справедливо. Я вспомнил, как закричала в тот день Лиззи. Может, я все же потерял Лиззи из-за Титуса, потому что она меня осуждала, потому что нервы не выдержали? До чего же тесно переплетены между собой причины и следствия! Теперь Лиззи кричит от радости. Что ж, ей нужно жить дальше. Всем нам нужно жить дальше. Титус пришел извне и пробыл с нами недолго.
Мы еще поболтали, непринужденно, как старые друзья. У Гилберта хорошая роль в телевизионном сериале, которому конца не видно. Они решили заново отделать комнаты. Лиззи опять работает часть дня в больнице. Я непременно должен у них пообедать. О Хартли не было сказано ни слова, и это деликатное умолчание словно подтвердило, что мы прощаемся навсегда, хотя трудно представить себе, что они могли бы сказать.
Я спросил, который час, достал из кармана часы и поставил по часам Лиззи. Она сказала, что им пора ехать, и я проводил их до машины. Лиззи уже изготовилась к объятиям, но я потрепал ее по плечу и отворил дверцу. Гилберту, кажется, хотелось меня поцеловать. Я помахал им вслед, словно в их лице что-то кончилось. Потом пошел по улице, в сторону церкви и дороги, отходящей вверх, к коттеджам. Уже у самого поворота кто-то сзади тронул меня за плечо, и я в испуге обернулся. Сначала женщина показалась мне незнакомой, потом я узнал владелицу лазки. Она бежала за мной, чтобы сообщить, что в продаже у нее есть наконец свежие абрикосы.
Я стал подниматься в гору и сразу почувствовал усталость и одышку. Может быть, следовало еще денек отдохнуть после болезни. Может, не следовало пить так много сидра. Может быть, Лиззи и Гилберт растворили мои силы в своей жизнерадостности, своей способности изменить мир и выжить. Они увезли с собой какую-то часть меня и теперь используют ее для своих надобностей. Может быть, мне следовало радоваться, что кто-то способен употребить меня в пищу.
Я чувствовал, что не готов и не одет, но не мог противиться неизбежному. Эту встречу ничто не заставит меня отложить, не заставит вымаливать новых возможностей. Страшная тяжесть давила мне плечи. Однако что именно предпринять, я не знал. У меня не было ни тупого орудия, ни такси. Но я достиг той точки, до которой никогда еще не доходил, — блаженной точки предельной решимости.
Тяжело дыша, я шел в гору и глядел на палисадники, на цветы, на калитки. Заметил, что каждый дом чем-то отличается от других. Вот у того — в парадной двери овальное окно цветного стекла, у другого — крылечко с геранью, у третьего — окошки в мансарде. Вот и голубая калитка «Ниблетса» с ее никчемно-замысловатой задвижкой.
В парадной спальне занавески почему-то были задернуты, но неплотно. Я позвонил. Звонок прозвучал необычно. Скоро ли до меня дошло, что в доме никого нет? Во всяком случае, еще до того, как я заглянул в спальню в щель между занавесками и увидел, что вся мебель вынесена.
Я вернулся к парадной двери и зачем-то позвонил еще несколько раз, прислушиваясь, как эхо отдается в покинутом доме.
— Извините, пожалуйста, вы к кому, к мистеру и миссис Фич?
— Да, — ответил я женщине в переднике, перегнувшейся через забор из соседнего палисадника.
— А они уехали, эмигрировали в Австралию, — сообщила она мне с гордостью.
— Я знал, что они уезжают, думал, может быть, еще застану.
— А дом они продали. И собачку с собой взяли, ее, конечно, сперва отправят в карантин.
— Они когда уехали?
Она назвала число. Очень скоро после того, как я у них побывал. Значит, они солгали насчет срока отъезда.
— Я получила открытку, — сказала та гордая женщина. — Нынче утром пришла. Желаете посмотреть? — Она, оказывается, захватила ее с собой, чтобы показать мне.
На открытке я увидел сиднейский оперный театр. На обороте рукой Хартли было написано: «Только что прибыли. Такого красивого города, как Сидней, я еще не видела, здесь так хорошо». Подписались оба, и Хартли и Бен.
— Прелестная открытка, — сказал я, возвращая ее по принадлежности.
— Да, что и говорить, но, по мне, Англия не хуже. Вы им родственник?
— Двоюродный брат.
— То-то я смотрю, вы немножко похожи на миссис Фич.
— Жаль, что я их не застал.
— Адрес свой они, к сожалению, не сообщили, знаете, как оно бывает, уехали люди — и все.
— Ну, большое вам спасибо.
— Они, наверно, вам напишут.
— Наверно. Будьте здоровы.
Она ушла к себе, а я вернулся на дорожку. Розы уже выглядели запущенными, многие увяли. Мое внимание привлек камень, полузасыпанный землей, и я подобрал его. Это был тот пятнистый розовый камень с белыми полосками, который я подарил Хартли, а потом, в тот ужасный день, привез ей в полиэтиленовом мешочке. Я сунул его в карман.
Я обошел дом и с бетонной террасы заглянул в широкое окно гостиной. Здесь тоже занавески были не сняты и небрежно задернуты, но между ними видна была пустая комната. Дверь в прихожую стояла открытой, я увидел внутреннюю сторону парадной двери и темный квадрат на обоях, там, где раньше висел рыцарь. Меня охватило сумасшедшее желание проникнуть в дом. Может быть, Хартли оставила мне записку или хоть какой-нибудь условный след своего присутствия.
Задняя дверь и окна гостиной оказались крепко заперты, но одно из окон кухни слегка подалось. Я принес из-под навеса в саду деревянный ящик (единственное, что там осталось) и влез на него, как Титус в детстве, когда хотел заглянуть в дырку в заборе. «Я ведь влезал на ящик?» — «Да, на ящик». Я вцепился в раму и подсунул под нее палец. Окно отворилось — шпингалет еле держал его, — и я занес ногу на подоконник. В следующую секунду я, задыхаясь от волнения, уже стоял в кухне. По дому кралась зловещая тишина.
В кухне было пусто, не очень прибрано, из крана капало. Свалявшийся пух кружил по полу, поднятый сквозняком. Я открыл дверь кладовки, там на полках уже проступила плесень. Я обошел гостиную и обе спальни — ни носового платка, ни шпильки, ничего, что напоминало бы о моей любви. В ванной я сначала увидел только пятно на ванне и лишь потом заметил наконец что-то интересное. Из-под линолеума, там, где он примыкал к стене, виднелась узкая белая полоска. Я нагнулся, потянул ее. Под линолеумом было спрятано письмо. Я осторожно вытащил его. Это было мое последнее письмо к Хартли, нераспечатанное. Я осмотрел его — может быть, конверт вскрыли, а он опять заклеился, ведь так бывает. Но нет. Его не вскрывали.
Я и его сунул было в карман, но передумал. Разорвал на четыре части, бросил в унитаз и спустил воду. Потом запер окно в кухне и вышел через парадную дверь. Соседка неодобрительно наблюдала за мной из окна и проводила меня долгим взглядом.
Спустившись с горы и свернув вправо, на деревенскую улицу, я вдруг увидел впереди знакомую фигуру. Я сразу понял, что знаю этого человека и предпочел бы его не видеть, а уж потом узнал в нем Фредди Аркрайта. Деваться было некуда, он уже заметил меня и спешил мне навстречу.
— Мистер Эрроуби!
— Ба, да это Фредди!
— Мистер Эрроуби, я так рад вас видеть, я так по вас скучал! Я знал, что вы здесь, на Троицу был в деревне, думал, может быть, увижу вас, до чего же удачно, что мы встретились.
— Да, Фредди, давно не виделись. Ну как ты, что поделываешь?
— А Боб вам не говорил? Я ведь стал актером.
— Актером? Вот молодец!
— Я всегда об этом мечтал, потому и к вам пошел работать, но это было так, фантазии, я и не думал, что когда-нибудь правда так будет. А работать у вас мне нравилось, лихо мы с вами раскатывали по Лондону, во все концы, помните? А потом, когда вы уехали, подумал, почему и не попробовать? И когда я вступил в профсоюз, а ведь я уж был не так молод, мне всякий раз помогало, что я поработал у вас, вы всегда приносили мне счастье, мистер Эрроуби. Вы были ко мне так добры, так подбадривали меня. «Реши, чего хочешь, Фред, и добивайся этого, главное — сила воли». Я помню, вы не раз это мне говорили.
Я не помнил, чтобы говорил это, да и едва ли человек, имевший несчастье сказать такую глупость, стал бы повторять ее, но меня порадовало, что Фредди сохранил столь розовые воспоминания. Мы были уже совсем близко от тропинки, уводящей к приморскому шоссе.
— Хорошее было времечко, мистер Эрроуби, «Савой», «Коннот», «Ритц», «Карлтон», где только не побывали. Старого «Карлтона»-то больше нет, но Лондон и без него лучший город в мире, а я их теперь повидал немало — Париж, Рим, Мадрид, везде поработал. Недавно снимался в одном фильме в Дублине, ох, и выпито было!
— Ты под какой фамилией играешь?
— А под своей. Фредди Аркрайт и есть, а то как будто это не я. Не могу сказать, чтобы получал большие роли, но все равно интересно. А все благодаря вам, вы были так ко мне добры, так меня подбадривали, а потом люди говорили: «Ах да, вы ведь друг Чарльза Эрроуби?» Я, понятно, не отрицал, и действовало безотказно. Ох, мистер Эрроуби, до чего же я рад вас видеть, и вы все такой же, нисколько не постарели. Надо же было так случиться, что вы здесь поселились, я-то из этих мест, родился на ферме Аморн, мои дядя с теткой до сих пор там живут. Вы ведь, я слышал, теперь на отдыхе?
— Да.
— Вообразить не могу, как можно уйти из театра. Вот уж правду говорят, театральные люди — они особенные. Но в Лондоне вы бываете? Могли бы там повидаться. Я бы вас познакомил с моим другом, с которым мы вместе живем, Мелборн Павитт, может быть, слышали? Нет? Ну, так услышите. Он художник, декоратор.
— Мы и здесь еще, вероятно, повидаемся.
— Ой, что же это я, совсем заболтался, пошли в «Черный лев», пусть ставят нам бесплатную выпивку.
— Нет, сейчас я спешу домой, вот моя тропка. Очень приятно было повидать тебя, Фредди, я рад, что у тебя все так хорошо.
— Я скажу моему агенту, пусть пошлет вам кое-какие вырезки.
— Отлично. Ну, желаю удачи.
— Храни вас Бог, мистер Эрроуби, спасибо вам за все. Я бодро помахал ему и пошел вниз по тропинке. Пусть для некоторых людей я был кошмаром и демоном, но в сознании Фредди Аркрайта я, совершенно незаслуженно, безусловно, пребываю как доброжелательное божество.
До дому я добрался рано, еще не было двух часов. Я попробовал поесть застывшего бульона прямо из банки, но еда не лезла в горло. Принял две таблетки аспирина, поднялся в спальню и лег, ожидая, что погружусь в забытье, как бывает после особенно тяжкого потрясения, однако вместо этого меня занесло в какой-то новый ад.
Если существуют душевные муки сильнее мук ревности, так это бесплодные сожаления. Даже боль утраты бывает не столь мучительна, а часто они терзают одновременно, как было теперь со мной. Я говорю именно о бесплодных сожалениях, а не о раскаянии. Едва ли я когда-нибудь испытывал раскаяние в чистом виде, в чистом виде оно, пожалуй, и невозможно. Раскаяние предполагает чувство вины, но беспомощное, безнадежное, неисцелимое.
Думать о Хартли я не мог, вернее — еще не мог. Потрясение оказалось слишком сильным, или, может быть, бессознательно я уже давно пытался оградить себя от непосильной боли. Казалось, Хартли, кроткая, какой она бывала в молодости, покорно отошла в сторону. Она все время была со мной, словно тихонько пела в моем сознании, но сосредоточиться на ней я не хотел. В последнее время, когда я еще с ней боролся, мне иногда словно хотелось отдохнуть; и вот теперь, неожиданно, она лишила меня работы. Но пустоту, оставленную ее окончательным исчезновением, заполнил Титус, он вернулся требовать свою долю моей вины и моего горя.
Ужас бесплодных сожалений изобилует всякими «бы». Неподвластные моей воле, в мозгу множились видения счастья, еще не знающие, что они только призраки. Я бы увез Титуса в Лондон, он поступил бы в театральное училище, стал бы врываться ко мне в гости со своими товарищами, на каникулах мы бы отправлялись в чудесные долгие путешествия, я бы любил его и заботился о нем. Как я сразу не понял, что именно это — опека над Титусом, попытки стать ему отцом и отвечать за него, — что это и есть главное, тот чистый дар, что был ниспослан мне вместе с ненужными побрякушками. Вот за что я должен был ухватиться, за это, а не за химеру. Я вспомнил пророческие слова Розины о том, что Титус тоже окажется грезой, тронь его — и исчезнет. Почему я не удержал его и не создал между нами реальной связи, не уделил ему все мое внимание и не увел прочь от беспощадного убийцы-моря? Конечно, у Гилберта и остальных это вызвало бы циничный смех, но они были бы не правы. Священные узы отцовства могут возникнуть и таким вот странным образом, и нерушимые моральные обязательства сделали бы меня защитником Титуса, его ментором, его слугой, не требующим ничего для себя. Может быть, это была иллюзия. Я мог бы оказаться деспотичным или ревнивым, но абсолютную ценность я способен распознать и Титусу я остался бы верен. Но мысли эти шли своим чередом, не заслоняя страшной картины: на ярком приморском солнце Титус лежит мертвый, недвижимый, мокрый, с полуоткрытыми глазами и шрамом на губе.
То, что он никогда не вернется, оставалось непостижимым. Он пробыл со мной так недолго и шел ко мне как на смерть, как к палачу. Какие причудливые случайности привели его не куда-нибудь, а к подножию этой отвесной скалы, где он снова и снова пытался выбраться из бушующего, глумливого, кровожадного моря? Преступлением было не предостеречь его, нырять с ним вместе в тот первый день. Я погубил его, потому что так упивался его молодостью и хотел показать, что я тоже молод. Он погиб потому, что вверился мне. Мое тщеславие — вот что его сгубило. Тоже причинная связь? Конечно. Автоматическая расплата за грехи. Я не удержал его — и вот он мертв. Такие мысли увели меня наконец в тягостную дремоту; а проснувшись, я не сразу вспомнил, что Хартли ушла навсегда, и тут же стал строить привычные планы, как ее вызволить.
Часы мои опять остановились, но небо было вечернее — гряды оранжевых облаков с очень холодными бледно-голубыми просветами. Я сошел вниз, вскипятил чаю, а потом стал пить вино. Я стал думать о Хартли, но осторожно, словно примериваясь, не сведут ли меня эти мысли с ума. А гнать их было нельзя, нужно было все поставить на место. Я ведь видел пустой дом, открытку из Сиднея. И вот я смотрел на Хартли, видел ее кроткое юное лицо, обращенное ко мне, туманное, словно за тюлевой занавеской. Она молча предлагала мне страдать. Теперь места хватит, просторный безмолвный зал, есть где развернуться этому страданию. Спешки больше нет, нечего планировать, нечего добиваться. Что мне теперь с ней делать, спрашивал я Хартли, что мне делать с моей любовью, которую ты воскресила, вновь появившись в моей жизни? Зачем ты вернулась, если не могла меня насытить? Что мне теперь делать с громоздким механизмом моей любви, который оказался не нужен? Я больше ничего не могу для тебя сделать, родная. Мне, наверно, судьба жить с этой любовью, превратить ее в святыню, которую уже ничто не осквернит. Может быть, когда я буду жить один и для всех стану дядюшкой, я сберегу эту ненужную любовь в моей тайной молельне. Не научусь ли я тогда любить без цели и без корысти и не окажется ли это тем мистическим состоянием, которого я надеялся достичь, когда уехал жить к морю?
Стало темнеть, и я зажег лампу. Закрыл окно, чтобы не налетели бабочки. Слегка удивился, сообразив, что мне ни разу не пришло на ум лететь в Сидней. Я не помнил, сказал ли Бен, что они будут жить в Сиднее, но Австралия не так уж велика, у меня есть там знакомые, которые с радостью включились бы в поиски женщины. Можно бы организовать розыски, расспросы, объявления. Все-таки занятие. Но почему-то мне было ясно, что ничего этого я не предприму. Я отступился. Смиренно следовать за ней на расстоянии, только для того, чтобы она знала, что я еще здесь? Это значило бы сделаться страшным привидением. Нет, я отступился, и теперь мне казалось, что случилось это еще в предчувствии ее ужасающего бегства. Почему после того немыслимого чаепития я только ждал, воображая, что она мне позвонит? Неужели я и правда ждал звонка? Неужели и правда воображал, что в последнюю минуту она спрыгнет ко мне в шлюпку? Уже тогда я должен был знать, что никуда она прыгнуть не может. И, сжав руками голову, раскачиваясь, как от лютой боли, я думал, если бы только мы могли не расставаться, если б только Хартли была моей сестрой, я бы с такой радостью о ней заботился, так нежно ее любил бы.
Поесть я не решился. Есть не хотелось и не верилось, что я еще когда-нибудь в жизни проголодаюсь. Наконец я поплелся наверх, совсем больной и пьяный. Занавеска из бус щелкала на морском ветру, неведомо как проникавшем в дом. Маленькая луна неслась сквозь рваные облака, голова кружилась от ее скорости. Может быть, Хартли ничего не осталось, кроме как любить Бена, сердце у нее любящее, а больше любить некого. Когда-то ей так хотелось любить Титуса, но Бен умертвил ее любовь к Титусу, а тем самым умертвил и ее. То, что я видел, было оболочкой, шелухой, мертвой вещью, мертвой женщиной. И однако именно ее я так хотел оживить, слиться с ней, лелеять ее. Я принял три таблетки снотворного. Уже засыпая, подумал, почему она сохранила то письмо, хотя и не прочла его? Почему оставила тот камень в саду, где я наверняка должен был его заметить? Что, если это все-таки к добру?
Наутро я проснулся не рано, в 9.30, как узнал по телефону. Болела голова. Спустившись в кухню, я споткнулся о ванну, которая так и стояла там, до половины налитая водой. С горем пополам я вылил воду — частью на пол, частью на лужайку — и убрал ванну на место, под лестницу. Попробовал поесть печенье, но оно отсырело и размякло. В доме не было ни хлеба, ни масла, ни молока. Да я и не был голоден. Подумал было сходить в лавку, но не мог сообразить, какой сегодня день. Мне показалось, что звонили в церкви, значит, возможно, воскресенье. Мелькнула неясная мысль — не съездить ли в Лондон. Однако никаких конкретных поводов для поездки у меня не было. Видеть мне там никого не хотелось, а дела никакие на ждали.
Я вышел на шоссе поглядеть, какая погода. Стало теплее, голубее. В Гилбертовой корзинке белели письма. Как видно, забастовка (или нерабочие дни, или что у них там было) уже кончилась. От Хартли, конечно, письма не было, но было одно от Лиззи. Я принес письма в красную комнату и сел за стол.
«Дорогой мой, нескладная у нас получилась встреча. Ты был такой хороший, великодушный, но лучше бы нам было поговорить вдвоем. Вспомнить без ужаса не могу, как мы смеялись. О чем ты в это время думал? Я чувствую себя в чем-то виноватой, но ты должен меня оправдать в моих глазах. Люби меня, Чарльз, люби достаточно. После твоего письма я заново пережила мою любовь к тебе как прививку — не чтобы излечиться, этого не будет, но чтобы наконец полюбить тебя как надо, а не просто быть по-глупому «влюбленной». Не влюбленность, а любовь — вот что важно. Пусть отныне не будет больше ни разлук, ни жажды обладания, ни уловок. Пусть между нами навсегда воцарится мир, ведь мы уже не молоды. Прошу тебя, милый.
Лиззи.
P.S.Поскорее навести нас в Лондоне».
До чего же трогательное письмо, и под конец это приглашение «к нам»! И еще: «я виновата, но ты должен меня оправдать»! Так похоже на Лиззи. Я распечатал другое письмо, оно оказалось от Розмэри Эш.
Милый Чарльз! Хочу сообщить Вам печальную новость: между мной и Сидни все кончено. Он просит развода. Ведем мы себя вполне мирно, из-за детей, и они как будто не слишком расстроены. Причина, конечно, молодая актриса, наша профессиональная болезнь, и еще заокеанский воздух, от которого Сидни словно лишился рассудка. Может, это временное, я еще не теряю надежды, но надеяться так больно. Я еду домой и очень хочу Вас повидать. Можно навестить Вас в Вашем чудесном мирном убежище у моря? Как раз то, что мне требуется.
Целую. Розмэри».
Вот вам и идеальный брак. Пора, пожалуй, репетировать роль холостого дядюшки. Я вскрыл еще одно письмо и не сразу сообразил, от кого оно, хотя подпись была вполне разборчивая — Анджела Годвин.
Дорогой Чарльз!
Слушайте, это я, причем слушайте внимательно. Хватит с Вас старых, зачем они Вам? Или Вам кажется, что молодую Вам не найти? Но Вам не дашь Ваших лет. Не обязательно Вам иметь дело со старухами вроде Лиззи Шерер и Розины Вэмборо, когда Вы можете получить МЕНЯ. Розина-то мне в общем нравится, она хотя бы умная, и дома стало пристойнее, с тех пор как Пам отбыла, так что не думайте, что я смотрю на Вас как на выход из положения, вовсе нет! Я последние месяцы много думала и, кажется, сильно изменилась и договорилась до чего-то сама с собой. Я все думаю о том, что я собой представляю. Еще не знаю, как я распоряжусь своей жизнью, на сцену, во всяком случае, не пойду, так что опять же не думайте, этого мне от Вас не нужно. У меня способности к математике, я, может быть, стану физиком, осенью буду держать экзамен в Кембридж. Так или иначе, кем-то я стану. Зачем я Вам пишу? Меня осенила гениальная идея. В тот вечер, когда Вы приходили к Перегрину, я (разумеется!) подслушивала за дверью и слышала, как он сказал, что Вы очень хотите сына, а может, это Вы сказали, я уж не помню, во всяком случае, это застряло в памяти. А идея вот какая. Почему бы мне не подарить Вам сына? Вы могли бы взять его себе, я не мечтаю им завладеть, ну, навещала бы, конечно, и все такое. Я пока еще не хочу связывать себя ребенком, можно бы найти няню. Да и в Кембридже я буду занята страшно. И конечно, брак я Вам не предлагаю. Замуж я, наверно, выйду много позже или совсем не выйду. Но почему Вам просто не иметь то, чего хочется? Это бывает слишком редко, тем и плоха наша цивилизация, не в том смысле, что многие голодают, а в том, что им не хватает смелости взять желаемое, даже когда оно у них перед носом. О себе: мне семнадцать лет, здоровье отличное. Я девственница и хочу, чтобы через этот порог меня перевел кто-нибудь стоящий, короче говоря — Вы. Прилагаю снимок, можете убедиться, как я изменилась. Ну, что скажете, Чарльз? Я ведь не шучу. В частности, когда говорю, что люблю Вас и стану Вашей, как только Вы того захотите.
Анджела Годвин».
Я вытащил снимок из конверта и разглядел цветную фотографию миловидной, умненькой на вид девочки, большеглазой, с нежным, застенчивым, еще не определившимся лицом. Скомкав ее послание, я сунул его в мягкую золу в камине. Было и еще несколько писем, но я почувствовал, что на сегодня с меня хватит.
Я вышел поглядеть, что еще надумало это отвратное море. Оно было спокойное, гладкое, скользило между скал, как масло. Я дошел до Миннова Котла, постоял на мосту. Было время отлива, вода уходила из Котла крутящимся вихрем торопливых вспененных волн, а потом, дальше от берега, этот белый поток поглощала более спокойная синева. Я глянул вниз. Какая глубина, как круты и гладки стены! Никакая земная сила не могла бы вытащить меня из этой бездны. А между тем я оттуда выбрался, я жив, а бедный Титус, что с таким увлечением нырял и плавал, — умер. Я добрался по камням до башни, спустился к ступеням. Гладкие волны вздымались и опадали, но не слишком бурно, час был удобный, железный поручень доставал до самой воды. Я ощутил во всем теле, если еще не в душе, проблеск жизни, давно знакомый, сродни сексуальному, мгновенный страх, как перед прыжком с той высоченной вышки в Калифорнии или когда с разбегу окунался в леденящую воду у берегов Ирландии.
Дрожа от волнения, я сорвал с себя одежду и ступил в воду. Обжигающий холод, потом тепло, потом ласковая сила поднимающих меня спокойных волн — все это до ужаса напомнило счастье. Я стал плавать, ощущая одиночество моря и то особое чувство, теперь осознанное как чувство смерти, которое оно, казалось, всегда в меня вселяло. Не то чтобы я хотел умереть или боялся утонуть. Мои крепкие руки и ноги работали в лад с движением воды, мне дышалось легко, небо надо мной было синее, и везде солнце, и так близко от себя я видел горизонт подступающих волн, сильных и ласковых, увенчанных чуть растрепанными ветром гребешками. Волны играли со мной. Я плавал и лежал на спине, пока не стало холодно, а тогда вылез на берег и, забрав одежду, голый пошел домой.
Море вернуло мне аппетит, и когда, по моим расчетам, подошло время второго завтрака, я разогрел остатки бульона, открыл банку сосисок и банку кислой капусты. Я почти решил, что завтра съезжу в Лондон. Почти решил позвонить Джеймсу на случай, что он еще не уехал, и даже нашел его номер и записал на бюваре возле телефона. Я почти решил позвонить таксисту и попросить его отвезти меня на станцию к утреннему поезду. Солнце пригревало, но меня познабливало после купания, и я надел свой белый ирландский свитер. Достал чемодан и уложил в него кое-что из одежды. Даже отправился в книжную комнату выбрать книгу, чтобы почитать в дороге. Вспомнил, что в планы моего одинокого житья входило регулярное чтение, но что я не открывал книги с самого приезда в Шрафф-Энд. Я стал перебирать книги. Джеймс просматривал их, Титус на них спал. Мне требовалось что-нибудь жутковатое и захватывающее. Сгодилась бы даже порнография, только порнографию я, честно говоря, не выношу. В конце концов я выбрал «Крылья голубки»,[34] тоже повесть о смерти и моральном крушении.
Время шло, близился вечер, а я так и не позвонил ни Джеймсу, ни таксисту. Я решил, что уже поздно назначать отъезд на раннее утро. Позвоню таксисту завтра и поеду следующим поездом. Чем я займусь, когда приеду в Лондон, было не ясно. Разберусь в квартире, закажу занавески? Такие вещи происходят в другой жизни. Вечер был теплый, но для уютности я затопил камин в красной комнате, и огонь поглотил письма Розмэри и Анджелы и снимок застенчивой умненькой девочки. Ужин я принес к камину и попробовал начать «Крылья голубки», но великолепное торжественное начало этого романа не захватило меня. Еще не стемнело, читать можно было без лампы. Я посидел, глядя в пространство, прислушиваясь к буханью волн и биению своего сердца. Меня стало клонить ко сну. Да, какое-то действие купание на меня оказало. Я подумал о Титусе. Потом стал думать о себе как об утопленнике и вспомнил, как в ночь после моего воскресения из Миннова Котла я спал на полу в этой комнате перед пылающим камином, благодарный и еще не поверивший, что остался жив. И словно увидел себя со стороны, как я лежу здесь, в тепле, осторожно шевеля то рукой, то ногой, чтобы удостовериться, что ничего у меня не сломано.
Веки мои начали смыкаться, и тут я очень ясно увидел нечто, о чем потом не мог бы сказать, было ли оно галлюцинацией или игрой памяти. Возникло оно перед глазами внезапно, именно как воспоминание. Перед тем я смутно, в полусне, думал о том, как упал в кипящую водяную яму, как «знал», что умираю, и как вода надо мной даже в полумраке казалась зеленой. Потом вспомнил, что в последнее мгновение, перед тем как голова моя трахнулась о скалу и меня поглотила тьма, я увидел и еще что-то. Рядом со своей головой я увидел диковинную голову, острые зубы, черную изогнутую шею. Со мной вместе в Котле было мое морское чудовище.
Я широко раскрыл глаза и огляделся задыхаясь, с отчаянно бьющимся сердцем. Все было как прежде — горящие дрова, кучка нераспечатанных писем на столе, недопитый стакан вина. Я был уверен, что не засыпал, я просто вспомнил что-то, о чем успел начисто забыть. Это и был результат контузии, о котором предупреждал врач, — временная потеря памяти. Но теперь все это вспомнилось: черный извивающийся змей совсем рядом, нависший надо мной и ясно видный в полумраке, его голова и шея на фоне неба. Я видел даже его зеленые светящиеся глаза. Видение длилось секунды, может быть, всего одну секунду, но было отчетливым и достоверным. А сразу за этой секундой последовал удар по голове.
Но нет, нужно было вспомнить что-то еще, что-то еще случилось перед тем, как я потерял сознание. Но что, что? Дрожа от возбуждения и страха, я сидел, стиснув руками голову и мучительно напрягая память. Что-то ждало, чтобы я о нем вспомнил, что-то необычайное и очень важное, ждало рядом, почти в моем поле зрения, ждало, чтобы я увидел и схватил его, а я не мог. Я со стоном вскочил, прошелся в кухню и обратно, выпил еще вина, закрыл глаза и открыл снова. Я следил за своим сознанием, словно боясь к нему прикоснуться — а вдруг сдвинется или затвердеет, и пропадет то, что уже вот-вот станет явным. Но то, что было скрыто, не появлялось, и меня мучило опасение, что, если я не поймаю его сейчас, оно пропадет уже навсегда, канет в глубокий беспросветный мрак подсознания. Сейчас оно, быть может, в последний раз всплыло так близко к поверхности.
Через какое-то время я отказался от дальнейших усилий, однако еще надеялся, что в конце концов это нечто, такое важное и нужное, вдруг вспомнится само. Я снова сел у стола и стал думать о морском чудище и перебирать мои давнишние теории касательно ЛСД. Попробовал вспомнить, почувствовал ли я прикосновение кольчатого змея или только видел его. Зрительный образ его был при мне, а вот как я его воспринял — неизвестно, хотя свои мысли о смерти, когда оказался под волной, помню. Я подумал было сходить посмотреть на Миннов Котел, может быть, это подхлестнет мою память, но уже стемнело, и я не решился. Я струхнул, а потом буквально затрясся от смертельного страха. Хотел зажечь лампу, но она почему-то не зажигалась. Зажег несколько свечек, запер обе наружные двери и вернулся в красную комнату.
А войдя в комнату, я внезапно, словно глаза у меня переключились на другую волну, увидел прямо перед собой щель в белой деревянной обшивке стены, чуть ниже того уровня, где обшивка в нескольких футах от пола кончается узеньким выступом. Щелей в панелях было много, некоторые почти не видны под краской. Эта щель была короткая, дюймов шесть в длину, и в ней что-то было: что-то белое чуть торчало наружу. У меня захватило дыхание, закружилась голова, я пересек комнату и вытащил из щели листок бумаги. Это был тот листок, на котором я, когда проснулся ночью после своего спасения, записал очень важную вещь, чтобы ни в коем случае не забыть ее. Даже сейчас, держа листок в руке, я не мог вспомнить, что я там написал, хотя сразу решил, что это касается морского змея. Я развернул листок и прочел вот что:
«Я должен записать это как можно скорее, это свидетельство, а я уже начинаю все забывать. Спас меня Джеймс. Каким-то образом он спустился ко мне прямо в воду. Он подхватил меня под мышки, и я почувствовал, что возношусь, как на лифте. Я видел его на фоне отвесной стены, как он склонился ко мне, а потом я поднялся, и он прижал меня к себе, и мы вместе взмыли наверх. Но он ни на чем не стоял. Был миг, когда он словно прилип к скале, как летучая мышь, потом он просто стоял на воде. А потом…»
На этом текст кончался. Ловя ртом воздух, я перечел его несколько раз, и то темное, что было уже так близко к поверхности, прорвалось наружу, и я вспомнил всю эту сцену. Это не было похоже на мое воспоминание о змее, скорее это походило на воспоминания о том, как пела Лиззи, как Титус лежал мертвый, с той лишь разницей, что того, что я вспомнил сейчас, быть не могло.
Теперь я совершенно ясно помнил, какую мысль хотел выразить, когда написал, что он цеплялся за скалу, «как летучая мышь», и что я вознесся, «как на лифте». Это было после того, как зеленая волна обрушилась на меня и разбилась и голова моя оказалась над водой, я отплевывался и пытался крикнуть. Я увидел Джеймса. Вроде как бы опустившись на колени, он сползал по стене, как какое-то животное. Сравнение с летучей мышью не совсем точно, он больше напоминал ящерицу, но суть в том, что спускался он не как человек, ища опоры для рук и ног, а как некая ползучая тварь. Помню, я попробовал протянуть к нему руку, но вода уже полностью завладела моим телом и швыряла его во все стороны, как пробку. К тому же я так наглотался воды, что и дышал и барахтался уже из последних сил. Хорошо помню, что в этот момент Джеймс и сам был похож на утопленника — весь промокший и с головы потоками льется вода. Если могли у меня быть тогда какие-нибудь мысли, одной из них, кажется, было: «Значит, Джеймс тоже тонет». Но подумалось это почему-то без отчаяния. Потом Джеймс, уже соскальзывая в водоворот, отделился от скалы, как гусеница. Словно что-то клейкое нарочно отклеилось. Он не схватил руку, которую я беспомощно тянул к нему, а склонившись надо мной, подхватил меня под мышки, как я и записал. Теперь я помнил и прикосновение его рук, и то диковинное чувство, про которое я написал, что словно поднялся «на лифте». Не помню, чтобы меня тащили вверх, ничьих усилий я не ощущал. Я поднимался, пока голова моя не оказалась на одном уровне с головой Джеймса, а тело прижалось к его телу. Помню ощущение тепла и что именно тут я потерял сознание.
Но разве не было удара по голове и разве я не страдаю от контузии? Я притронулся к затылку и нащупал порядочных размеров и все еще болезненную шишку. Конечно, удариться головой я мог и раньше, не теряя сознания. А когда же я видел змея, если вообще его видел? А Джеймс тоже видел его? И почему в моей записи нет ни слова о змее? И что я еще хотел написать? Конечно, если я ударился головой сразу после того, как увидел змея, я мог уже забыть об этом, когда начал писать, хотя процедуру спасения еще помнил. А почему позднее я и это забыл и почему вспомнил именно сейчас?
Я вскочил, до крайности возбужденный. Воспоминание о подвиге Джеймса — это-то не было галлюцинацией. Как-то я ведь выбрался из этой пенной ловушки? Только сегодня, глядя на нее, я лишний раз убедился, что никакая человеческая сила не могла меня оттуда вызволить и волны не могли вынести на ровное место. Мой кузен спас меня, призвав на помощь то умение, которое так пренебрежительно именовал «фокусами». Я опять вспомнил историю про шерпу, которого Джеймс надеялся уберечь такими «фокусами». Усомнился ли я тогда в возможности поднять температуру тела путем душевного напряжения? Я об этом и не задумался. В этой истории можно и не усмотреть ничего сверхъестественного. Просто двое прижались друг к другу, чтобы согреться — в палатке, в спальном мешке, в снегу, — и один из них умер. Заинтересовало меня тогда другое: попытка Джеймса не удалась. А что до самого метода, то теперь мне уже не казалось невероятным, что какой-нибудь мрачный восточный аскет научился управлять температурой своего тела. Но сползти по отвесной скале и стоять на бушующих волнах (или, как мне теперь вспомнилось, чуть ниже их поверхности) и поднять человека весом в семьдесят килограммов на высоту в шестнадцать — двадцать футов, просто ухватив его под мышки, — в такое поверить скептику из западного мира было куда труднее. И однако же я это помнил. И даже записал для памяти. И что-то более чем странное, безусловно, произошло.
Я снова сел, стараясь дышать ровнее, и при мысли, что мой кузен применил свои оккультные способности для спасения моей жизни, вдруг преисполнился пронзительной, чистой и нежной радости, словно небеса разверзлись и оттуда хлынул поток белого сияния. Я почувствовал себя Данаей. Когда после нашего последнего разговора с Джеймсом мне почудилось, что теперь между нами установятся новые, более близкие, отношения, это было лишь слабым предчувствием того, что я испытал теперь. И еще мне почему-то подумалось: «Как весело нам бывало!» И захотелось поблагодарить его, смеясь от радости.
Я посмотрел на часы. Только начало двенадцатого, еще не поздно позвонить. Я схватил свечу и побежал в книжную комнату, задыхаясь и что-то выкрикивая от волнения. Я набрал номер Джеймса. Я понятия не имел, что скажу ему, только думал, не забыть бы спросить, видел ли он морского змея. Послышались гудки, и с каждым новым гудком возбуждение мое убывало, сменяясь разочарованием. Неужели он уже уехал в Тибет? Или просто вышел из дому, обедает в каком-нибудь клубе с каким-нибудь другом-военным? Бог ты мой, как мало я знаю о его жизни! Я решил позвонить еще раз утром и тут же поехать в Лондон.
Я вернулся в кухню, отпер и распахнул заднюю дверь. Холодный страх, сковавший меня раньше, исчез бесследно. Я вышел на лужайку. В доме было темно и знойно, но здесь все было видно и воздух теплее. Я решил переночевать на воле, сходил в книжную комнату за подушками, а сверху принес одеяла. Добрался до того места у берега, где спал в прошлый раз, и устроил себе ложе. Потом вернулся к дому, где в окне красной комнаты приветливо мерцали свечи. В небе, хоть и померкшем, еще не видны были звезды, сияла только вечерняя звезда, зубчатая и огромная. Луна, бледная, как сыр, стояла низко над горизонтом.
Я вошел в красную комнату, где свечи, как на алтаре, возвышались по обе стороны моего стакана и почти пустой бутылки, вылил остатки вина в стакан и стал размышлять. Припомнил кое-что еще. Никто из остальных, конечно же, не заметил ничего странного, Перегрин сказал, что толкнул меня и пошел дальше. Он был очень пьян и, вполне возможно, действительно не знал, что случилось. К тому времени, когда все забили тревогу, я уже лежал у моста и Джеймс старался оживить меня. Джеймса я толком не расспросил, потому что сразу после этого он заболел, почувствовал резкий упадок сил и залег в постель. Почему он так изнемог? Потому что столько вытерпел, спасая меня, потратил столько физических и душевных сил на это немыслимое нисхождение. Я вспомнил его слова насчет того, что эти фокусы бывают «очень утомительны». Не мудрено, что он совсем расклеился. Но раз так… «Я ослабил свою власть над ним, я сдал…» О ком говорил Джеймс в тот вечер, когда я слушал его в полусне, о своем шерпе или… или о Титусе? Как случилось, что Титус пришел ко мне именно в это время? Зачем Джеймсу понадобилось знать, как его зовут? Имя — это путь. И почему Титус сказал, что видел Джеймса во сне? Джеймс всегда умел найти любую пропажу. Может быть, он протянул какое-то духовное щупальце, нашел Титуса и привел его сюда и держал его, так сказать, под надзором на какой-то нитке, на нитке внимания, которая оборвалась, когда Джеймс так непонятно заболел, после как поднял меня из моря? На смерть Титуса Джеймс отозвался фразой: «Это не должно было случиться», словно считал себя в ней повинным. Но если это была его вина, то почему не моя? Существует неумолимая причинность греха, и вполне можно сказать, что Титус погиб потому, что много-много лет назад я увел Розину у Перегрина. И конечно же, Титуса убило мое тщеславие, точно так же, как тщеславие Джеймса убило шерпу. В обоих случаях наша слабость сгубила самое для нас дорогое. Теперь я вспомнил и еще кое-что из сказанного Джеймсом. «Белая магия — это черная магия. Неумелое вторжение в чей-то духовный мир может породить чудовищ для других людей, и демоны, использованные для добра, могут остаться при нас и впоследствии натворить много бед». Что, если один из этих демонов, с помощью которых Джеймс меня спас, воспользовался предельной усталостью Джеймса, чтобы схватить Титуса и размозжить его юную голову о скалы?
Мысли эти были так сумбурны и таили такой страшный смысл, что я решил — хватит думать, попробую заснуть. Я чувствовал, что, несмотря ни на что, спать буду крепко. Больше всего мне хотелось поговорить обо всем этом с Джеймсом или на худой конец, если он уже уехал, написать ему. Но как мне узнать его адрес, оставил ли он какой-нибудь адрес? Ведь у нас нет общих знакомых, кроме Тоби Элсмира, а Тоби не раз давал понять, что теряется в догадках относительно того, где находится Джеймс и чем он занят. Попробовать обратиться в какой-нибудь армейский штаб или в министерство обороны? Но там, конечно, скажут, что им «ничего не известно».
Я допил вино. От огня осталась только кучка золы в неярких красных мазках. Я глубоко вздохнул при мысли о стольких впустую потраченных годах, когда нас с Джеймсом могла бы связывать настоящая дружба, а не просто родственные отношения, натянутые и неловкие, или, пожалуй, скорее даже вражда. Я подсел ближе к столу и порылся в куче нераспечатанных писем — не увижу ли какой-нибудь знакомый почерк. От Джеймса, разумеется, ничего не было, его почерк я бы сразу узнал. Может быть, Сидни захотелось дать мне свою версию истории с «молодой актрисой»? Внимание мое задержалось на письме с лондонским штемпелем, адресованном «М-ру Ч. Эрроуби» человеком, явно непривычным к латинскому алфавиту. Я пододвинул его к себе и открыл. Написано оно было, судя по дате, два дня назад и гласило:
«Многоуважаемый мистер Эрроуби!
С прискорбием я вынужден сообщить Вам печальную новость. Я не нашел в справочнике Ваш номер телефона. Но Вы можете позвонить по телефону мне, номер есть на этой бумаге. Печальная новость такая: скончался Ваш кузен мистер Джеймс Эрроуби. Я его врач. Он оставил мне записку, что вы его кузен и наследник и чтобы я сам известил Вас о его кончине. Я это и делаю. И еще хочу сообщить нечто только Вам. Мистер Эрроуби умер спокойно и тихо. Он пригласил меня к себе по телефону и, когда я приехал, был уже мертв, а дверь оставил открытой. Он сидел в своем кресле и улыбался. Я должен Вам это сказать. Случайно, но и не случайно, я оказался его врачом. Я индиец, из Дехрадуна. Когда я познакомился с мистером Эрроуби, мне сразу стало ясно, что он многое знает. Может быть, Вы меня поймете. У меня было предчувствие насчет него, и когда я к нему приехал, то понял, что случилось. В северной Индии я видел такие смерти и говорю это Вам, чтобы Вы не слишком горевали. Мистер Эрроуби умер счастливый, достигнув всего. В свидетельстве я написал причину смерти — «сердечная недостаточность», но это было не так. Есть люди, которые могут выбрать час своей смерти и умереть не от физических причин, а одной силой воли. Так было и с ним. Я посмотрел на него с великим почтением и склонился перед ним. Он умер без страданий, потушив свое сознание силой собственной мысли. Это хорошая смерть. Поверьте мне, сэр, он познал озарение.
Буду к Вашим услугам по данному номеру телефона. С самыми покорными пожеланиями остаюсь преданный Вам
П. Р. Цанг».
Я прочел это письмо дважды, и на меня снизошел грозный холодный покой, и я долго сидел неподвижно, как статуя. Мне и в голову не пришло заподозрить в этом странном письме обман или ошибку. Я не сомневался, что Джеймс умер. Он умер тихо, легким нажатием мысли навсегда погасил беспокойно мерцающий огонь сознания. Я ощутил глубокую печаль — она свернулась клубком и затаилась, словно боясь пошевелиться. И еще я испытал странное, новое, никогда прежде не испытанное чувство, которое не сразу распознал как одиночество. Без Джеймса я наконец остался совсем один. Как же много для меня всегда значило его присутствие в этом мире — словно он был мне не просто родственником, а братом-близнецом.
До полуночи оставалось всего несколько минут. Да, завтра мне не миновать ехать в Лондон. И я растерянно спросил себя, что же было дальше, что с ним сделали? Или он так и сидит в своем кресле мертвый, с этой своей глуповатой улыбкой на лице?
Я встал и хотел было идти наверх, но вспомнил, что приготовил себе постель на скалах, и решил идти туда. Ночь была теплая, и стемнело ровно настолько, что стали видны редкие звезды и бледная размытая арка Млечного Пути. Но какой-то рассеянный свет еще исходил от неба, и я вспомнил, что сегодня, кажется, самый длинный день в году. Я без особого риска проделал путь по скалам, которые успел так хорошо изучить, только раз нога съехала в озерко. Вода в озерке была теплая. Я нашел свое жесткое ложе и растянулся на нем, в рубашке и в брюках, сняв только ботинки. Голову я пристроил так, чтобы мне виден был горизонт, обозначенный одной темной линией и одной серебряной. Волны тихо плескались внизу, как о борт медленно скользящей лодки.
Почему Джеймс умер, почему решил умереть сейчас? Была ли на то непосредственная причина, которую я мог бы понять, или это часть какой-то обширной жизненной программы моего кузена, совершенно для меня непостижимой? Одна за другой рождались нелепые догадки. Может быть, это как-то связано с Лиззи? Нет, исключено. Или с Титусом? Может, он вообразил, что повинен в смерти Титуса, и его замучило раскаяние? Я даже готов был допустить, что Джеймс действительно знал Титуса раньше, а возможно, и был тем таинственным незнакомцем, который обучил Титуса светским манерам и подарил ему стихи Данте. Но это было немыслимо, о таком обмане нельзя было и думать всерьез. Лежа на спине и глядя на небо, я увидел, как золотой спутник не спеша и как бы прилежно пустился в дорогу по небесной дуге, словно спокойно улетающая душа. Джеймс сказал, что ему предстоит путешествие. Путешествие в смерть. Это и был его последний «фокус».
Нет, я не мог связать этот уход ни с какой отдельной понятной причиной. Решение Джеймса возникло в каком-то другом плане существования, коренилось в совсем иной плоскости духовных приключений и злоключений. Какой бы «изъян» ни вызвал, как представлялось Джеймсу, смерть его шерпы, то была лишь часть некоей более общей картины. Религия — сила, иначе и быть не может, и, однако же, в этом ее проклятие. Применение силы — опасная забава. Может быть, Джеймсу просто захотелось сбросить с себя груз мистики, которая не сработала, духовности, которая каким-то образом выродилась в магию. Что, если он сам себе стал противен, потому что был вынужден употребить свою «силу» для спасения моей жизни? Было ли то последней каплей и в конечном счете во всем повинен я? Оказался ли я неблагодарным грузом, роковой привязанностью? И тут я с грустью понял, что могло означать его последнее посещение. Джеймс пришел помириться со мной, но не ради меня, а ради себя, чтобы не упрочить узы, а разорвать их. Он знал, что мы беседуем в последний раз, потому и был такой раскованный, искренний, такой, как никогда, откровенный и кроткий. Его привело желание не просто помириться, а избавиться от последней неотвязной заботы. Тревога, а может быть, чувство вины в связи с его злосчастным кузеном могло затуманить безоблачно спокойный уход, на который он, возможно, уже давно решился.
Как-то прошло это расставание с жизнью, подумалось мне. Посетило ли его видение «всей реальности», которая открывается человеку в минуту смерти и которой нужно немедля воспользоваться? Поспешил он на это свидание с радостью и теперь в своей блаженной обители «свободен», что бы это ни значило? Или его, больного и слабого, как тень Ахилла, заточили в некое чистилище искупать грехи, каких я и вообразить не могу? Скитается ли он в каком-то темном, кишащем чудовищами «бардо», где встречает подобия людей, которых некогда знал, и его пугают демоны? «Какие сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят?» Как можно выбраться из «бардо»? Я не помнил, что Джеймс ответил мне на этот вопрос. Почему я не попросил его объяснить? Может быть, он там встретит и меня в образе какого-нибудь неотступного ужаса, мерзкого призрака, меня, каким я ему представлялся? Если так, молю Бога, чтобы он, когда достигнет освобождения, не забыл меня, но, исполнившись жалости и сострадания, узнал правду. Что бы все это ни значило.
Пока я лежал, прислушиваясь к легкому плеску волн и думая эти невеселые странные думы, надо мной загоралось все больше звезд, они уже слились с краями Млечного Пути и заполнили все небо. И далеко-далеко в этом золотом океане отдельные звезды беззвучно падали и погибали среди сонма сплошных золотых огней. И тихо, одна за другой, раздвигались прозрачные завесы, а за ними были еще звезды, и еще, и еще, как в волшебном «Одеоне» моей юности. И я заглянул в бескрайний купол вселенной, пока она медленно выворачивалась наизнанку. Я заснул, и во сне мне слышалось пение.
Когда я проснулся, занималась заря. Мириады звезд исчезли, небо было туманное, чуть голубое, сверху лился необъятный, ровный, прохладный матовый свет, солнце еще не вставало. Ясно были видны скалы, еще не тронутые красками. Море застыло — гладкое, серое, неподвижное, ограниченное на горизонте лишь тончайшей, еле видной линией. Стояла полная тишина, впрочем, не мертвая — мчащаяся в пространстве планета словно дышала. Я вспомнил, что умер Джеймс. Кто она, наша первая любовь? Как знать.
Я приподнялся и, стоя на коленях, стал стряхивать подушки и одеяла, намокшие от росы. И вдруг из воды до меня донесся какой-то звук, неожиданный и пугающий в этой тишине, — внезапный, довольно громкий плеск, точно под самой моей скалой что-то хотело всплыть, может быть, вылезти на берег. Поборов минутный страх, я повернулся и перевесился через край обрыва. И увидел перед собой четырех тюленей, с любопытством задравших кверху мокрые собачьи морды. Они плавали так близко от берега, что я, кажется, мог бы до них дотянуться. Я смотрел вниз на их острые мордочки всего в нескольких футах подо мной, усы, с которых стекала вода, внимательные круглые глаза и лоснящиеся, грациозно изгибающиеся мокрые спины. Они резвились, тихонько пофыркивая и чавкая и все время глядя на меня. И, наблюдая за их игрой, я не сомневался, что это доброжелательные создания, явившиеся проведать меня и благословить.
ПОСТСКРИПТУМ ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
На этом, в сущности, моя повесть должна бы кончиться, в ней теперь есть все — тюлени и звезды, объяснение, смирение, покорность судьбе, и все озарено неким высшим, хоть и неясным смыслом, ум спокоен и страсти улеглись. Однако жизнь в отличие от искусства обладает досадным свойством — хоть и спотыкаясь и прихрамывая, двигаться все дальше, сводя насмарку моральные перерождения, ставя под сомнение разгадки и вообще показывая полную невозможность жить праведно и счастливо до последнего вздоха; вот я и решил, что стоит еще немного продлить мою историю, теперь уже снова в форме дневника, хотя мне ясно, что, поскольку это книга, автору придется, так или иначе, ее закончить, и притом очень скоро. В частности, мне подумалось, что нельзя ставить точку, описав похорон Джеймса, хотя похороны Джеймса были таким антисобытием, что описывать, собственно, нечего. И еще мне подумалось, что надо воспользоваться случаем и связать кое-какие повисшие концы, хотя как следует связать повисшие концы, разумеется, невозможно — все время появляются новые. Время, как море, развязывает любые узлы. Суждения о людях никогда не бывают окончательными, они рождаются из итогов анализа, сразу же требующих пересмотра. Человеческие воззрения — это всего лишь повисшие концы и туманные выкладки, что бы ни утверждало искусство нам в утешение.
На дворе август — не золотой провансальский август, каким он видится английскому воображению, а обычный прохладный лондонский август, и в конце моей улицы ветер гонит Темзу к морю. Да, да, я в квартире Джеймса. Юридически это теперь моя квартира, но на самом деле она как была квартирой Джеймса, так и осталась. Я не решаюсь ничего здесь изменить. Едва решаюсь что-то передвинуть. Кумиры «народных суеверий» окружают меня. Часть самых диковинных фетишей я осмелился убрать в шкаф, надеюсь, они на меня не обиделись, и снял стеклянные подвески в холле, потому что их звон не давал мне спать. А замысловатая деревянная шкатулка с плененным демоном так и высится на своем кронштейне. (Джеймс не отрицал, что в ней сидит демон, на мой вопрос он тогда только посмеялся.) И бесчисленные Будды все на месте, только одного я подарил Тоби Элсмиру, потому что его, видимо, задело, что Джеймс не упомянул его в завещании. По завещанию все досталось мне, а на тот случай, что я умру раньше Джеймса, — Британскому буддийскому обществу. Им я тоже подарил одного Будду.
Сегодня опять получил от агента недовольное, с недомолвками письмо. Шрафф-Энд продается. Я не провел там ни одной ночи после той ночи со звездами, когда утром приплыли тюлени. Пока я отбирал, что взять с собой, я жил в отеле «Ворон». Из моего номера была видна башня, а дом — нет. Никто как будто не хочет его покупать, то ли из-за сырости, то ли по другим причинам. Аркрайты с фермы Аморн, у которых хранятся ключи, обещали отремонтировать крышу, но, по словам агента, ничего не сделали. К счастью, деньги мне срочно не требуются — по завещанию Джеймса я более чем обеспечен.
Так вот, нужно все-таки описать похороны Джеймса. Они были до странности никакие. К счастью, мне не пришлось заниматься их организацией. Все хлопоты взял на себя некий полковник Блекторн, который и появился с этой целью, а затем исчез. Когда я приехал в Лондон наутро после получения письма от врача, я застал в квартире Джеймса и самого врача, и полковника Блекторна. Полковник объяснил мне, что взял на себя приготовления к похоронам (кремации), потому они не могли связаться со мной, но что, если это не отвечает моим пожеланиям… Я сказал, что отвечает. Я хотел поговорить с врачом, но он стушевался, пока полковник еще объяснял мне, как проехать в крематорий. «Джеймса», благодарение Богу, уже перевезли в «часовню упокоения». Я не поехал его навещать.
Кремация состоялась два дня спустя в одном из новых парков на севере Лондона. После впечатления, что ты окружен людьми, какое бывает на кладбищах, в этих «садах воспоминаний», ощущаешь какую-то унылую пустоту. В церемонии не было ни красоты, ни тепла, к тому же персонал поторапливал, а до этого нас заставили ждать, пока они там управлялись с предыдущим «клиентом». Уважаемый полковник, безусловно, проявил предусмотрительность, заранее абонировав для нас «щель». Он и сам приехал, и врач тоже. Приехал и Тоби Элсмир, видимо, не на шутку расстроенный. До этого (да и после этого) я не задумывался над его отношениями с Джеймсом, но, каковы бы они ни были, зародились они, надо полагать, в далеком прошлом. Джеймс и Тоби не только вместе служили в армии, они вместе учились в школе. Возможно, в школьные годы Тоби им восхищался, а такое восхищение иногда сохраняется на всю жизнь. Появились еще четверо мужчин в элегантных черных костюмах, скорее всего военные. Они, очевидно, не знали, кто я такой, и Тоби с ними не был знаком. С Тоби мы обменялись несколькими словами, а больше со мной никто и не заговаривал. Вся процедура заняла считанные минуты. Никаких молитв, конечно, не было, только поиграла тихая, вялая музыка да постояли в молчании, пока какой-то служащий не нарушил его, с шумом распахнув дверь в глубине зала. Тут я пожалел, что не позаботился о более торжественной церемонии. Впрочем, любой обряд, который я бы предложить, вероятно, оскорбил бы душу Джеймса. Жаль только, что у меня недостало ума заказать в его память какую-нибудь хорошую музыку.
Мы вышли в парк. Полковник Блекторн пожал мне руку. Все стали разъезжаться. Я опять хотел поговорить с врачом, но он сказал, что его ждут в больнице. Может, он немного нервничал из-за свидетельства о смерти. Тоби из вежливости предложил подвезти меня в своей машине, но я отказался. Думаю, что ему тоже хотелось побыть одному. Я долго бродил по всяким глухим печальным переулкам и даже заблудился.
Только что нашел в одном из ящиков в кухне тот молоток, который я пытался починить, когда Джеймс в последний раз явился в Шрафф-Энд. Видимо, он от греха увез его с собой. Кухня мне нравится. При ней есть просторная кладовая, которую я нашел совершенно пустой. А из окна видна Бэттерсийская электростанция, вечером напоминающая какой-то ассирийский памятник.
Свою квартиру в Шепердс-Буше я продал и часть обстановки перевез сюда. Привез я свое добро и из Шрафф-Энда, но из имущества миссис Чорни не захватил ничего, устоял даже перед искушением оставить себе овальную раму от зеркала, которое разбила Розина, — новое зеркало я в нее так и не вставил. Большую часть своих вещей я убрал к Джеймсу в гардеробную. Теперь в храме Джеймса это маленькая часовня Чарльза. Иногда я захожу туда посидеть. Ящики с книгами так и стоят нераспакованные в холле. Одежда моя почти вся в чемоданах — не хватает духу разобрать аккуратно развешанные, аккуратно сложенные вещи Джеймса. Большой гардероб в его спальне — как дверь в другой мир. Не могу сказать, чтобы в этой квартире я чувствовал себя дома, но жить где-то еще — это для меня исключено. Иногда мне просто не верится, что его здесь нет. Вчера вечером я был так убежден, что он в соседней комнате, что пошел проверить.
В пятницу побывал у Лиззи и Гилберта в их квартирке в Голдерс-Грин. Я время от времени их навещаю, и они потчуют меня замысловатыми пахучими блюдами, на приготовление которых тратят целые дни. Гилберт пользуется большим успехом в роли комического героя нелепой и нескончаемой многосерийной телепередачи. Впервые в жизни к нему пришла известность, люди подходят к нему на улице поздороваться. Даже критики сравнивают его с Уилфридом Даннингом, что, конечно, глупо. У Лиззи вид довольный. Она бросила работу в больнице и пополнела. Оба они все толкуют о том, как когда-нибудь мы поселимся в одном доме, я буду жить наверху, а они внизу, на правах дворецкого и экономки. Мы шутим на эту тему.
Кажется, они начинают обращаться со мной как с больным стариком. Они считают, что жить в квартире Джеймса — это ужас. К себе я их, конечно, не приглашаю. Я никого сюда не приглашаю.
Не иначе как я вхожу в роль холостого дядюшки-исповедника. Вчера я водил в кафе мою секретаршу мисс Кауфман (не уверен, упоминал ли я о ней) и выслушал грустную историю о ее престарелой матери. А потом угощал завтраком в дешевом ресторане Розмэри Эш и узнал все как есть про Сидни и Мабель. Мабель двадцать лет. Розмэри все не теряет надежды, что Сидни одумается. Дети в восторге от Канады. Розмэри считает, что на ее развод они смотрят слишком философски. Я с удовольствием убедился, что события в Шрафф-Энде Розмэри представляет себе очень смутно, и не стал ее просвещать. По ее сведениям, я подвергся преследованиям какой-то сумасшедшей местной жительницы, и еще утонул мальчик из Гилбертовых дружков. К счастью, она была не в настроении обсуждать мои проблемы.
Сейчас поздний вечер. Будды словно смотрят на меня, хотя я знаю, что под опущенными веками зримый мир им не виден. В квартире очень пыльно, я еще не рискую договориться с уборщицей. Кое-где по верхам я сам стираю пыль, но двигать предметы с места на место избегаю, среди них есть бьющиеся. Особенно опасливо я отношусь к шкатулке с демоном на высоком кронштейне! Не становится ли квартира все более похожей на музей по мере того, как дух Джеймса все дальше от нее отлетает? Обжитая мною территория не расширяется. Ем я в кухне, оттуда спешу обратно к этому столу в гостиной. Одеваюсь в холле. Сплю в большей из двух запасных спален. В постель Джеймса я, разумеется, не решаюсь ложиться. Его прекрасная спальня стоит пустая, я затворил туда дверь.
Я вступил наконец во владение столом и расставил на нем тех соблазнительных нефритовых зверюшек, которые мне особенно нравятся. Пресс-папье для писем и бумаг (мисс Кауфман, спасибо ей, все еще мне помогает) служат два камня — тот розовый с узором, который я подарил Хартли, и коричневый, с голубыми прожилками, который я подарил Джеймсу. Мне было приятно увидеть его здесь, когда я приехал. Я часто беру в руки то один из этих камней, то другой. Пристроил я на столе и два снимка — тот, на котором дядя Авель танцует с тетей Эстеллой, и снимок Клемент в молодости, в роли Корделии. Ни одной подходящей фотографии родителей мне не попалось, и, конечно, недавних снимков Джеймса тоже нет. Ясно, что к своему путешествию Джеймс готовился в высшей степени тщательно. В квартире не осталось никаких личных бумаг (может быть, полковник Блекторн что-нибудь изъял?). Не осталось никаких интересных реликвий — ни старых писем, ни снимков, ни счетов. Завещание лежало в тонком, перевязанном ниткой конверте вместе с выпиской из банка касательно помещения капитала. Ничто не указывало на консультации с поверенным. Завещание Джеймс писал собственноручно. Оба свидетеля, судя по подписям, были люди без образования. Довольно долго я почему-то воображал, что где-то спрятано письмо, адресованное мне. Я искал его всюду, заглядывал даже в щели в стенах.
Вчера на небольшом сборище у Лиззи и Гилберта кто-то рассказал, что у Перегрина дела с театром в Лондондерри идут хорошо, а его выступления за мир в Ирландии снискали ему широкую известность. Розина от него старается не отставать и, по слухам, увлечена политикой и идеей власти. Гилберт говорит, что затея Фрицци с «Одиссеей» провалилась.