Бес в ребро Вайнер Георгий
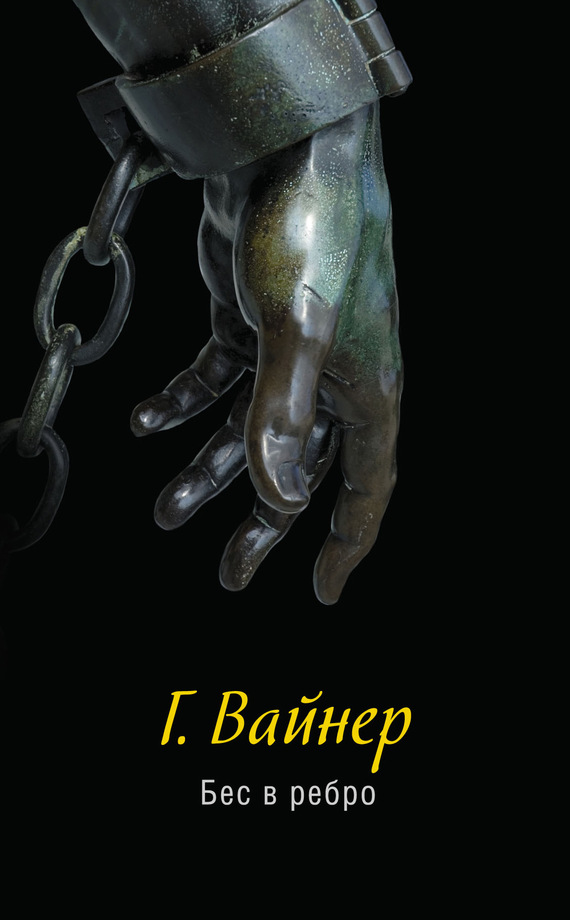
Ту-ту-ту-ту-ту… Я обескураженно держала трубку в руках, не замечая, что ухо у меня не озябло, а горит огнем.
Господи боже мой, это кто, я — подстилка мерзкая? Я — подзаборная дрянь?
Что это меня сегодня волтузят непрерывно? И хотелось бы узнать — за что? И когда это мне говорили, чтобы я этот номер забыла? И откуда известно, что это звоню я?
Ба-ба-ба-ба! Это же не со мной говорили! То есть со мной, но принимали там меня за кого-то другого! За другую. И эта другая, видимо, сильно достала женщину на чагинском телефоне. Вряд ли его секретарша имеет полномочия с кем бы то ни было разговаривать так по телефону. Значит, жена. Очень интересно…
Меня охватило чисто женское сплетническое возбуждение. Я чувствовала, что неожиданно и совершенно случайно получила какую-то очень важную для меня информацию.
— А вы, однако, увлеклись разговором… — услышала я голос Ларионова за спиной.
Оглянулась, а он, улыбаясь, показал мне глазами на телефонную трубку, которую я все еще держала в руках.
— Да, хорошо поговорили, душевно, — кивнула я, повесила трубку на рычаг и вышла из будки. — Я с женой Чагина говорила…
— Чагина-а? — поразился Ларионов. — Почему? Почему вы с ней говорили?
— Потому что она сняла трубку, — честно разъяснила я. — Она приняла меня за какую-то другую женщину, видимо, подругу своего замечательного супруга, и чудовищно лаяла меня… Я не знаю, кого она так поливала, но и она не узнает, кому это все досталось…
Как всегда напористо и не спеша, Ларионов спокойно сообщил:
— Я думаю, что она чесала так строго Риту…
— Кого? Риту?
— Ну, да! Ту самую девицу, которая была с ними в машине, а потом скоропостижно исчезла…
— Почему вы решили?
— Я думаю, что само по себе ее присутствие в этой компании недозволенно. Она никак не должна фигурировать в скандале, иначе зачем им надо дружно врать, что никакой женщины с ними не было. И, кстати говоря, лишать себя еще одного свидетеля…
— Вон, оказывается, какой вы Шерлок Холмс, — протянула я недоверчиво. — А может быть, это девушка Шкурдюка? Или Поручикова?
— Шкурдюка — не может. Нет необходимости ее скрывать: Шкурдюк — свободный, холостой мужчина, тротуарный ковбой, с кем хочет, с тем и хороводится. А Поручикова — может… Но только он весь махонький, незаметный, сизо-серый, такая шикарная девица не для него… Это скорее калибр жизнелюба Чагина…
— Вы хотите сказать, что чагинская жена знает об этой девушке? — спросила я. — То есть, попав в скандал, они быстро сплавили девушку, чтобы не открывать второй фронт в тылу у Чагина?
— Ну конечно! — засмеялся Ларионов. — Это же так понятно… Он дома раньше засветился своими походами «налево», а с женой лишнего ссориться неохота, там есть папанька грозный. Если рассердить сильно, может через себя кинуть хуже, чем я…
— Вон, оказывается, какой расклад мы имеем. — Я вдруг обнаружила, что страх, терзавший меня, как боль, бесследно исчез. — А как вы относитесь к тому, чтобы поохотиться в их угодьях?
— В каком смысле? — не понял Ларионов.
— Они все время врут. И почему-то так выходит, что это грязное лганье все принимают как правду. Может быть, надо попробовать заставить их силой сказать какую-то правду?
— Есть только одна такая сила — страх, — пожал плечами Ларионов. — Страх, что может неожиданно всплыть какая-то другая, гораздо более неприятная правда.
— Поехали на стадион, — схватила я Ларионова за рукав и потащила к остановке. — Ничего он мне не сделает… Побоится…
— Кто? Чагин?..
— Я о своем главном говорю… Побоится он связываться с Барабановым… Судя по разговорам, Барабанов может и его нашлепать чувствительно…
Такие лабиринты коридоров и залов для укрепления здоровья и развития физической культуры скрыты, оказывается, под трибунами стадиона! Я шла, как кладоискатель по недостоверной карте, — справлялась у встречных, рассматривала загадочные таблички, читала непонятные надписи на указателях, и во всей этой круговерти переходов, круто изломанных поворотов, пробросов по лестницам вверх и вниз, в освещенных пожарными табло тупиках я никак не могла уловить ни намека на связь с внешней архитектурой стадиона, на пустой трибуне которого остался ждать меня Ларионов.
Казалось, что проектировщики специально запутали всю внутреннюю планировку, исходя из непреложной мысли: кому надо, тот знает где здесь что, а кто не знает, тому и делать тут нечего. И людей было маловато. Если бы не доносились из-за перегородок и дверей тугие шлепки мячей, гулкие хлесткие удары и раскатистый звон «блинов» брошенной на помост штанги, можно было бы подумать, что сейчас глубокая ночь, а натрудившиеся за день физкультурники давно разошлись по домам, забыв выключить люминесцентное освещение в бесконечных пустых коридорах.
И усиливая это ощущение безлюдства, отсутствовала на своем месте cекретарша в приемной. А дверь в кабинет Чагина была приоткрыта, и я слышала оттуда приятный мужской баритон. Я просунула голову в щель и спросила:
— Можно?
Ой, какой замечательный кабинет был у Чагина! Чтобы попасть в такое обиталище, имело смысл поплутать по всем этим переходам, лестницам и коридорам. Тем более, что стеклянная дверь в стене с огромными зеркальными окнами выходила прямо на улицу. Точнее сказать, на трибуну стадиона. Сидя в глубоком финском кресле за низким журнальньным столиком можно было со всеми удобствами наблюдать любые ристалища на спортивной арене.
Чагин, не отрываясь от телефона, кивнул мне и показал на кресло. Он лениво и односложно отвечал собеседнику, внимательно разглядывая меня. А я через шикарные линзы окон смотрела на нежно-зеленое поле, ребристый серый раструб трибуны напротив, похожей сейчас в своей пустоскамеечной оголенности на вздыбившуюся стиральную доску. Во втором ярусе сидел на лавке какой-то человек, и я сразу поняла, что это Ларионов. Он был совершенно один на огромном ступенчатом скате трибуны, и пустые ряды вокруг него закручивались стоячим бетонным водоворотом, и в этой бездонной мертвой воронке он казался мне сейчас затерявшейся бессильной крупинкой жизни. И впервые мне стало его по-настоящему, от сердца, жалко.
А Чагин, закрыв на миг широкой ладонью микрофон сказал любезно:
— Вы, Ирина Сергеевна, устраивайтесь поудобнее…
Остолбенело смотрела я на него. Оперативность и информированность у них — позавидуешь! Что ж делать, надо с восторгом и некоторым оцепенением взирать на таких людей! Тем более что посмотреть было на что.
В интерьере из финской темной мебели, в окружении бесчисленных вымпелов, кубков, штандартов, призов, каких-то флажков, тесно унизанных значками и медальками, у телевизора «Шарп», рядом с холодильником «Филлипс», под вентилятором «Мицубиси» сидел красавец.
Несколько пухловатый. Набивной-надувной красавец, весь из себя благоухающе-прекрасный, на которого, непереносимо хотелось наклеить этикетку «Ив Карденович Сен-Лоран». Я поражалась беззаветной храбрости Ларионова, который решился такое трогать руками. Такое можно только с восторгом рассматривать в витрине, а не вышибать ее этим мужественным, немного одутловатеньким лицом, покрытым сейчас героическим гримом царапин и ссадин.
Мы смотрели друг на друга с видимым удовольствием. Потому что Чагин вдруг решительно прервал свой вялый поток междометий и продемонстрировал, что он не только красив, но и житейски опытен, по-настоящему философически мудр.
— Дуся ты мой хороший, — сказал он своему собеседнику задушевно. — Запомни, дурачок ты мой сладкий, женщина — это самка человека… И качество ее определяется только количеством ласкаемой поверхности… А все остальное, голуба моя, гроша ломаного не стоит… Не объясняй мне ничего, дурачина-сложнофиля… Поезжай и все реши… Быстро и шустро, как говорил Заратустра… Настоящий мужик-бабоукладчик всегда знает, что надо делать, нежный ты мой… Нет, я приехать не смогу… Дела, дуся, не могу, дела… У меня тут с девушкой назначен сеанс одновременной игры… Бывай, мой лапочка… Если кто обидит, сразу ко мне… Я тебя, дуся, поддержу… Пока…
Еле слышно гудел никелированный вентилятор, неспешно разворачивая по сторонам свою блестящую ветряную морду, — в нем было так много самолетного, что я стала ждать, когда под ним вспыхнут буквы: «Не курить! Пристегните ремни!» Может быть, они бы и загорелись на стене и серебристо-голубой вентилятор взмыл бы в это серое низкое осеннее небо, пробив толстую пленку стекла, но Чагин положил трубку и любезно улыбнулся мне:
— Итак, Ирина Сергеевна, дуся вы моя дорогая, что значит ваш визит? Голубица белая, мироносица? Или грозная орлица, ястребица, коршуница? Жестокая птица войны, кровопролития и мести?
— А вы разве боитесь войны и мести, Владимир Петрович? — спокойно спросила я.
— Помилуйте, Ирина Сергеевна, дуся моя! Как всякий советский человек, я ненавижу войну! Я — часть миролюбивого человечества — всей душой против несправедливых, захватнических войн! Но как наследник боевых славных традиций наших героических отцов всегда помню о том, что если завтра война, если завтра в поход, то наш бронепоезд стоит на всякий случай на запасном пути…
— Вы мне показались больше наследником героических традиций ваших тестей, — скромно заметила я. — Отец жены, кажется, называется тесть?
— Фи, дуся моя любезная! Это пошло. — Чагин осуждающе помотал своим красивым, чуть отекшим лицом. — Фи, повторяю! Пошлость на грани банальности. Банальность, переходящая в тривиальность. Тривиальность, смахивающая на трюизм. Я вижу, что вы хотите не мира, но мести. А месть, вообще мстительность — чувство неплодотворное и неперспективное…
— Разве?
— Уверяю вас, Ирина Сергеевна, дуся моя дорогая…
Ласковый нахал и въедливый шут. Я видела, что ему доставляет нескрываемую радость называть людей оскорбительным словом «дуся». И всеми своими грязными разговорами он хотел меня сильнее разозлить и вывести из себя — заставить разреветься, разорваться от унижения и злости.
— У мести, Ирина Сергеевна, кислый запах разочарования и горький вкус от пепла наших надежд. — Он доброжелательно смотрел мне в лицо, снисходительно покачивал многомудрой, толстой башкой.
— Приятно поговорить с интеллигентным, начитанным человеком, — ответила я душевно. — Вы производите глубокое впечатление эрудита, настоящего знатока сборника «Крылатые фразы»…
— О, Ирина Сергеевна, как вы меня грубо умыли! Как унизили моей невысокой образованностью! Вы не боитесь вселить в меня на всю жизнь жуткий комплекс неполноценности? — Он весело, от души захохотал.
— Нет, не боюсь, — смирно ответила я. — Ваше состояние определяется специальным термином — неконтролируемый комплекс сверхполноценности…
— Да-а? — озаботился он. — Надо бы запомнить… Хотя зачем мне это? Нет, пожалуй, ни к чему. У меня, Ирина Сергеевна, необычная память — забываю, как зовут неудачников, не помню бесполезное себе, не вспоминаю вчерашние заботы… И вообще человек я мягкий, дружелюбный, незлобивый, как большой красивый цветок… Трудно мне жить в мире озверелых людей, скандалистов, грубиянов и драчунов…
Он говорил упористо-мягко — «вощ-щ-е». Въедливый шут. Я перебила:
— И когда устаете от грубиянов, то идете на них с отколотой бутылкой?
— Случается, — охотно согласился он. — Но это, как говорится, не для протокола. Между нами. Антр ну, как говорят французы. В жизни всякое случается, и люди должны научиться прощать друг другу маленькие слабости…
— Например, плевок в лицо?
— Да, и плевок в лицо, — кивнул он. — Взгляните на мой фейс — я пострадал больше всех, но я не только не затаил в душе злобы против ближнего своего, прохожего матроса, вашего дружка, а проявил христианскую готовность всех и вся простить, раскрыть братские объятия примирения и разойтись как в море корабли! Но ослиное упрямство вашего дружка гонит его прямоходом в тюрьму…
Я посмотрела через окно на трибуну — Ларионова уже было не видно, его размыли надвигающиеся сумерки.
— А Шкурдюка? — осведомилась я кротко.
— Ну о ком вы говорите, Ирина Сергеевна, дуся моя? Шкурдюк — животное, потный антисанитарный скот, который в пьяном виде становится просто сумасшедшим. И у меня были способы наказать его очень сильно без всякой милиции и прокуратуры. Я ведь предлагал Ларионову потом: хочешь, плюнь Шкурдюку в рожу хоть десять раз! Хочешь, он перед тобой на колени встанет и до вокзала тебя так провожать будет! Но вашему, простите, придурочному другу это почему-то казалось еще обиднее! Вот и связались теперь железный болван и вязкий дурак…
— Если я вас поняла правильно, то вы хотите посадить Ларионова в тюрьму для того, чтобы спасти своего Шкурдюка?
— А что мне остается делать? — развел руками Чагин. — Конечно, Шкурдюк скотина, но это моя скотина. И парень он, вообще-то говоря, неплохой. Я его бросить не могу. Да и Ларионов сам хорош! Мне его жалеть не за что… Не хочет по-хорошему, пусть тюремной баланды покушает…
Я заметила, что благодушное наглое шутовство Чагина постепенно и незаметно истаяло. Было отчетливо видно, что он сердит и расстроен.
— А вы знаете, Владимир Петрович, мне не кажется, что вы за Шкурдюка стали бы так ломаться…
— То есть? Что вы хотите сказать, голубка моя?
— Мне кажется, что на Шкурдюка вам плевать. Вы сейчас за себя боретесь.
— Дуся моя, наивнячка сладкая, вы что-то путаете. Мне за себя бороться не надо! Вина Ларионова доказана всеми свидетелями и материалами дела.
— Ах, оказывается, вина Ларионова уже доказана?
— Ну, будет доказана! Это ведь мы только здесь антр ну знаем, что Шкурдюк плюнул в вашего дружка… А в прокуратуре ни свидетели, ни тем более мы, потерпевшие, этого сказать не сможем… Должен вас огорчить…
— Я вас тоже должна огорчить, Владимир Петрович. В прокуратуре может рассказать, как Шкурдюк плевался в моего дружка Ларионова, ваша подружка Рита…
Чагин молча, очень пристально разглядывал меня, и выражение лица у него было такое, что я испугалась: как бы он не вынул отколотую бутылку из своего роскошного письменного стола. В наступившей тишине по-прежнему негромко гудел вентилятор, но мне казалось, что это гудит от напряжения и злости Чагин. Это гудение шло от него, как от трансформаторной будки, рядом остро пахло озоном. Хорошо было бы еще нарисовать на его гладком пузе череп с костями.
— Дуся моя, безумная женщина, вы что, надумали шантажировать меня?
— Упаси бог! Я хочу вам напомнить, что рассаживать безвинных людей по тюрьмам из воспитательных соображений, чтобы они впредь не были дураками вязкими, — дело рискованное. Можно самому проколоться…
Чагин помотал головой, поцокал языком и довел до моего сведения:
— Все-таки я убедился, вы не голубица мирная, а ястреб, птичка злющая и вздорная. Обещаю, что сегодня же начальство будет на вас громко топать, сипло кричать и вам придется грязно унижаться…
Я кивнула:
— Очень даже возможно. Но я потерплю. Потому что я знаю, как вас достать…
— Что вы имеете в виду? — осторожно спросил он.
— Я имею в виду разыскать Риту, и тогда не только руководство прокуратуры, но и руководство «Главзеленстроя» очень удивится, что она была с вами в машине…
Чагин помолчал немного и душевно сказал мне:
— Если вы не уйметесь, мне придется вас попросту уничтожить. Я ликвидирую вас как социальный факт… Может быть, буквально…
Только промчавшись несколько коридоров и переходов, я остановилась перевести дух и подумала о том, что в ужасе я пошла от Чагина обратно через все эти лабиринты вместо того, чтобы выйти из его кабинета прямо на улицу.
На стене висел красочный стенд «Наши лучшие люди». На стадионе было человек пятнадцать лучших людей, и где-то в середке красовался цветной фотографический портрет Чагина. Стенд был довольно старый, потому что под фотографией Чагина была приклеена напечатанная на машинке табличка: «Руководитель детско-юношеской школы спортивного мастерства, заместитель директора по водным видам В. П. Чагин». Стенд повесили, когда мой сладкий дуся из просто лучших людей пробивался к должности самого хорошего человека на стадионе.
Я оглянулась: в коридоре никого не было. Еще не соображая даже, зачем мне это надо, я протянула руку и аккуратно сорвала фотографию лучшего человека, положила ее в сумку и понеслась к выходу.
Под козырьком трибуны, скрываясь от начавшегося дождика, ходил заждавшийся Ларионов. Он взял меня под руку, и я почувствовала, что нас обоих бьет дрожь. Ничего не говоря друг другу, пошли к воротам. Над бревенчатым красивым домом вился белой струйкой дымок. У резного крыльца тормозили, с шиком шипели шипованными шинами широкие машины. Ларионов кивнул на дом:
— В Англии за особые заслуги дают орден Бани, а у нас — просто баню…
— А это что — баня? Такая красивая?
— Да, это баня. Чагинский бастион…
Ларионову надо было ехать в прокуратуру на очную ставку со свидетелями, а я решила отправиться к Поручикову. У меня не было другого выхода — надо по возможности их охватить в один день, потому что завтра меня возьмет за жабры главный. А так — за восемь бед один ответ.
На Пушкинском сквере я сказала Ларионову;
— Ни пуха ни пера… Отобьемся… Я вам вечером позвоню в гостиницу…
— Спасибо вам, Ирина Сергеевна. — Рывком схватил мою руку и прижал сильно к своему лицу. — Спасибо вам за все, спасибо, что вы есть…
Я не отрывала руки, хотя мне было как-то совестно перед прохожими. Неудобно. Мне хотелось его чем-то подбодрить, но я не знала, как это сделать. Постаралась пошутить:
— Надо не благодарить, а посылать к черту…
Он отвел мою ладонь от глаз, и я увидела, что у него лицо человека, не нуждающегося в подбадривании.
— Извините, Ирина Сергеевна, я не знаю, будет ли у меня еще случай сказать вам… Извините, я, наверное, не имею права говорить это… Но я боюсь, что вы не узнаете… Когда я увидел вас у Ады на даче, тогда еще, давно… У меня было чувство, что оборвалось сердце… Каждому человеку дается выбор из миллионов людей вокруг него… Но миллионы не нужны… В один прекрасный миг появляется человек, который… твоя потерянная половинка… Оторванная от тебя еще до твоего рождения… И вся жизнь иногда уходит на поиски того, без кого ты никогда не почувствуешь себя полноценным, нормальным, счастливым…
Он говорил еле слышно, но с такой силой, с такой убежденностью, с таким напором, с яростью, что я испугалась. Я оглохла от его шепота и сказала:
— Я не ваша половинка…
Ларионов мотнул головой:
— Вы меня не поняли… Я, я, Алексей Ларионов, не ваша половинка… А вы, вы, Ирина Сергеевна, моя… Вы — моя душа, моя мечта, утренние сны, вы — моя надежда… Вы меня плохо знаете, и наверняка я вам неинтересен, но я знаю про вас все, я слышу ваши мысли, я чувствую стук вашего сердца, мне весело, когда вам смешно, и я рвусь на части от тоски, когда вам грустно… Я знал про вас все, когда увидел вас впервые… Я никогда больше не появлялся… у вас любимый муж и отличные ребята… Из-за вас я не стал разводиться с Аленой — какая мне разница, если вас нет в моей жизни… И, честное слово, я не знал и не мог знать, что вы расстались с Виктором… Но в мире существуют вещи выше нашего знания — я в это верю… Позвонил Аде перед отъездом: ничего не хочешь передать сестре?.. Непереносимо захотелось вас увидеть или хотя бы услышать… Ничего я не планировал, ни на что не рассчитывал — я знал, что мне надо вас увидеть… Но перст судьбы — эта проклятая драка — схватил меня за ухо и уволок от вас навсегда…
— Почему?
— Я и не мечтал вам когда-нибудь понравиться, но человек не волен над собой — в душе тлела крошечная искра, что какое-то место мне найдется в вашей жизни. А получилось вон что…
— А что получилось? Мы с вами из-за этой истории видимся теперь каждый день…
— Да! Но нет более тягостного зрелища, чем мужик, выползающий из нокаута. Он вызывает боль, жалость и пренебрежение… А я ведь никогда не бывал жалким…
Неожиданно для себя я погладила его по голове и обняла:
— Все-таки мужчины — существа с очень странной психологией…
— Наверное, — легко согласился он. — Поэтому я хочу с вами, Ирина Сергеевна, попрощаться…
— В каком смысле? — не поняла я.
— Отправляюсь на вокзал и уезжаю в Одессу…
— То есть как это? Ведь возбуждено дело! Они вам всю жизнь разломают! — Я взволновалась всерьез. Как ни была я далека от всех законоуложений, но отдавала себе отчет в том, что поступок Ларионова удостоверит его вину, и он будет считаться скрывшимся из-под следствия.
— Черт с ними! — махнул он рукой. — Совсем не разломают! Там меня знают, не дадут на позор и распыл! Что бы мне ни говорили, есть еще понятия о чести, достоинстве! Не в блатных банях закон вершится!
— Послушайте меня, Алексей Петрович, нельзя этого делать! Вы своим отъездом самым лучшим образом подтвердите всю их ложь! Если бы они знали о вашем решении, они бы вам сами билет принесли! Ни в коем случае этого делать нельзя! Давайте я вам вечером позвоню, и все спокойно обсудим…
— Звонить некуда, — усмехнулся Ларионов. — Меня сегодня выписали из гостиницы…
— Почему?
— У меня Бурмистров паспорт отобрал. Сказал, что пока… А без паспорта в гостинице срок пребывания не продлевают… Я поэтому на поезде решил ехать, а так бы сегодня же на самолете улетел… На поездах, слава богу, паспортов не спрашивают…
— А где же ваши вещи?
— На вокзале, в камере хранения…
— Значит, сделаем так: вы едете на вокзал за вещами и приезжаете ко мне домой, ребята уже вернутся к этому времени. Я буду чуть попозже. И предупреждаю вас: если сбежите, я буду считать вас трусишкой, нокаутированным жуликами… И впредь руки не подам, слова не скажу, видеть не пожелаю…
У Поручикова был отдельный кабинет со стеклянной таблицей «Юридический отдел Архитектурно-планировочного управления», запроходная комната, смежная с канцелярией. А сам Поручиков был внетях, ходил где-то по этажам.
А я сидела в канцелярии на стульчике для просителей и терпеливо дожидалась его появления. Девочки-секретарши и бабушки-курьерши неспешно вершили свою ответственную письменно-разносную деятельность. В журналах — разных — регистрировалась входящая и исходящая почта, заклеивали по конвертам какие-то важные бумаги со штемпелями и печатями, на специальной машинке отбивали почтовые атрибуты и снова записывали в журналы. Но пока я сидела здесь, постепенно очаровываясь красотой и внушительностью письменного делопроизводства, попал мне на глаза журнал, приковавший к себе мое внимание полностью.
Толстая, немного засаленная по краям амбарная книга, посреди которой был приклеен прозаический ярлык «Книга учета прихода-ухода сотрудников секретариата и юридического отдела АПУ». Книга лежала на приставном столике рядом со мной, и я напряженно ждала момента — открыть и полистать бы! — не вызвав естественного удивления и негодования канцелярских служителей. И от этого время ожидания Поручикова мне не казалось тягостным, я мечтала, чтобы его подольше задержали многочисленные служебные и общественные дела.
Поручиков, повинуясь моей мольбе, не шел, но и канцелярские не редели. Кому-то наверняка были позарез нужны эти письма, коли четыре женщины, хоть и неспешно, но неостановимо раскручивали эту бесконечную бумажную карусель. И я было отчаялась, что какое-либо происшествие может отвлечь их внимание на одну-единственную нужную мне минуточку, но растворилась дверь, и какая-то женщина взволнованно сообщила:
— Девчонки! Девчонки, в буфете финскую колбасу по пять сорок дают!..
Мгновенно карусель притормозилась, и в буфет была снаряжена заготовительная экспедиция из девчонки-девушки и девчонки-бабушки. Еще одна девчонка-девушка помчалась в гардероб за сумкой, а остатняя бабушка сказала мне душевно:
— Не примет тебя сегодня Григорий Николаевич, зря сидишь, родная…
— Да я же сказала: не на прием я, мне ему от знакомых привет передать, — смело наврала я.
— Ну, как знаешь, сиди, если есть охота, — милостиво разрешила бабка и, отойдя в угол, наклонилась над электроплиткой, на которой варился в большой жестяной банке сургуч для печатей.
Не поднимаясь со стула, я протянула руку к амбарной книге и открыла наугад чуть дальше середины — 26 августа, разлинованный аккуратно список сотрудников с пометками об убытии-прибытии. Листанула еще пачечку страниц: 18 сентября, еще быстро два листа — вот оно, 22 сентября, понедельник. Быстро, быстро — вот, вот — Поручиков. «С 16 час. до 18 час. — согласовательная комиссия в облисполкоме». Порядок. Закрыла журнал, облегченно вздохнула. Руки тряслись. О волшебство недостижимого хладнокровия Штирлица!
Бабка сопела, что-то бурчала под нос, помешивая сосновой щепкой булькающее коричневое зловонящее варево.
Теперь я ждала Поручикова с особым нетерпением. Очень хотелось узнать у него, каким способом ему удается одновременно заседать в согласовательной комиссии облисполкома и участвовать в пьяной драке на улице.
И он пришел — почему-то со счетами бухгалтерскими в руках, мечтательно-задумчивый, как Орфей с цитрой. Рассеянно взглянул на меня:
— Вы ко мне?
— Да, Григорий Николаевич. Моя фамилия Полтева…
Он внимательно посмотрел на меня — не удивился, не напрягся, не испугался и не разозлился.
— Ага! Я уже слышал о вас, заходите…
Он уселся за стол, положил счеты и вытряс из картонной папочки кучу мелких денег. Очень ловко и быстро он стал сортировать их по купюрам, потом складывал в ровные пачечки и результаты пересчета записывал на бумажку. Я терпеливо следила за его кассирскими ухищрениями. Поручиков поднял голову и сказал со смешком:
— Очень доволен вашим визитом. Если бы вы не пришли ко мне, я бы вас разыскал сам. У нас ведь с вами роли в этой истории приблизительно одинаковые. — Поручиков достал из стола пачку сигарет «Ява» и протянул мне: — Курите?
В пачке лежали две сигареты. Под коричневато-желтым пробковым фильтром синенькими стройными буквами на белых палочках сигарет значилось: «Marlboro».
— Спасибо, я не курю…
— А я несколько штучек в день позволяю…
Ай-яй-яй, какой замечательный мужичок мне повстречался! Воистину человек без ненужных амбиций — в пачке «Явы» у него лежит «Мальборо»! Две штучки. В ящике стола у него наверняка есть надкусанный бутерброд с севрюгой, а в сейфе заперта початая бутылка коньяка «Двин».
Поручиков чиркнул спичкой, и в комнате поплыл синеватый дым, приятный аромат хорошего табака, перебивший вонь сургуча и клея.
— Так вот, роль у нас одинаковая и задачи, мне думается, одинаковые…
— А мне думается, что роли у нас совсем разные, — перебила я его сладкогласие. — Вы, как там ни крути, участник драки!
— Ошибаетесь, Ирина Сергеевна! Не участник я — свидетель! Сви-де-тель! — сказал он раздельно, сделав звучный курсив. — Я ни в каких драках не участник! Не был и не буду! Уличные бои — развлечения не из моей жизни!
— А что же вы там делали?
— Оказался случайным свидетелем, как на моих довольно дальних знакомых напал совершенно неизвестный мне прохожий, — загорелось его младенчески дряблое лицо скопца, раскраснелась старчески нежная кожа. — Сначала принял все меры для недопущения уличного эксцесса, а затем проследил, чтобы все было оформлено в соответствии с законом…
— Понятно, — кивнула я. — Это вы, наверное, в соответствии с законом согнали с места происшествия Риту?
— Риту? Какую Риту? — бесконечно удивился Поручиков. — Первый раз слышу. Впрочем, может быть, там и была какая-то женщина, но я вам сказал уже, что это довольно далекие мои знакомые. Я и двумя словами с ними не перекинулся, когда началась драка… Что скажете?
— Что скажу? Что вы очень умный и осторожный человек, Григорий Николаевич.
— Что есть, то есть, — готовно согласился Поручиков.
— В рассказанной вами версии все правда и все одновременно ложь…
— Почему ложь? — возмутился ненастояще Поручиков, он ведь не играл со мной всерьез, он репетировал, он обкатывал на мне свои показания.
— Были вы на месте драки? Были. Но в драке не участвовали. Напал неизвестный прохожий на Шкурдюка? Напал. Но почему напал, вы не видели. Знакомы вы с Чагиным и Шкурдюком? Знакомы, но не близкие друзья и не собутыльники. Была Рита? Не было. А может быть, была, но вы не знаете ее…
— Что же вам не нравится в моем рассказе? Я подчеркиваю — рассказе, а не версии, поскольку вы покамест не следователь…
— Да, я не следователь. Но я заметила, что в отличие от ваших друзей вы не верите в безоговорочную победу над Ларионовым. И оставляете себе на всякий случай лазеечки — вроде незапертой двери на черном ходе…
— Правильно, Ирина Сергеевна! У вас абсолютно мужской склад ума, и все вы рассудили правильно! Одно удовольствие потолковать с неглупой, интересной женщиной! И поняли вы меня правильно — будь моя воля, я бы сам Шкурдкюку сломал рога. Но, как говорят французы: ноблесс оближ, положение обязывает…
— Врать? Защищать хулиганов?
— Нет! Уклониться от падающего с крыши кирпича! Поверьте мне, я прожил голодную юность, исполненную трудов и унижений молодость и мучительно проживаю свою зрелость не для того, чтобы Шкурдюк плевался в прохожих, а Чагин молотил их по голове бутылками. Но я оказался в тот злосчастный час вместе с ними и могу потерять в одночасье все!
— Я вижу, что вы не больно высоко цените своих друзей, — усмехнулась я.
— А их и не за что высоко ценить, — деловито ответил Поручиков. — Но как бы катастрофически ни развернулись для них события, они очень мало пострадают. По сравнению со мной, конечно. Шкурдюк-паупер, аттракционный люмпен. Ему нечего терять, кроме цепей от карусели. Чагина отобьет, отмажет тесть. А я? Меня выкинут на обочину жизни, как кожуру от съеденного банана. Нет, нет, нет, Сократ мне друг, а своя задница, извините, пожалуйста, дороже…
— Значит, если вы не хотите пострадать из-за хулиганства ваших друзей, есть один выход — отправить Ларионова в тюрьму?
— Ирина Сергеевна, да что вы меня этаким кровожадным злодеем изображаете? Я с первого момента, как только прибыла милиция, изо всех сил старался покончить дело миром! Я вашего Ларионова просто умолял уйти по-хорошему! Разойтись всем в разные стороны! Я предлагал ему все: чтобы Шкурдюк извинился, Чагин на другой день вставит своим иждивением витрину, достанем и возместим магазину телевизоры! А он ни в какую! Вот и имеет теперь хороший компот! Две тысячи лет христианство слезно умоляет, сердечным упросом просит: ударили тебя по правой щеке, подставь левую, и будет мир во человецех! Тем более что Шкурдюк готов был извиниться…
— Вы же понимаете цену извинениям Шкурдюка, — заметила я.
— Понимаю! Он сам предложил Ларионову потом, чтобы тот в порядке сатисфакции плюнул ему в лицо трижды… Мол, от него не убудет…
— Да, от Шкурдюка не убудет, по-видимому… Но Ларионов хотел справедливости…
— Ой, Ирина Сергеевна, не говорите только мне высоких жалостных слов! Справедливость похожа на дрожжи, штука полезная, но в чистом виде несъедобная! Нельзя любить дрожжи! Сейчас поведение Ларионова — это не борьба за справедливость, а сутяжный бред, синдром правдоискательства. И времени почти не осталось! Завтра еще можно затормозить эту телегу с дерьмом, спустить как-то на тормозах с минимальными потерями…
— А послезавтра?
— А послезавтра, поет моя любимая певица, время, как часы, не остановишь. Вашего друга начнут кормить консервами для несговорчивых — печень Прометея в собственном соку…
— А ваши друзья будут по-прежнему плеваться, в людей и колотить их бутылками по голове?
Он тяжело вздохнул:
— Какие друзья? Какая дружба? Жизнь — мероприятие коллективное, и мы все с кем-то живем. А дружбы бывают только у подростков. Взрослые люди не могут и не должны дружить — нет времени и сил. Нет никакой дружбы! Я даже в энциклопедии посмотрел, что там ученые говорят об этом. Нет, отвечают, никакой дружбы. Остров Дружбы где-то есть в Полинезии, и Жан Друг, опознавший и выдавший короля Людовика, когда-то был. А дружбы просто так нет. Есть более или менее сбалансированная система обмена материальными вещами и моральными услугами… Этому надо дать совет, а этому — помочь экономически! Вот и все…
— Может быть, — согласилась я. — Я подумала, что лжец обречен на мучительное существование — надо все время помнить и не путать правду и выдумку…
— Это мне не трудно, — махнул рукой Поручиков. — У меня очень хорошая память…
С грустью, а не злостью смотрела я на него. Мне его уже стало немного жалко. В его завистливой, алчной душе долго бушевали яростные страсти, пока она не обросла бурой наждачной накипью, как дно старого чайника.
— Печально, Григорий Николаевич, что из-за необходимости врать в пользу своих недрузей вам придется прервать хоть и трудный, но победный путь из полной мизерабельности в абсолютные эмпиреи…
Он покачал отрицательно головой:
— Нет, это вам не удастся… Хотя нам повозиться с вами придется… И поскольку мы затеялись грозиться, хочу вам сказать: отойдите вы, бога ради, в сторону! Пока у нас что-то случится, у вас все дела враскосяк полетят…
Даже в прихожей ломило уши от телевизионного ора — на скачущем музыкальном фоне степенный мужской голос невыносимо громко объяснял что-то про прелести автомобилизма.
— Потише! Сделайте свой треклятый телек потише! — крикнула я внутрь квартиры.
Выскочила сияющая Маринка, счастливо взвизгнула:
— Папин-фильм… показывают!..
И не давая мне снять плащ, поволокла за руку в комнату. Перед телевизором сидели Сережка и Ларионов. Вид у них был немного виноватый — на журнальном столике перед ними воздымалась гора янтарно-желтых душистых бананов, под столиком — поднос, на который они скидывали шкурки.
— Мама, мы едим бананы от пуза! — сообщил Сережка.
— Это что, сорт такой? «Отпуза»? — спросила я.
— Нет, мамуль, это не сорт — это количество! — счастливо сказал Сережка. — Незаметно переходящее в качество!
— А ужин? — безнадежно поинтересовалась я.
— Ирина Сергеевна, бананы прекрасно заменяют любую еду, — стал уверять меня Ларионов. — В них ведь есть все, можно целый год одними бананами питаться…
Он сорвал с грозди огромный банан — удивительный плод, полный солнца, аромата, сладкой слоистой мякоти, нежно-гладкий, увесисто-тяжелый — и протянул мне:
— Потрогайте, Ирина Сергеевна, банан всегда теплый…
Ларионов не смотрел на меня, он не хотел взглядом напомнить мне о тех словах, что сказал мне днем. Но и упрямой насупленностью бровей демонстрировал твердую решимость ни от чего не отказываться.
— Смотрите, смотрите, — сказал Сережка, показывая на экран. — Это папан смешно придумал…
В недрах телевизора бушевало драматически-счастливое действо — на эстраде крутились блестящие стеклянные барабаны, пересыпая внутри себя патрончики белых скрученных бумажек, потом в барабан опустила пухлую ручку девочка с бантиками, достала одну бумажечку и показала комиссии — на электрическом табло вспыхнули цифры и сообщение из ненаучной фантастики — «выпал максимальный выигрыш — 10 000 рублей», какой-то мужчина, совершенно случайно оказавшийся в тиражном зале с единственной своей счастливой облигацией, хладнокровно поднимался на сцену с видом человека, уставшего от этих непрерывных и постоянных выигрышей, даже в чем-то надоевших ему. Но дикторский голос, котовьи-сытый, увещевающе-ласково, многообещающе сообщил нам, что владелец максимального выигрыша становится снова избранником фортуны — ему предоставляется право ВНЕОЧЕРЕДНОГО приобретения легкового автомобиля «Волга» ГАЗ-24!
И в следующем кадре счастливчик с лицом просветленным, полным чувственного наслаждения, с выражением бурного блаженства шикарно катит за рулем белой «Волги» в сопровождении яркой блондинки с развевающимися на ветру волосами.
Покупайте облигации!
Сережка сказал с восторгом:
— Во-о, зыко! Молодец, папан! — потом повернулся ко мне и спросил совершенно невинно: — А девица полагается по облигации или вместе с внеочередной «Волгой»?
— Нет, — сухо ответила я. — Девица была у него в прежней, менее счастливой жизни!






