Проклятие королей Грегори Филиппа
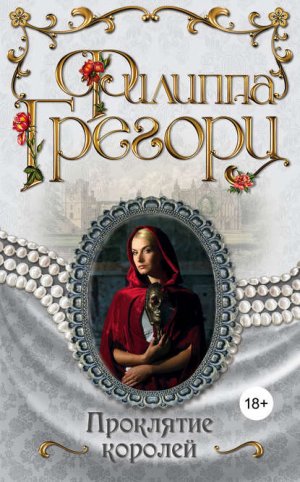
– А я буду ее пажом, – говорит Гарри в лад моим мыслям. – Я буду ей служить, стану ее пажом.
Я улыбаюсь ему и касаюсь его холодной щеки.
Толпа ликующе кричит, когда мимо проходят йомены стражи – точно в ногу, хотя временами кто-нибудь поскальзывается. Никто не падает, им иногда приходится упираться в лед тупым концом пики, чтобы устоять, но вид у них бравый и нарядный, в их зеленой с белым ливрее; а потом, в конце концов, появляется король. Он едет верхом следом за йоменами, великолепный, в царственном пурпуре, словно он сам император Священной Римской империи, а рядом с ним едет Джейн, утопающая в мехах.
Вид у Генриха нынче весьма весомый. Он сидит на высоком коне, он сам так широк и высок, что его туша оказывается под стать широкой груди и огромному крупу коня. Его джеркин так толсто и плотно подбит ватой, что король шириной с двоих, шляпа по всей окружности отделана мехом, она сидит на его лысеющей голове, словно большая миска. Плащ он откинул назад, чтобы все мы видели его роскошный дублет и джеркин, но в то же время восхищались тем, как струится плащ богатого пурпурного бархата, ниспадая почти до земли.
Его руки, сжимающие повод коня, облачены в кожаные перчатки, сверкающие алмазами и аметистами. Драгоценные камни у него на шляпе, на подоле плаща, даже на седле. Он кажется славным королем-триумфатором, вступающим в свои владения, и граждане, городские жители и дворянство Лондона ревут, одобряя этого неправдоподобного великана, верхом на гигантском коне едущего по огромной замерзшей реке.
Джейн рядом с ним крохотная. Ее одели в синее, и она кажется замерзшей и хрупкой. На голове у нее синий чепец, высокий и тяжелый на вид. За спиной развевается синий плащ, который временами тянет ее назад, заставляя вцепляться в поводья. Под ней прекрасная серая лошадь, но в седле она сидит не по-королевски, видно, как она волнуется, когда лошадь вдруг оскальзывается на льду, а потом снова встает ровно.
Джейн улыбается в ответ на приветствия толпы, но смотрит по сторонам, словно думает, что приветствуют кого-то другого. Я понимаю, что она видела двух других жен, откликавшихся на рев «Боже, храни королеву!», и ей по-прежнему приходится напоминать себе, что это верноподданные выкрики – о ней.
Мы дожидаемся, когда весь двор проедет, все лорды со своими домашними, все епископы, даже Кромвель в скромном темном облачении, подбитом скрытым от глаз богатым мехом, а потом иностранные послы. Я вижу невысокого и изящного испанского посла, но накидываю капюшон своего подбитого мехом плаща, чтобы он меня не заметил. Я не хочу, чтобы он украдкой подавал мне знаки, сегодня не время для заговоров. Мы добились победы, которая нам была нужна; сегодня мы празднуем. Я жду со своими домашними, пока не пройдут последние солдаты, за которыми следуют лишь повозки с домашним скарбом, и говорю:
– Представление окончено, Гарри, Катерина, Уинифрид. Пора домой.
– Леди бабушка, а мы не можем подождать, пока охотники поведут собак? – умоляет Гарри.
– Нет, – решаю я. – Их уже провели, а все соколы сидят на насестах, за занавесями, чтобы не замерзли. Больше смотреть не на что, и уже слишком поздно.
– Но почему мы не можем пойти с придворными? – спрашивает Катерина. – Разве наше место не при дворе?
Я прижимаю ее ручку локтем к своему боку.
– На будущий год пойдем, – обещаю я. – Я уверена, король нас снова позовет, со всей семьей, и на будущий год Рождество мы будем праздновать при дворе.
В Сочельник я стою на коленях в часовне Л’Эрбера и жду, когда услышу сначала один, потом другой, а потом сотню колоколов, возвещающих полночь, и можно будет начать со всем размахом праздновать рождение Господа нашего.
Внезапно я слышу, как открывается входная дверь, потом она захлопывается, по часовне проносится порыв холодного воздуха, свечи мерцают, и неожиданно рядом со мной оказывается мой сын Монтегю – вот он кланяется алтарю, а потом опускается на колени, чтобы я его благословила.
– Сынок! Сын мой!
– Леди матушка, да будет благословен ваш праздник.
– Счастливого Рождества, Монтегю. Ты прямо с севера?
– Я ехал с самим Робертом Аском, – отвечает он.
– Он здесь? Паломники в Лондоне?
– Ему велено ехать ко двору. Он гость короля на Рождественском пиру. Ему оказана честь.
Я слышу слова Монтегю, но не могу им поверить.
– Король пригласил Роберта Аска, вождя паломников, ко двору на Рождество?
– Как верного подданного и советника.
Я протягиваю сыну руку.
– Предводитель паломников и король? Значит, мир. Значит, победа. Поверить не могу, что наши беды позади.
– Аминь, – отвечает он. – Да и кто бы поверил?
Монтегю отправляется ко двору на следующий день и берет с собой Гарри, который трусит в свите отца, очень торжественный и серьезный. Когда Монтегю возвращается после двенадцати дней Святок, он сразу идет в мои личные покои, рассказать о встрече короля с Паломником.
– Он говорил с королем невероятно искренне. Ты бы сочла, что это невозможно.
– Что он сказал?
Монтегю оглядывается, но со мной только внучки и пара дам, и к тому же времена, когда мы боялись шпионов, прошли.
– Он сказал Его Величеству в лицо, что пришел лишь открыть, что на сердце у простых людей и что они не потерпят Кромвеля в королевских советниках.
– Кромвель был там и все слышал?
– Да. В чем и была смелость Аска. Кромвель взбесился, он божился, что все северяне предатели, а король посмотрел на них обоих и положил Роберту Аску руку на плечи.
– Король предпочел Аска Кромвелю?
– При всех.
– Кромвель должен быть вне себя.
– Он напуган. Только подумай, что сталось с его хозяином Уолси! Если король от него отвернется, у него не останется друзей. Томас Говард хоть завтра готов повесить его на собственной виселице. Он измыслил законы, которые можно так повернуть, чтобы поймать любого. Если он сам попадется в свою сеть, никто из нас пальцем не шевельнет, чтобы его спасти.
– А король?
– Отдал Аску свой джеркин, из алого атласа. Подарил золотую цепь, снял с себя. Спросил, чего тот хочет. Господи, до чего отважен этот йоркширец! Преклонил колено, но поднял голову и говорил с королем без страха. Сказал, что Кромвель – тиран, что люди, которых он вышвырнул из монастырей, это добрые люди, которых жадность Кромвеля довела до нищеты, и что народ Англии не может жить без аббатств. Еще сказал, что церковь – сердце Англии, по ней нельзя ударить, не причинив вреда всем нам. Король его выслушал, до последнего слова, и потом сказал, что сделает его членом совета.
Я прерываю его и смотрю на сияющее лицо Гарри.
– Ты его видел? Ты все это слышал?
Он кивает:
– Он очень тихий, его сперва не замечаешь, а потом видишь, что он там самый главный. И на него так приятно смотреть, хотя он кривой. Тихий и улыбается. И еще он очень смелый.
Я поворачиваюсь к Монтегю:
– Как я понимаю, он очень обаятелен. Но ввести его в Тайный совет?
– А почему нет? Он йоркширский джентльмен, родня Сеймурам, он выше родом, чем Кромвель. Но, как бы то ни было, он отказался. Только подумай! Поклонился и сказал, что это не обязательно. Что он хочет, чтобы парламент был свободным и чтобы в совете заседали старые лорды, а не выскочки. И король ответил, что проведет свободное заседание парламента в Йорке, чтобы убедить всех в своей доброй воле, и королеву коронуют там же, и церковная конвокация соберется там, чтобы объявить о своих изысканиях.
В первое мгновение меня поражают эти перемены, потом уверенность Монтегю, и я осеняю себя крестом и склоняю голову.
– Все, о чем мы просили.
– Больше, – подтверждает мой сын. – Больше, чем мы мечтали просить, больше, чем ждали от короля.
– Насколько больше? – спрашиваю я.
Монтегю широко мне улыбается.
– Реджинальд ждет, когда его призовут. Он во Фландрии, в дне пути. Как только король за ним пошлет, он приедет и восстановит английскую церковь.
– Король за ним пошлет?
– Говорят, он назначит его кардиналом на время восстановления церкви.
Меня так поражает мысль, что Реджинальд вернется домой с почетом, чтобы все исправить, что я на мгновение закрываю глаза и благодарю Господа, который позволил мне прожить достаточно долго, чтобы все это увидеть.
– Как это вышло? – спрашиваю я Монтегю. – Почему король все это делает и так легко?
Монтегю кивает, он тоже об этом задумывался.
– Думаю, он наконец понял, что зашел слишком далеко. Думаю, Аск сказал ему, сколько у паломников людей и в чем их простые надежды. Аск сказал, что они любят короля, но винят Кромвеля, а король хочет, чтобы его любили, он этого больше всего хочет. В Аске он видит достойного человека, человека с убеждениями, который представляет достойных людей. Он видит доброго англичанина, который готов любить хорошего короля и следовать за ним, но невыносимые перемены довели его до восстания. Встретившись с Аском, он увидел еще один путь стать любимым, еще один способ повести себя по-королевски. Он может бросить им доброе имя Кромвеля, как подачку, может восстановить монастыри, он сам любит церковь, ему нравятся обычаи паломников. Он никогда не прекращал соблюдать литургию и ритуалы. А теперь он словно нашел новую роль в маске – король, который вернет благоденствие.
Монтегю на мгновение умолкает и ласково кладет руку на плечо сына.
– А может быть, леди матушка, все еще лучше. Может быть, я говорю резкости, а должен бы увидеть чудо, случившееся на моем веку. Может быть, королю воссиял свет, может быть, Господь наконец-то по-настоящему с ним заговорил и он по-настоящему переменился. Тогда хвала Господу, Он спас Англию.
Обычно я впадаю в меланхолию в холодные дни после празднования Рождества. Мысли о долгой зиме расстилаются передо мной, я не могу представить, что придет весна. Даже когда на крыше тает снег и в канавы бежит капель, я думаю не о том, что потеплело, а поплотнее кутаюсь в меха и знаю, что впереди еще долгие дни и недели, когда утра будут сырыми и серыми, пока погода не прояснится. Толстый лед тает, освобождая серую и недобрую реку, темные снеговые тучи бегут прочь, открывая холодный жесткий свет. Обычно в это время года я сворачиваюсь калачиком в доме и жалуюсь, если кто-нибудь оставит открытой дверь где-нибудь в доме. Я чувствую сквозняк, объясняю я. Чувствую его лодыжками, он холодит мне ноги.
Но в этом году я довольна, как избалованная кошка, мне покойно у огня, я смотрю, как дождь со снегом стучит в окно и мой внук Гарри рисует на запотевшем стекле. В этом году я представляю, как едет на север Роберт Аск, как его встречают в каждой гостинице, в каждом доме у дороги люди, ждущие новостей, и как он говорит, что король пришел в себя, что королеву коронуют в Йорке, что король обещал свободу парламенту, а аббатства восстановят на радость верующим.
Я представляю монахов, слоняющихся возле старых зданий, попрошайничающих там, где некогда служили; вот они окружают лошадь Аска и просят повторить, что он сказал, поклясться, что это правда. Я думаю, как они открывают двери часовен, опускаются на колени перед тем местом, где стоял алтарь, обещают, что начнут все заново, звонят в колокол, созывая к первой службе. Еще я думаю о Роберте, о том, как он показывает им золотую цепь и рассказывает, как король снял ее с собственной шеи, чтобы надеть Роберту на плечи, сказал, что это в знак милости, и предложил ему место в Тайном совете.
Но вскоре мы слышим странные вести. Некоторые паломники, получившие общее прощение, похоже, нарушили перемирие и снова взялись за оружие. Томас Говард арестовывает с полдюжины бунтовщиков и сообщает их имена Томасу Кромвелю – Томас Кромвель все еще на своем посту.
Некоторые джентльмены и большая часть северных лордов отправляются поговорить с Томасом Говардом, герцогом Норфолком, и делятся с ним своими опасениями: север на этом празднике свободы становится неуправляемым. Роберт Аск уверяет их, уверяет паломников, что никакого восстания против власти короля нет, – видите! – он привез королевское прощение, на нем красный атласный джеркин короля. Всегда найдутся те, кто воспользуется смутным временем, им безразличны и мир, и прощение. Мир не будет нарушен, и прощение нерушимо, паломники добились всего, о чем просили, король дал им слово.
И все же сэр Томас Перси и сэр Ингрем Перси, примкнувшие к паломникам и шедшие с ними под знаменем Пяти ран Христовых, получают приказ явиться ко двору, а когда они прибывают в Лондон, их тут же берут под стражу и отправляют в Тауэр.
– Это ничего не значит, – говорит мне Джеффри, остановившийся в Л’Эрбере по пути домой, в Лордингтон. – Перси всегда были сами себе законом, они воспользовались паломниками, чтобы пойти против короля. Они мятежники, а не паломники; им самое место в Тауэре.
– Но они же получили прощение?
– Никто и не ждал, что король примет в расчет прощение эдакой парочке.
Я не спорю, поскольку Джеффри говорит уверенно и с севера приходят добрые вести. Аббатства открываются заново, паломники расходятся, получив прощение, каждый приносит присягу на верность королю, все убеждены, что наконец-то настали хорошие времена.
Медленно, понемногу монахи и монахини возвращаются в аббатства и снова открывают их двери. В каждой деревенской церкви рассказывают о маленьком чуде. Кто-то принес хрустальную дарохранительницу, которую прятал под соломенной крышей. Плотники извлекают прекрасные изваяния святых из поленниц, куда их сложили от беды подальше, фермеры осторожно расчищают сточные канавы и находят сверкающие распятия. Из тайных гардеробных достают облачения, монахи возвращаются в кельи. Окна заново стеклят, крыши чинят, я велю мажордому отыскать приора Ричарда и позвать его обратно в Бишем.
– Леди бабушка, думаете, дядя Реджинальд вернется домой? – спрашивает меня Гарри, сын Монтегю.
И я с улыбкой отвечаю:
– Да. Да, думаю, вернется.
Но в феврале Томас Говард, герцог Норфолк, обвиняет девять человек из Йорка в измене, и их приговаривают к повешению.
– Как можно их повесить? Разве они не получили прощение? – спрашиваю я Джеффри.
– Леди матушка, герцог – человек суровый. Он сочтет своим долгом показать королю, что, хотя и сочувствовал паломникам, к мятежникам беспощаден. Повесит одного-двух, просто чтобы показать свою силу.
Я снова не спорю с сыном, но боюсь, что королевское прощение не сулит безопасности. Общины, скорее всего, считают именно так, потому что Карлайл в отчаянии собирает людей и выступает против армии Томаса Говарда, словно от этого зависит его жизнь, словно все поставлено на последний бросок костей. Хорошо вооруженные конные лорды убивают сотни тех, кто шел с ними рядом во время паломничества, но покинул при перемирии.
Мы получаем известие об этом в середине февраля, и горожане звонят в колокола, радуясь, что бедные безземельные северяне побеждены лордами, которые всего несколько месяцев назад стояли с ними плечом к плечу. Говорят, сэр Кристофер Дакр убил семьсот человек и взял оставшихся в плен, а потом перевешал на чахлых деревцах, кроме которых на суровом северо-востоке ничего не растет, а Томас Кромвель обещал ему графский титул за службу.
Вдохновившись этим зверством, Томас Говард объявляет на севере военное положение, что означает, что у магистратов и лордов теперь нет власти против Говарда. Он может быть и судьей, и присяжными, и палачом на суде над тем, кто лишен защиты. Он объявляет войну своим же землякам; это без труда дается человеку, который казнил собственных племянника и племянницу. Он без подготовки проводит слушания в маленьких городках и раздает смертные приговоры, которые исполняются на месте. С ним сотни солдат. У изготовителей цепей в Карлайле кончилось железо, и приходится вешать приговоренных, обмотав веревкой, чтобы виден был их позор. Томас Говард вешает крестьян не в городе, а в их собственных садах, чтобы все в деревне знали, что путь паломников снова привел их домой, на смерть. Люди Говарда являются в каждую деревушку, на каждый голодный хутор, в самое холодное время года, и требуют назвать тех, кто шел с паломниками или принес им обет. Кто звонил в церковные колокола, переменив звон. Кто молился о возвращении церкви. Кто выступил в поход, но еще не вернулся.
Монтегю пишет мне из Гринвича, где сейчас живет двор, записку.
Король приказал Норфолку обойти все монастыри, которые хоть как-то сопротивлялись. Он говорит, что монахи и каноники должны послужить ужасным примером для остальных. Думаю, он хочет их убить. Молись о нас.
Я не понимаю, что за времена сейчас. Читаю письмо сына, – дважды, трижды, – и сжигаю, выучив страшные слова наизусть. Иду в часовню, опускаюсь на колени на холодный каменный пол и молюсь, но через некоторое время осознаю, что просто перебираю четки и качаю головой, словно не хочу принимать ужас, который творится с теми, кто звал себя паломниками и шел за благодатью.
Король услышал, что некоторые вдовы и сироты срезали тела своих мужей и отцов, казненных как мятежники, и тайно похоронили их на кладбище, ночью. Он прислал к Томасу Говарду гонца с приказом отыскать эти семьи и наказать их. Тела велено вырыть из освещенной земли. Он хочет, чтобы трупы висели, пока не сгниют.
Леди матушка, по-моему, он сошел с ума.
Томас Говард, герцог Норфолк, против собственной совести повинуется королю во всем; закрывает монастыри и захлопывает двери тех, что открыл заново. Объяснения этому ни у кого нет, да кажется, что оно и не нужно. Теперь здания намереваются передать лордам, живущим по соседству, чтобы они разобрали их на строительный камень, а земли продать окрестным фермерам. Общины больше не смогут искать в аббатствах утешения и помощи, монахи станут нищими бродягами. В сотнях, нет, тысячах часовен, у тысяч придорожных алтарей больше не будут взывать к Богоматери. Отныне никаких паломничеств, никакой надежды. С севера приходит песня, в которой поется, что мая не будет, я выглядываю сквозь толстое стекло в серый двор, где медленно тает снег, и думаю, что весна в этом году не принесет ни радости, ни любви, что месяцы и в самом деле сменят друг друга, но не будет веселого мая.
Как только дороги высыхают настолько, что по ним становится можно ездить, я покидаю Лондон и отправляюсь в Бишем. Гарри едет домой с отцом, личико у мальчика озадаченное: время года, обещавшее так много, совсем не кажется весной. Я сажусь на лошадь позади своего конюшего, ради удобства прислонившись к его широкой спине, и большой конь ровным наметом несет нас по грязной дороге в Беркшир.
Поэтому меня нет в городе, когда Тома Дарси сажают в Тауэр и допрашивают. Том не церемонится с этой братией, у него, благослови его Господь, крутой нрав. В кармане у Тома королевское прощение, но все равно его арестовали. Он смотрит в лицо Томасу Кромвелю, понимая, что тот ему и судья, и присяжные, и все же говорит, пока его слова записывают как свидетельство против него самого:
– Кромвель, именно ты – первая и главная причина всех нынешних восстаний и бед.
Когда сын кузнеца щурится от этих честных слов, Дарси предрекает ему неизбежную смерть на эшафоте и говорит, что, если настанет день, когда в Англии останется всего один дворянин, этот единственный лорд точно отрубит Томасу Кромвелю голову.
Джона Хасси, бывшего мажордома принцессы, тоже берут под стражу, и я вспоминаю, как терпеливо он наблюдал за мной, пока я тянула время, составляя опись драгоценностей принцессы, как верно любила ее его жена. Я молюсь о том, чтобы никто не рассказал принцессе, что ее бывший мажордом арестован и его допрашивают в Тауэре.
Допрос этот, как бы долог, тщателен и полон мелочных угроз ни был, мало помогает Кромвелю, поскольку ни Том Дарси, ни Джон Хасси не назовут ни единого имени. Дарси молчит о том, как выступил с паломниками, как открыл им ворота замка Понтефракт. Говорит, что у него остались в сундуке кокарды после давнего похода в Святую землю, но отказывается открыть, кто получил их из его рук. Он говорит:
– У старого Тома в голове предательства ни на зуб, – и остается верен до последнего.
Генри Куртене пишет мне:
Молитесь обо мне, кузина, ибо меня назначили Судьей в Суде пэров над двумя добрыми лордами, Джоном Хасси и Томом Дарси. Кромвель обещал мне, что, если мы признаем Тома виновным, он изменит его приговор на изгнание и после Том сможет вернуться домой. Но для Джона Хасси надежды нет.
Я читаю это письмо, стоя возле кузницы, жду, пока подкуют мою лошадь, и едва смысл написанного укладывается у меня в голове, бросаю письмо в огонь и поворачиваюсь к гонцу в ливрее Эксетеров.
– Вы сейчас же возвращаетесь к хозяину?
Он кивает.
– Передайте ему вот что. Смотрите, слово в слово, без ошибок. Скажите, что я вспомнила старую поговорку; это не мои слова, это присказка, которая ходит в деревнях. Скажите, что деревенские говорят: ничью голову на плаху не клади, если отрубить не хочешь. Запомните?
Он кивает.
– Я ее слышал. Так говорил мой дед. Он жил в неспокойное время. «Ничью голову на плаху не клади, если отрубить не хочешь».
Я даю гонцу пенни.
– Больше никому ничего не рассказывайте, – добавляю я. – И это не мои слова.
Я жду новостей о суде. Мне пишет Монтегю.
Джон Хасси погиб. Дарси признан виновным, но его помилуют и пощадят.
Это ложь величайшего лжеца, Кромвеля. И поговорка верна: ничью голову на плаху не клади, если отрубить не хочешь. Лорды думают, что им обещали спасти Тома Дарси, потому и признают его виновным – и ждут, что король заменит смертный приговор изгнанием.
Но король предает великого сына Англии, и Тома отправляют на плаху.
Я думаю о Томе Дарси, о том, как он надеялся, что найдет смерть в крестовом походе, сражаясь за веру, и когда мне говорят, что его обезглавили как изменника в июне на Тауэрском холме, когда ласточки сновали от реки к Тауэру и обратно, строя гнезда, я понимаю, что он умер за веру, как и желал.
К черному ходу является разносчик и говорит, что у него есть славный товар, только для меня. Я спускаюсь во двор конюшни, где разносчик сидит на седельной подставке, с сумкой у ног. Увидев меня, он кланяется.
– У меня для вас кое-что есть, – говорит он. – Я сказал, что отдам это вам и уйду. Так что я ухожу.
– Сколько?
Он качает головой и вручает мне кошелечек.
– Тот, кто мне это дал, сказал, что желает вам удачи и что настанут лучшие времена, – говорит он, вскидывает свой груз на плечо и выходит со двора.
Я открываю кошелек, и на ладонь мне падает брошка. Брошь-фиалка, которую я отдала старому Тому Дарси. Он не позвал меня на помощь, потому что думал, что победил и что король даровал всем прощение. Не позвал, потому что верил: его хранит Господь. Я кладу брошь в карман и иду прочь.
Прополка севера продолжается. Восьмерых мужчин и одну женщину судят за измену, все они из лордов и мелкого дворянства, с двумя я в дальнем родстве, всех знаю – они добрые христиане и верные подданные. И один из них – йоркширец Роберт Аск.
Молодой человек, у которого на плечах королевский атласный джеркин, ждет суда в лондонском Тауэре, и у него нет ни денег, ни сменного платья, и кормят его скудно. Никто не смеет ему ничего послать, а если бы и послали, стражники все украдут. Он получил полное прощение от короля за то, что был вождем Благодатного паломничества, и с тех пор, хотя восстания продолжались и люди в отчаянии сражались за свою жизнь, Аск не был их предводителем и не поощрял их. С тех пор как он вернулся на север, покинув двор, он лишь пытался убедить своих людей принять прощение и довериться слову короля. За это он заточен в Тауэр. Кромвель хитро внушает всем, что раз уж Аск думал, что на севере будет парламент, раз клялся, что монастыри восстановят, значит, заверял своих людей, что паломничество достигло своей цели, а в этом-то и есть – должна быть! – измена.
Я иду под горячим солнцем по своим полям и смотрю на зреющую пшеницу. Урожай нынче будет богатый. Я вспоминаю Тома Дарси, приславшего мне весть о том, что настанут лучшие времена, и думаю о том, что Томас Кромвель постановил, что надежда эта изменническая. Я все гадаю: собираются ли зерна пшеницы созреть и нет ли в этом измены? На закате из посевов выскакивает заяц, по широкой дуге обегает меня на тропинке, а потом останавливается, садится столбиком и смотрит на меня умными темными глазами.
– А ты? – тихо спрашиваю я зайца. – Тоже дожидаешься, когда придет твой час? Ты тоже изменник, ждешь, чтобы настали лучшие времена?
Всех доставленных в Лондон судят и признают виновными. Обвиняют священников: приора Гисборо, аббата Жерво, аббата Фаунтенского аббатства. Под арест берут Маргарет Балмер – за то, что слишком любит мужа и умоляла его бежать, когда думала, что паломничество окончилось неудачей. Против нее дает показания ее собственный капеллан, а ее мужа, сэра Джона Балмера, вешают и четвертуют в Тайберне, когда жену сжигают в Смитфилде. Сэр Джон виновен в измене, она виновна в том, что любила его.
Роберта Аска доставляют из Тауэра в суд, а потом везут обратно в тюрьму, хотя в прошлый раз, когда Аск приезжал в Лондон, он пировал при дворе и его обнимал король. Аска отвозят из Тауэра на север Англии, где он умрет на глазах своих людей, которые слышали, как он обещал им прощение. Его везут в Йорк и проводят по городу, пораженному и притихшему при виде того, как пал храбрейший его сын. Его ведут на самый верх башни Клиффорд на стенах Йорка, он зачитывает признание, и ему накидывают веревку на шею – туда же, куда король повесил свою золотую цепь; Аска заковывают в железные цепи и вешают.
Некоторые лорды, в том числе я, просили у Кромвеля пощады для северян. «Пощады! Пощады! Пощады!» Ему неведома пощада.
Монтегю приезжает навестить меня в середине лета. Во всех комнатах рассыпан свежий тростник, окна широко распахнуты навстречу ароматному ветру, и дом полнится птичьим пением.
Монтегю застает меня в саду, где я собираю травы, помогающие против чумы, потому что прошлое лето было ужасным, особенно для бедных и особенно на севере. Я израсходовала все масла из своей аптечки, мне нужно приготовить новые. Монтегю опускается передо мной на колени, я кладу запачканную травой руку на его голову и впервые замечаю несколько серебряных волосков среди меди.
– Сын мой Монтегю, ты седеешь, – сурово говорю ему я. – Нельзя, чтобы мой сын был седым, я так буду себя чувствовать совсем старухой.
– Ну, твой драгоценный Джеффри лысеет, – весело отвечает он, поднимаясь. – Как ты это переживешь?
– Как он это переживет! – улыбаюсь я.
Джеффри всегда так носился со своей красотой.
– Он перестанет снимать шапку, – предсказывает Монтегю. – И отрастит бороду, как король.
Улыбка на моем лице гаснет.
– Как дела при дворе? – коротко спрашиваю я.
– Пройдемся?
Монтегю берет меня за руку, и мы идем с ним прочь от садовника и мальчишек, по аптекарскому огороду, через деревянную калитку, на луг, сбегающий к реке. Траву косили, но она снова выросла нам почти до колен; мы получим второй покос с этого поля – пышного, зеленого, в звездах нивяника, лютиков и ярких, растрепанных маков.
Высоко над нами поднимается в ясное небо жаворонок, поющий все громче и громче с каждым взмахом крыльев. Мы останавливаемся и смотрим на парящую точку, пока она почти не пропадает, и тут песня обрывается, и птица мчится вниз, к своему спрятанному от глаз гнезду.
– Я связался с Реджинальдом, – говорит Монтегю. – Король послал Фрэнсиса Брайана, чтобы тот его захватил, и я должен был предупредить Реджинальда.
– Где он теперь?
– Был в Камбре. Какое-то время он был в городе, как в ловушке – Брайан ждал, когда он высунется наружу. Брайан говорит, что ступи Реджинальд хоть одной ногой во Францию, он бы его тут же подстрелил.
– Ох, Монтегю! Он получил твое предупреждение?
– Да, но он знает, что должен остерегаться. Знает, что король и Кромвель ни перед чем не остановятся, чтобы заставить его замолчать. Им известно, что он общался с паломниками и что он пишет принцессе. Они знают, что он собирает против них армию. Джеффри хотел отвезти письмо. Потом сказал, что хочет уйти за Реджинальдом в изгнание.
– Ты ему сказал, что нельзя?
– Конечно нельзя. Но он больше не может выносить эту страну. Король не принимает его при дворе, он снова в долгах, и он не может заставить себя жить под властью Тюдоров. Он был убежден, что паломники победили, думал, что король пришел в разум. Теперь он не хочет оставаться в Англии.
– И что, как он думает, станется с его детьми? С женой? С его землями?
Монтегю улыбается:
– Ты же знаешь, какой он. Вспыхнул, сказал, что уедет, а потом подумал и сказал, что останется и будет надеяться на лучшие времена. Он понимает, что, если еще один из нас уйдет в изгнание, оставшимся будет только хуже. Понимает, что потеряет все, если уедет.
– Кто отвез твое письмо Реджинальду?
– Хью Холланд, бывший управляющий Джеффри. Он теперь занимается перевозкой зерна в Лондоне.
– Я его знаю.
Это купец, который торгует с Фландрией, он переправил Джона Хелиара в безопасное место.
– Холланд вез груз пшеницы, хотел повидаться с Реджинальдом и послужить нашему делу.
Мы спускаемся с холма к реке. Слепящая синяя вспышка, словно крылатый сапфир, пролетает над самой водой вниз по течению, быстрее стрелы – зимородок.
– Я бы никогда не смогла уехать, – говорю я. – Я даже не думаю об отъезде. У меня такое чувство, что я должна быть свидетелем того, что происходит здесь. Должна быть здесь, даже когда не стало монастырей, когда кости святых выбросили из святилищ в канавы.
– Знаю, – печально произносит он. – И я тоже. Это моя страна. Что бы ей ни пришлось пережить. Я тоже должен быть здесь.
– Не может же он быть вечным, – говорю я, зная, что эти слова – измена, но меня довели до измены. – Он должен скоро умереть, а законного наследника, кроме нашей принцессы, у него нет.
– Ты не думаешь, что королева может родить ему сына? – спрашивает меня Монтегю. – Она на сносях. Он велел отслужить Te Deum в соборе Святого Павла, а потом отослал ее в Хэмптон Корт рожать.
– А наша принцесса?
– Тоже в Хэмптон Корте, служит королеве. Она на подобающем ей положении.
Монтегю улыбается:
– Королева с ней ласкова, и принцесса Мария любит свою мачеху.
– Король не с ними?
– Он боится чумы. Отправился с малым двором в разъезды.
– Оставил королеву рожать в одиночестве?
Монтегю пожимает плечами:
– Ты не думаешь, что он предпочтет быть подальше, если и этот ребенок умрет? Вокруг предостаточно тех, кто говорит, что у него не может родиться здоровый сын. Он не захочет смотреть, как хоронят очередного младенца.
Я качаю головой при мысли о молодой женщине, оставленной в одиночестве рожать первенца, когда муж отдаляется от нее на случай, если ребенок умрет или умрет она.
– Ты не думаешь, что у нее будет здоровый мальчик, правда? – пытает меня Монтегю. – Все паломники говорили, что этот род проклят. Говорили, что ему не видать живого принца, потому что на отце его кровь невинных, он убил Йоркских принцев, наших принцев. Об этом ты думаешь? О том, что он убил двоих Йоркских принцев, а потом твоего брата?
Я качаю головой.
– Я не люблю об этом думать, – тихо отвечаю я, сворачивая по тропинке вдоль реки. – Стараюсь никогда об этом не думать.
– Но ты считаешь, что принцев убили Тюдоры? – очень тихо спрашивает Монтегю. – Миледи мать короля? Когда вышла замуж за коменданта Тауэра и ждала, что ее сын вторгнется в Англию? И знала, что он не может претендовать на трон, пока принцы живы?
– А кто еще? – отзываюсь я. – Их смерть больше никому не была на руку. И никаких сомнений, теперь мы видим, что у Тюдоров крепкий желудок, они переварят любой грех.
Я лежу на своей большой лондонской кровати, за задернутыми от осеннего холода занавесями, и тут начинают звонить колокола, торжествующий трезвон, начатый одним колоколом, подхватывает весь город. Я выбираюсь из кровати и накидываю халат, дверь в спальню открывается, и вбегает служанка. Она в таком волнении, что свеча в ее руке дрожит.
– Ваша Светлость! Новости из Хэмптон Корта! Королева родила мальчика! У королевы мальчик!
– Господь ее благослови и сохрани, – произношу я от всего сердца.
Никто не может желать Джейн Сеймур зла, она мягчайшая из женщин, и она хорошая мачеха для моей любимой принцессы.
– Что говорят, младенец сильный?
Девушка улыбается и молча пожимает плечами. Разумеется, по новому закону нельзя даже спросить, здоров ли королевский ребенок, ведь это подвергает сомнению состоятельность короля.
– Что ж, Господь благослови их обоих, – говорю я.
– Можно нам в город? – спрашивает служанка. – Мне и другим девушкам? На улицах танцуют, собираются жечь костры.
– Ступайте, только держитесь вместе, – говорю я. – И вернитесь на рассвете.
Она радостно мне улыбается.
– Подать вам одеться? – спрашивает она.
Я качаю головой. Кажется, уже очень, очень давно я бодрствовала всю ночь у королевской постели и ходила с новостями о младенце к королю.
– Я снова лягу, – говорю я. – А наутро мы помолимся о здоровье королевы и принца.
Из Хэмптон Корта постоянно приходят новости: младенец здоров и крепок, его окрестили Эдуардом, принцесса Мария держала его во время обряда. Если он выживет, то станет новым наследником Тюдоров, а ей не бывать королевой; но я знаю, – а кто может знать лучше меня, четырежды разделившей горе с королевой Катериной? – что здоровый младенец это еще не будущий король.
Потом мы узнаем, как я и боялась, что врачей королевы вызвали обратно в Хэмптон Корт. Но не к младенцу; больна сама королева. Похоже, в опасные дни после родов тень упала на мать. Я тут же спешу в часовню и молюсь за Джейн Сеймур; но она умирает ночью, всего через две недели после рождения сына.
Говорят, король раздавлен тем, что потерял мать своего ребенка и единственную женщину, которую по-настоящему любил. Говорят, он никогда снова не женится, что Джейн нет равных, она совершенна, единственная настоящая его жена. Я думаю, что в смерти она достигла совершенства, какого ни одна женщина при жизни не являла. Совершенство короля целиком вымышлено, теперь у него есть вымышленная совершенная жена.
– Он вообще кого-нибудь может любить? – спрашивает меня Джеффри. – Это тот самый король, который приказал судить за измену женщин, снимавших трупы своих мужей и хоронивших их, как должно. Он хоть представить себе может, что такое скорбь?
Я вспоминаю мальчика, на щеках которого год не было румянца, когда умерла его мать, но через месяц после смерти жены он ищет новую – испанскую или французскую принцессу. Монтегю, в полном трауре, приезжает ко мне в Л’Эрбер, стараясь не рассмеяться в голос, и рассказывает, что король попросил французских принцесс приехать в Кале, чтобы выбрать самую хорошенькую себе в невесты.
Французы глубоко оскорблены тем, что к дамам их королевской семьи относятся как к телкам в базарный день, и ни одна принцесса не жаждет стать четвертой женой женоубийцы; но Генрих не понимает, что он уже давно перестал быть привлекательным. Он не понимает, что он больше не самый красивый принц христианского мира, известный своей ученостью и благочестивой жизнью. Он стареет, ему минуло сорок шесть, он с каждым днем все толще, и он заклятый враг Папы Римского, главы церкви. И все же он не может понять, что его не любят, им не восхищаются, что он не в центре всеобщего внимания.
– Леди матушка, смерть королевы принесла одно изменение к лучшему. Ты не поверишь, но он восстанавливает приорат, – говорит Монтегю.
– Какой приорат? – спрашиваю я.
– Наш.
Я ничего не понимаю.
– Он возвращает нам Бишемский приорат?
– Да, – отвечает Монтегю. – Он позвал меня к себе в часовне. Я поднялся на королевскую галерею Хэмптон Корта, где он сидит выше всех в своей личной комнатке, откуда виден алтарь. Он читает и подписывает бумаги, пока священник внизу служит мессу. В кои-то веки он молился, а не работал. Он перекрестился, поцеловал четки и повернулся ко мне с любезной улыбкой. Сказал, что молился за душу Джейн, и спросил, не окажешь ли ты ему услугу, восстановив приорат как его пожертвование на помин ее души.
– Но он закрывает церкви по всей стране, ежедневно! Роберт Аск и остальные, сотни людей, отдали жизни, пытаясь спасти монастыри.
– Теперь он хочет один восстановить.
– Но он сказал, что чистилища не существует, зачем поминать душу?
– Видимо, для Джейн и для себя самого ему это нужно.
– Кромвель лично назначил ложного приора и закрыл наш приорат.






