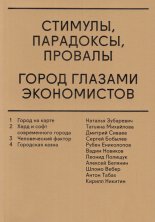Багровый лепесток и белый Фейбер Мишель

— Да, Мэтью, — отвечает Уильям, и морщится, пытаясь понять, в какой из сплавленных им сюда книг могла она отыскать эти сведения.
— А не его ли прозвали «Конским» Хопсомом?
— Да… а что?
Конфетка нечестиво фыркает и, внезапно подскочив к креслу Уильяма, опускается перед ним на колени.
— В таком случае, если мистер Хопсом хотя бы попытается тебе досадить, — говорит она, опираясь узкими белыми локтями на обтянутое темной тканью бедро Уильяма, — шепни ему на ушко два коротких слова.
И она, наклонившись поближе к Уильяму и похлопывая его по бедру точно мим, изображающий порку, шепчет:
— Эми Хаулетт.
Несколько секунд Уильям смотрит, неверяще и изумленно, в ее умные глаза, а затем разражается хохотом.
— Клянусь Богом, — восклицает он. — Это и вправду предел всему!
— Нисколько, — повторяет Конфетка и трется щекой о его колено. — Для высот, на которые способен подняться человек, подобный тебе, пределов не существует…
Ладонь ее соскальзывает туда, где к этому времени должен бы натужно торчать набрякший признак его пола, однако Конфетка убеждается, что она чего-то недоучла. Разговор она провела на редкость удачно: проблема Хопсома решена и все же… и все же прикосновение ее лишь нервирует Уильяма, по-прежнему напряженного, не готового к любви.
— Уильям, милый, — сочувственно произносит она и несколько отстраняется от него, смиренно сцепляя ладони на укрытых широкой юбкой коленях. — Тебя все еще что-то гложет. Да-да, я же вижу. В чем дело? — скажи мне. Что за ужасные неприятности так огорчают тебя?
Двадцать секунд, никак не меньше, он вглядывается в нее, хмурящуюся, не уверенную в себе. Не слишком ли далеко она зашла? Уильям откашливается, прочищая горло, чтобы словам, какими они ни окажутся, было легче пройти сквозь него.
— Моя жена, — говорит он, — сумасшедшая.
Конфетка вздергивает голову — на этой немой демонстрации испуганного изумления остановилась она, быстро перебрав и отвергнув восклицания вроде «Да что ты?», «Подумать только!» и «Какой ужас!». Во всю ее трудовую жизнь мужчины повторяли Конфетке, один за другим, что жены их — сумасшедшие, а она так и не смогла отыскать пригодной реакции на эти слова.
— Когда мы только поженились, она была самой милой, добросердечной девушкой, — жалуется Уильям. — Конечно, странности у нее имелись, но у кого же их нет? Я и вообразить не мог, что она обратиться в кандидатку на место в палате для умалишенных, что она, в моем собственном доме… — он умолкает, закрывает глаза. — Когда мы с ней познакомились, не было на свете девушки счастливее ее. Теперь же она не ставит меня ни во что.
— Какая трагедия, — шепчет Конфетка, решаясь, без особой, впрочем, уверенности, положить ему на колено соболезнующую ладонь. Соболезнование принимается. — Наверное, она любила бы тебя и сейчас, если б могла.
— Пуще всего меня сводит с ума… я хочу сказать, пуще всего меня ставит в тупик то, что она каждый день ведет себя по-другому. Иногда она выглядит такой же нормальной, как мы с тобой, а потом вдруг произносит или делает нечто воистину вопиющее.
— Например?… — тихо и без какого-либо нажима спрашивает Конфетка.
— Она уверена, что, засыпая, отправляется в католический монастырь. Что за ней присматривают ангелы. Говорит, они приветственно машут ей руками.
Конфетка припадает зардевшейся щекой к животу Уильяма, дружески обнимает его, надеясь, что румянец сойдет с ее лица еще до того, как ей придется снова поднять лицо к Уильяму. Что оставалось делать ей, пойманной за подглядыванием у дома Рэкхэма, как не помахать миссис Рэкхэм рукой в ответ на ее приветственные взмахи?
— Всего лишь на прошлой неделе она опозорилась перед прислугой, взявшись мыть вместе с ней полы нашей кухни, — горестно продолжает Уильям. — Пришлось вызвать доктора. Он считает, что держать ее в доме — безумие с моей стороны… Но ведь он и понятия не имеет, какой она была душечкой! Теперь же Агнес половину жизни проводит во сне, — одурманенная снадобьями или просто бездельничающая. Я уже ничего не понимаю, это выше моего…
Конфетка гладит его по колену, мерно и чувственно, как иные гладят кошку или собаку. Она ощущает, как под панталончиками ее стекает по бедру струйка крови — похоже, однако, что сегодня не та ночь, в которую ей удастся выяснить отношение Уильяма Рэкхэма к женским кровотечениям.
— Как долго… давно ли это с ней? — спрашивает Конфетка.
— Ах! Кто знает, что крылось в ее голове еще и перед знакомством со мной! Впрочем… мне говорили, что до рождения ребенка ее безумие было не таким… (он сжимает, подыскивая нужное слово, неповрежденную ладонь)… полновластным.
— О? — и снова тон Конфетки становится почти невесомым, как мышиная пробежка. — Так у тебя есть ребенок.
— Да, один, — вздыхает Уильям. — Увы, это дочь.
Резкая судорога негодования, слишком внезапная, чтобы успеть подавить ее, продирает притиснутую к животу Уильяма щеку Конфетки; остается надеяться лишь на то, что слой одежды не позволит ему ощутить эту дрожь. Как странно, она научилась день за днем с совершенным хладнокровием выслушивать самые гнусные разглагольствования мужчин — желчные диатрибы, направленные против женского пола в целом, обличения женского тела как клоаки всяческой мерзости, ее дырки как пасти преисподней, — а вот это простенькое замечание о бесполезности дочери привело ее в бешенство. Стиснув зубы, Конфетка плотнее прижимается к Уильяму, укрывая гнев под личиной страсти.
— И наверное, — говорит она, чтобы хоть чем-то нарушить наступившее молчание, — болезнь твоей жены лишила ее всех подруг?
Умиротворенный ее объятием, Уильям обмякает.
— Знаешь, странное дело… Я полагал, что так и будет, однако все выглядит иначе. Сезон не за горами и нас просто-напросто завалили приглашениями. Поразительно, если вспомнить, что она вытворяла в последний раз, когда…
— И что же она вытворяла?
— О… Да все, что угодно. Она смеялась, когда смеяться было нечему, и не смеялась, когда было чему. Выкрикивала всякие нелепости, предостерегая людей от незримых опасностей. Как-то раз она залезла под обеденный стол и жаловалась оттуда, что в мясе много крови. А уж сколько раз она в обморок падала, я и припомнить не могу. Господи, как часто мне приходилось отвозить ее…! — Конфетка чувствует, как Уильям покачивает головой. — И нате вам, все прощено и забыто. Вот оно, наше светское общество.
Конфетка трется ухом о его живот. Судя по тому, как в нем булькает и журчит, Уильям ничего сегодня не ел — что ж, тем быстрее бренди развяжет ему язык.
— А тебе не приходило в голову, — спрашивает она, — что приглашениями осыпают, возможно, не ее, а тебя?
— Меня? — он вздыхает — и так тяжко, что голова Конфетки приподнимается на целых три дюйма. — Да я, собственно, никогда не был большим любителем балов, пикников и званых обедов. Предпочитаю развлекаться самостоятельно. И как бы там ни было, у меня в этом году такое кошмарное количество дел, что я вряд ли сумею выкроить время для развлечений.
— Да, но не думаешь ли ты, что многие пристально наблюдали за твоим… твоим незаурядным возвышением. Ты стал очень большим человеком, Уильям, и стал им быстро. А общества больших людей ищет всякий. И эти приглашения… ну, не могут же люди приглашать тебя одного, без жены, ведь так?
Уильям вытягивает руки вдоль спины Конфетки, утыкается лбом в холмик ее турнюра. Ясно, что она его убедила.
— Какой же я все-таки простак… — задумчиво бормочет он; голос его стал грудным от бренди и улегшихся тревог. — Все так переменилось, а я этого даже не понял…
— Ты должен помнить о том, кто твои истинные друзья, — наставляет его Конфетка, вновь начиная поглаживать лощинку между бедер Уильяма. — Чем богаче ты становишься, тем больше будет появляться людей, готовых на все, лишь бы подольститься к тебе.
Уильям, застонав, притягивает ее голову к упомянутой лощинке.
Потом, когда его с таким трудом поднятый из ничтожества жезл вновь опадает, ссыхаясь до размеров небольшого штырька, Конфетка возобновляет разговор, в надежде вытянуть из Уильяма какие-нибудь новые сведения.
— До чего ж я соскучилась по этому волшебному вкусу, — восторженно сообщает она, дабы помешать его воспрянувшему настроению опасть подобным же образом. — Тебя не было так долго! Неужели ты ни разу не вспомнил о своей маленькой наложнице, которую оставил здесь тосковать по тебе — да еще и без чистой одежды?
— Я был по уши… — Однако она смеется, прерывая извинения Уильяма, и принимается с комической быстротой целовать его в уши, давая понять, что нисколько не обижена. Боящийся щекотки Уильям похрюкивает и съеживается так, что под его бородой обозначается двойной подбородок. — Управление большим делом отнимает гораздо больше времени, чем я полагал. В последние дни мне связывала руки не одна только история с Хопсомом. Да и в ближайшие недели я буду занят ничуть не меньше. В самом скором времени мне придется съездить в Митчем, на мои лавандовые поля, выяснить, почему они…
— Лавандовые поля? — взволнованно перебивает его Конфетка.
— Да…
— Те, на которых растет настоящая лаванда?
— Ну да, конечно…
— Ах, Уильям! Как мне хотелось бы взглянуть на них! Знаешь, я ведь и не видела никогда живых растений, только те, что есть в лондонских парках. — Она опускается на корточки — пониже, подставляя взглядам Уильяма свое восторженное лицо. — Поле, полное лаванды! Для тебя оно, наверное, вещь самая заурядная, но для твоей маленькой Конфетки — все равно, что сказка! Ах, Уильям, возьми меня с собой.
Он поерзывает в кресле, улыбаясь и хмурясь сразу. Дурные предчувствия норовят пробиться на поверхность его сознания, замутненного спиртным и чувственным пресыщением.
— Я с превеликим удовольствием взял бы с собой такое прелестное создание… — мямлит он. — Однако подумай о риске скандала: ты, никому не известная молодая женщина, прогуливаешься со мной по полям, и все работники видят нас…
— Но разве это место не на другом краю Англии?
— Митчем? Всего лишь в Суррее, дорогая… — он улыбается, видя, что понимания в лице ее не прибавилось. — Достаточно близко, чтобы поползли слухи.
— Ну, тогда мне нужно будет приехать туда с кем-то еще! — с пылом провозглашает Конфетка. — Скажем, с другим провожатым. Вернее… — она замечает скользнувшую по его лицу тень подозрения, — …вернее, я сама могу сопровождать кого-то: м-м, старика! Да, да, я как раз знаю нужного нам человека, парализованного старика, можно будет сказать, что это мой дедушка. Он глух и слеп — ну, то есть, почти. Никаких неприятностей он нам доставить не сможет. Я могла бы просто… катить его в кресле, как младенца в коляске.
Рэкхэм только помаргивает вытаращенными от изумления глазами:
— Ты ведь говоришь это не всерьез, верно?
— Еще как всерьез! — восклицает она. — Ах, Уильям, ну пообещай взять нас с собой!
Он встает, кренится набок, и его разбирает смех от собственной неуклюжести, от упоительной абсурдности его новой, с иголочки, жизни.
— Нельзя, чтобы я заснул здесь, у тебя, — застегивая брюки, бормочет он. — Утром ко мне должен прийти Хопсом…
— Пообещай, Уильям, — молит Конфетка, помогая ему заправить в брюки рубашку. — Скажи мне да!
— Мне нужно будет подумать об этом, — отвечает он, слегка покачиваясь перед креслом, на котором висит его еще дышащий влагой Ольстер. — Когда протрезвею.
И он поднимает пальто за ворот, позволяя Конфетке помочь ему просунуть руки в неподатливые рукава. Пальто потяжелело, стало обжигающе горячим снаружи и волглым снутри, да и попахивает оно как-то странно; Уильям и Конфетка прыскают, прижавшись друг к дружке лбами, неприятный запах лишь веселит их.
— Люблю тебя! — смеясь, произносит он, и она крепко обнимает Уильяма, прижавшись щекой к его поросшему густым волосом подбородку.
Гроза, бушевавшая снаружи, прошла. Ночь пала на Прайэри-Клоуз, утихомирив дождь, угомонив ветер. В черном небе сверкают звезды, под фонарями отсвечивают серебром скользкие улицы. Над утыканным дымоходами горизонтом мерцает полная луна, сирена всех сомнамбул — от Шордитча до королевских опочивален Вестминстера.
— Смотри под ноги, сердце мое! — окликает Конфетка Уильяма из вестибюля его дома вдали от дома.
Чепстоу-Виллас, на которую сворачивает, позвякивая, кеб Уильяма, тиха, как погост, а дом Рэкхэма возвышается над ней, точно памятник, — огромное надгробие нашедшего здесь свой конец прославленного рода. Уильям подрагивает — от холода и раздражения, порождаемого, когда он толкает калитку, ее усиленным тишиной скрипом. Он уже наполовину трезв и настроение им владеет самое траурное — безрадостное приветствие собственного его обиталища удручает Уильяма. Даже пес, который так полюбил околачиваться у парадных ворот его дома, запропастился куда-то, а дорожка, идущая от них по аскетично остриженной траве, жутковато поблескивает под светом луны. За деревьями на миг возникает видение наполовину скрытого ими зловещего и пустого каретного сарая, напоминая Уильяму о еще одном пункте из длинного списка дел, которые ему надлежит совершить.
Звонит он только единожды и, сразу сообразив, что час стоит поздний, принимается рыться по карманам в поисках ключа. Сквозь декоративное окошко над архитравом сочится слабый свет — как раз достаточный для того, чтобы тень головы Уильяма, склоняющегося к проклятым, вечно ускользающим карманам, накрыла его пальцы. (Боже всесильный! Если бы его компания производила одежду, а не парфюмерию, сколько всего пришлось бы переменить!)
И как раз когда он находит ключ и почти уж ухитряется вставить его в замочную скважину, дверь распахивается, и Уильяма приветствует Летти — глаза у нее припухли, звонок явно разбудил ее, задремавшую в прямом кресле. Даже в свете единственной свечи, которую она держит в руке, Уильям различает красноту ее левой щеки, покрытой складками, которые оставил рукав униформы; можно не сомневаться, что и Летти так же отчетливо видит его припухший красный нос и испарину на лбу.
— Где Клара? — спрашивает он, когда Летти помогает ему выбраться из пальто. (Руки у нее сильнее Конфеткиных, но не так проворны.)
— Легла, мистер Рэкхэм.
— Хорошо. Ложитесь и вы, Летти.
Ему осталось исполнить, прежде чем отправиться спать, еще одну непременную обязанность, а без путающейся под ногами Клары сделать это будет намного легче.
— Спасибо, мистер Рэкхэм.
Он смотрит, как служанка поднимается по лестнице, дожидаясь, когда она уберется в свой чердачный закуток. Затем поднимается следом, сворачивая к спальне Агнес.
Уильям входит в эту спальню, — в ней душно и тягостно, как в закрытой стеклянной банке, думает он. Когда он только начал ухаживать за Агнес, она носилась, точно девочка, по зеленым лужайкам Риджент-Парка, и яркие юбки ее плескались под ветерком; ныне ее территория — это затененный плотными шторами склеп. Уильям с опаской принюхивается; не пропитайся он к этому времени бренди, ему удалось бы различить душок спирта для притираний, пролитого на ковер новым доктором, пытавшимся смочить им ватный тампон.
Подняв свечу повыше, Уильям подходит к кровати и видит лицо жены, наполовину зарывшееся в слишком большие, слишком пышные подушки.
Она ощущает его приближение — губы ее чуть подергиваются, вздрагивают невесомые ресницы.
— Клара? — тоненько спрашивает она.
— Это я. Уильям.
Глаза Агнес приоткрываются с быстротою щелчка, показывая незрячие белки, на которых, совершенно как играющие рыбки, появляются и исчезают, вращаясь, ярко-синие райки. Ясно, что она, одурманенная, уже проделала половину пути к своей волшебной стране, пролетела по лабиринтам монастырей не то замков, которые ей так нравится навещать.
— А где Клара?
— Тут, за дверью, — лжет он. Как же она боится остаться с ним наедине! Как ненавистны ей его прикосновения! Жалость Уильяма к жене так сильна, что он тоскует по волшебной палочке, один взмах которой позволил бы навсегда отогнать ее болезни; но и обида сильна не менее, так что, если б ему и вправду попала в руки волшебная палочка, он мог бы с не меньшим вероятием обрушить ее на голову Агнес, расколов ее жалкий череп, точно яичную скорлупу.
— Как ты себя чувствуешь, дорогая?
Она поворачивает к нему лицо, глаза ее на секунду приобретают осмысленное выражение, затем устало закрываются.
— Как плывущая по темной реке потерянная шляпка, — негромко произносит она. В голос ее вернулась прежняя музыка — как прекрасно звучит он, даже когда Агнес городила всякую чушь.
— Ты помнишь, что сказала мне перед обмороком? — спрашивает он, поднося свечу поближе к жене.
— Нет, дорогой, — вздыхает она, отворачиваясь, зарываясь носом в теплую белую вмятину, уже заполнившуюся ее волосами. — Что-то плохое?
— Да, очень плохое.
— Мне жаль, Уильям, мне так жаль, — голос ее заглушается хлопковым гнездышком. — Ты сможешь простить меня?
— В болезни и в здравии, Агги: такую клятву я дал.
Он стоит рядом с ней еще минуту-другую; произнесенные ею слова извинения медленно стекают по его пищеводу, словно глоток бренди, понемногу согревая его изнутри. Затем, решив, что они — лучшее, на что он может рассчитывать, Уильям поворачивается, чтобы уйти.
— Уильям.
— Ммм?
Лицо ее снова всплывает на поверхность и теперь на нем, испуганном, поблескивают в свете свечи слезы.
— Я по-прежнему твоя маленькая девочка?
Он крякает от боли, которую рождает этот совершенно неожиданный удар, попавший в солнечное сплетение его тоски по прошлому. Капли горячего свечного сала падают на его уже обожженную руку, кулаки и веки Уильяма сжимаются одновременно.
— Спи, бесценная моя, — хрипло отвечает он, пятясь к двери. — Завтра будет новый, совсем новый день.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Одним солнечным днем конца апреля 1875 года армия тружеников, рассеянная по огромным холмистым лавандовым нивам, на минуту прерывает свои труды. Утопающие по колено в озере Lavandula[53] работники застывают, опираясь на мотыги, у ведерок, в которые они собирают слизняков, и глазеют на молодую красавицу, идущую мимо них по разделяющей акры дорожке.
— Эт ктой-то? — перешептываются они, и любопытство округляет глаза их. — Ктой-то?
Но никому это не ведомо.
Платье на леди цвета лаванды; белые перчатки ее и шляпка — точно цветы, выросшие из шеи и запястий. Замысловатые плиссе и рюши, овивающие, точно путы, наряд красавицы, сообщают ей сходство с увеличенной до человеческих размеров соломенной куколкой.
— А при ней-то кто?
Женщина гуляет здесь не одна, да и ничем не обремененной ее тоже не назовешь. Она с превеликим тщанием катит перед собой по лабиринту дорожек колесное кресло, нагруженное чем-то трудно определимым. Это дряхлый калека, укутанный в одеяла и шали, даже голова его обмотана шарфом, хоть день нынче тихий и теплый. А обок старика и женщины, которая его катит, вышагивает третий сегодняшний гость: Уильям Рэкхэм, владелец окрестных угодий. Он что-то говорит и говорит часто; старик высказывается лишь время от времени; женщина не произносит почти ни слова; однако стоящие рядами работники успевают, пока эта процессия минует их, уловить обрывки разговора.
— Как думаешь, кто она? — спрашивает высушенная солнцем жена у своего высушенного солнцем мужа.
— Надоть, дочь старика. Не то внучка. Старик-то, видно, богат. Похоже наш Кудрявый Билл желает дела с ним обделывать.
— Тогда пусть поторопится. Старый-то хрен того и гляди ноги протянет.
— Да, Хопсом, по крайности, на своих двоих ковыляет.
И они снова приступают к работе, погружаясь в два раздельных потока растительности.
А тем временем, чуть дальше замирают и вглядываются в проходящих господ другие работники. Ничего подобного — леди, посещающей поля, — во времена отца Уильяма здесь видано не было; Рэкхэм Старший предпочитал держать благовоспитанных дам подальше от своих угодий — из страха, что от увиденного там сердца их обольются кровью. Последней, кто здесь появлялся, была его супруга, — лет уж двадцать назад, еще до того, как она наставила ему рога.
— Да, красавица, — вздыхает один из смуглых тружеников, щурясь вослед удивительному женскому силуэту.
— И ты б таким был, — фыркает другой работяга, — кабы отродясь не работал.
— Ну тыыы! — рокочет сидящий в кресле старик; смрад, исходящий от его затхлой одежды и редко омываемого тела, сильно разбавлен свежим воздухом и запахами, которые источаются акрами влажной земли и заботливо опекаемой лаванды.
Конфетка, продолжая катить кресло вперед, склоняется к старику, приближает губы к той, примерно, части его обмотанной шарфом головы, в которой должно располагаться уху.
— Тише, тише, полковник Лик, — говорит она. — Не забывайте, вы здесь для того, чтобы радоваться жизни.
Однако полковник Лик жизни не радуется, а если и радуется, то показывать это Конфетке не хочет. Одно лишь жгучее желание получить мзду, которую ему посулили — шесть шиллингов, плюс столько виски в один этот день, сколько из миссис Лик и за месяц не вытянешь, — и удерживает его от открытого бунта. А уж изображать чьего-то там дедушку он и вовсе ни малой охоты не имеет.
— Я писать хочу.
— В штаны пописайте, — нежно шипит Конфетка. — Представьте, что вы дома.
— Ишь, какая ты добрая, — он оборачивается, подставляя взорам Конфетки один слезящийся злобный глаз и крапчатые гуммозные губы. — Что, для Сент-Джайлса слишком хороша оказалась, а, шлюшка?
— Шесть шиллингов и виски — не забывайте о них, дедушка.
И они продолжают свой путь, облитые сиянием солнца, — здесь, в самом сердце ухоженных владений «Парфюмерного дела Рэкхэма».
Уильям Рэкхэм шагает наособицу, безукоризненно пристойный, одетый, даром что нынче среда, в строгий воскресный костюм. Молескиновые брюки и резиновые сапоги отца — это не для него; современное парфюмерное производство управляется трезвым рассудком и поддерживается в должном порядке пером. Все, происходящее на этих полях, каждый изгиб спины рабочего, склоняющегося, чтобы обрезать тончайший прутик, все приводится в движение его, Уильяма Рэкхэма, идеями и письменными приказаниями. Во всяком случае, именно эту мысль старается внушить он своим гостям.
Уильям уже понял, конечно, что отношения между Конфеткой и стариком далеко не так любовны, как она уверяла, однако простил ее. Собственно, если б она и полковник Лик питали друг к дружке доверительную привязанность, Уильям мог бы и приревновать ее. А так оно и лучше: пневмоническое бормотание старика до того хрипло, что работники не понимают и половины слов, какие им удается расслышать, а то, что Конфетка катит его кресло, говорит само за себя, и говорит громче любых уверений об их родстве.
— Наслаждайтесь солнечным светом, ну что же вы? — убеждает Конфетка Полковника, пока они втроем поднимаются по покатому склону Улейного холма.
Старик кашляет, взбалтывая заполняющую его легкие слизь.
— Солнечный свет вреден, — сипит он. — От него в солдатских ранах черви заводятся. А когда нет войны, он портит обои.
Конфетка посылает Уильяму успокоительную улыбку и налегает на кресло, вкатывая говорящий сизифов камень на холм. «Не обращай на него внимания, — говорит ее улыбка. — Мы с тобой понимаем всю бесценность этих просторов — и значение, которое имеет для наших жизней этот великий день».
— Все так, как я и думал: дай им волю, они сосали бы мою кровь, точно паразиты, — бормочет Уильям. — Думают, что я поверю любым их басням.
Конфетка сочувственно приподымает подбородок, ожидая объяснений.
— Неделями божились, что прореживают старые кусты, — насмешливо произносит Уильям. — А занялись этим, скорее всего, только вчера под вечер! Вон, посмотрите на тот участок, просто патлы какие-то торчат!
Она оглядывается. По ней, так работники выглядят куда более патлатыми и менее ухоженными, чем любой из здешних кустов лаванды.
— Мне все они кажутся великолепными, — говорит Конфетка.
— Их следовало, черт побери, проредить намного сильнее, — заверяет ее Уильям. — Как раз в это время кусты пускают обильные корни.
— Кха-кха-кха! — заходится в кашле Полковник.
— Ваша ферма намного больше, чем я полагала, — замечает Конфетка, стараясь повернуть разговор в лестное для Уильяма русло. — Кажется, что полям и конца нет.
— Да, но мне принадлежит не вся эта земля, — отвечает Рэкхэм. И пользуясь тем, что они уже поднялись на вершину небольшого холма, указывает вниз, на длинную череду беленых кольев, которые тянутся вдоль одной из дорожек. — Вот это метит границу другой фермы. Лаванда растет тем лучше, чем больше ее высаживают. Пчелы же не отличают кусты одного хозяина от кустов другого. Всего разными участками здешних земель владеет с полдюжины парфюмерных компаний; мне принадлежит лишь сорок акров.
— Сорок акров! — представления Конфетки о том, много это или мало, крайне смутны; ей ясно, впрочем, что в сравнении, скажем, с Голден-сквер сорок акров — площадь огромная. Да, собственно, если бы гигантская лопата выкорчевала вместе с их загаженными корнями все улицы, на которых она жила, их можно было бы свалить прямо в податливой, как подушка, середке этого лавандового рая и забросать мягкой бурой землей, чтобы никто никогда подобной дряни больше не видел.
И однако же, эта ферма есть, о чем уже несколько раз напоминал ей Уильям, лишь малая часть его империи. В других местах расположены другие фермы, и на каждой из них выращивается свой, особый цветок, у него есть даже китобойные суда, добывающие для «Парфюмерного дела Рэкхэма» амбру и спермацет. Конфетка оглядывает раскинувшееся перед ней огромное озеро лаванды, примеряя его к тем количествам ароматических шариков или лепестков, какие смогли бы уместиться в ее ладони. Какое богатство, какое изобилие! Духов, флакончик которых она может купить за немалые деньги, хватает так надолго, а здесь, у самого их истока, духи, вне всяких сомнений, бесцеремонно разливают по бочонкам, а то, что переливается через край, просто втаптывают в грязь — так, во всяком случае, говорит ей воображение. Картина волшебная и непристойная, как образ ювелиров, бродящих по щиколотки в драгоценных камнях, давя их ступнями и перегружая лопатами в мешки.
— Но, право же, Полковник! — с мольбой обращается она к старику и в тоне ее столько же насмешки, сколько и подлинного чувства. — Здесь так… так чудесно. Признайте, по крайней мере, что все это составляет приятный контраст миссис Лик.
— Что? Приятный контраст? — старик принимается гневно ерзать в скрипучем кресле, стараясь извлечь из хранящейся у него в памяти энциклопедии катастроф факты особенно показательные. — Два с половиной года назад сгорели Объединенные фруктовые сады Гранвиля, одни только угли остались! — торжествующе объявляет он. — Двенадцать трупов! 27 числа прошлого месяца — пожар на спичечной фабрике Гетеборга, это в Швеции: сорок четыре человека погибли, девять получили смертельные ожоги! В прошлое Рождество в Виргинии всего за полдня выгорели дотла хлопковые плантации — вместе с тамошними дикарями!
Он замолкает, переводит взгляд на Уильяма Рэкхэма и плотоядно оскаливается:
— А какой костерок получился бы из этого вашего добра, мм?
— На самом-то деле, сэр, — с надменной терпимостью отвечает Уильям, — костер разводят здесь каждый год. Видите ли, мои поля разделены на участки соответственно возрасту того, что на них растет. Некоторым кустам уже пошел пятый год, они выдохлись и в конце октября их сожгут. И уверяю вас, огонь будет настолько силен, что весь Митчем пропахнет лавандой.
— О, какое чудо! — восклицает Конфетка. — Как я хотела бы попасть сюда в это время!
Лицо Уильяма рдеет от гордости — здесь, на холмике, — подбородок выпячивается в направлении принадлежащей ему империи. Какое чудо сотворил он: недавний изнеженный бездельник, пребывавший в стесненных обстоятельствах, стал ныне хозяином этой фермы с ее странно смуглыми работниками, снующими, точно полевки, между кустами лаванды. И шум их труда тоже принадлежит ему, и аромат миллиона цветов, и небо над ними, ибо — если все это принадлежит не ему, то кому же? О, разумеется, Бог по-прежнему владеет всем — предположительно, — но где следует провести разграничительную черту? Только помешанный стал бы настаивать на принадлежности Богу Паддингтонского вокзала или кучи коровьего навоза — так зачем же играть словами, отказывая Уильяму Рэкхэму во владении этой фермой и всего, что находится над и под нею? И Уильяму вспоминаются стихи Писания, которые отец его любил цитировать вечно питавшему сомнения юному Генри: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте (Рэкхэм Старший особо нажимал на это слово) над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле».
Уильям так живо припоминает эти слова, что ощущает себя едва ли не возвратившимся в маленькое тельце, которое занимал в семилетнем возрасте, — плетущимся при первом его посещении этой фермы за старшим братом. Отец, в ту пору темноволосый и рослый, привез их на лавандовые поля, решив, что эта часть его царства может показаться наиболее привлекательной мальчику, который в один прекрасный день оное унаследует.
— А этим леди и джентльменам разрешают уносить домой хотя бы часть лаванды, которую они собирают, отец?
Детский голос Генри — да, Генри, ибо Уильям и в семь лет таких дурацких вопросов не задавал, — доносится до него через все эти годы, чистый, как звон колокольчика.
— А им и не нужно тащить ее в дом, — снисходительно осведомляет своего первенца Генри Калдер Рэкхэм. — Они пропитываются запахом лаванды, просто работая здесь.
— Я думаю, это очень приятное вознаграждение. (Каким же ослом был Генри — всегда!)
Отец хохочет:
— Они работают не только за него, мой мальчик. Мне приходится еще и деньги им платить.
Недоверчивое выражение, появившееся на лице Генри, должно было уже тогда сказать старику, что он выбрал в наследники не того сына. Но не важно, не важно… Время возвышает всякого, кто достоин того.
— Ну тыыы!
Уильям, не обращая внимания на отвратительное брюзжание полковника Лика, окидывает, перед тем, как спуститься с Улейного холма, взглядом свои поля. Все здесь осталось таким же, как в пору его детства — вот разве работники не могут быть теми, что трудились во владениях Генри Калдера Рэкхэма двадцать один год назад, ибо мужчин и женщин тоже приходится, когда они ослабевают, выпалывать и уничтожать, точно выдохшиеся пятилетние растения.
Морщинистая, плотного сложения женщина, несущая на спине набитый ветками мешок, проходит мимо Уильяма и его гостей, кивая им угрюмо и угодливо.
— Вы рассказывали нам, мистер Рэкхэм, о пятилетних растениях, — раздается голос Конфетки.
— Да, — громко отвечает Уильям, глядя на приближающегося к ним второго работника с мешком за спиной. — Некоторые производители собирают урожай и с шестилетних кустов. Но только не Рэкхэм.
— А как скоро после посадки лаванды ее можно использовать, сэр?
— На второй год — хотя наилучшего качества она достигает только на третий.
— И сколько же лавандовой воды дают ваши поля, сэр?
— О, несколько тысяч галлонов.
— Поразительно, не правда ли, дедушка? — спрашивает старика Конфетка.
— Э? Дедушка! Да ты своего деда и не видела никогда!
Конфетка, повертев головой, убеждается, что работники с мешками отошли достаточно далеко и разговора их не услышат.
— Накличете вы нам беду, — погребальным шепотом выговаривает она Полковнику и в виде предостережения дергает его кресло за ручки. — Даже уличный попрошайка не доставляет столько хлопот, сколько вы.
Старик оскаливает зубы и выпутывает жутковатую голову свою из ее свивальников.
— А чего б ты хотела? — ухмыляется он. — Этим любые хитрости и кончаются. Шарады! Маскарады! Ха! Я не рассказывал тебе про лейтенанта Карпа, с которым служил в последнюю большую войну? (Под этим он разумеет не войну с ашанти и даже не Индийское восстание, но войну Крымскую.) Вот хороший пример хитрости! Карп напялил женский плащ, шляпку и попытался пролезть в них за линию фронта, а ветер как дунет, да как задерет ему плащ аж на голову, ну и оказался он у всех на виду — ковыляет кое-как, а между ног мушкет болтается. Никогда больше не видел, чтобы в одного человека столько палили. Ха! Ха! Ха! Хитрости!
Гогот его разносится по окрестным полям, и в них поднимается несколько голов.
— Весьма забавный анекдот, сэр, — холодно произносит Уильям.
— Не обращайте на него внимания, Уильям, — говорит Конфетка. — Он скоро заснет. После полудня он всегда дрыхнет.
Колючий подбородок полковника Лика гневно вздергивается:
— Это было годы назад, шлюшка, мне тогда нездоровилось! А сейчас я поправился!
Конфетка склоняется к нему, пальцы одной ее руки впиваются в правое плечо Полковника, другая ласково поглаживает левое.
— Виссски! — напевно сообщает она ему на ушко. — Виссссски! Через несколько минут полковник Лик уже обмякает, похрапывая, в кресле. Уильям Рэкхэм и Конфетка стоят в тени дуба, наблюдая издали за усердными тружениками. Конфетка так и пышет жаром — и не только от непривычных усилий, коих потребовало от нее катание Полковника в кресле, — ее переполняет счастье. Всю свою жизнь она считала себя горожанкой, полагала, что природа (которую знала лишь по одноцветным гравюрам и романтической поэзии) ничего дать ей не сможет. Теперь она с ликующей безоглядностью отбрасывает эту мысль. Ей необходима уверенность в том, что она проходит под этим великолепным синим небом, по этой мягкой, зеленой земле не в последний раз.
— Ах, Уильям, — говорит она, — ты ведь привезешь меня сюда снова — на большой костер?
— Да, конечно, — отвечает он, ибо распознает в ней свечение счастья и знает, кто его породил.
— Обещаешь?
— Даю слово.
Довольная, она отворачивается, чтобы взглянуть на северо-восток: там, далеко-далеко, висит украшенная радугой завеса дождя. Уильям смотрит на свою любовницу сзади, ладонью заслонив от солнца глаза. Длинная юбка ее мягко шелестит на ветру, лопатки, когда она поднимает, чтобы прикрыть лицо, руку, выступают из-под плотной ткани платья. И Уильям сразу же вспоминает ощущение, которое оставляет лежащая в его ладони грудь Конфетки, колкую остроту ее бедер, впивающихся в его куда более мягкий живот, упоительное прикосновение шершавых, потрескавшихся пальцев к его члену. Вспоминает, какими пышными становятся ее волосы, когда она раздевается догола, вспоминает тигровую расцветку кожи, походящей на схему, которая указывает его пальцам, как им следует ложиться на ее талию или на задницу, когда он вскальзывает в нее. Уильяма одолевает желание обнять ее, — как жаль, что ему не по силам на полчаса убрать с полей всех работников и лечь с Конфеткой на самом краю травы. Что мешает ему видеться с ней каждую ночь? Какой достойный своего прозвания мужчина не прижимал бы к себе это совершенное тело так часто, как только может? Да, он будет, он должен встречаться с ней в будущем сколь возможно чаще — но не сегодня, сегодня ему еще многое предстоит переделать.
Конфетка поворачивается к нему, в глазах ее стоят слезы.
Возвращение в Лондон — в наемном, запряженном четверкой экипаже — оказывается долгим, как пребывание в чистилище. Дождь, казавшийся с полей Рэкхэма таким далеким, встретил карету на середине пути и теперь молотит по ее крыше. Дурная погода замедляет движение, карета совершает загадочные остановки в попутных деревнях и деревушках, кучер слезает там с козел и исчезает на две, на пять, на десять минут. Вернувшись, он подолгу ковыряется в упряжи, проверяет надежно ли укрыто брезентом привязанное к крыше кресло старика, не промокло ли оно, возится с чем-то под днищем кареты, сотрясая ее. Поспешание явно не принадлежит к числу его девизов.
Сидящая в карете Конфетка дрожит, стискивает зубы, чтобы они не отбивали дробь. На ней все то же лавандовое платье и больше ничего — нет даже шали. Зная, что ей придется целый день возить кресло полковника Лика и стремясь посильнее очаровать Уильяма, она решила обойтись без дополнительных одежек и теперь страдает от этого. Однако прижиматься к старику, чтобы согреться, ей нисколько не хочется, уж очень мерзко от него пахнет — к тому же, Полковник, лишившийся привычной опоры, подлокотников кресла, раскачивается вместе с каретой и все норовит повалиться Конфетке па колени.
— Падение моста под проливным дождем, Хоик, 1867-й, — ворчит он, уставясь в холодное, темнеющее пространство между ними. — Трое погибших, не считая скота.
Конфетка охватывает себя руками, выглядывает в забрызганное грязью, исхлестанное дождем окошко. Природа, выглядевшая такой живописной, такой полной чудес, когда они обходили с Уильямом лавандовую ферму, впала в уныние, помрачнела, и теперь вокруг Конфетки расстилаются словно бы сотни квадратных миль Гайд-парка, давно оставленных без ухода, лишившихся фонарей и прогуливающейся публики. Карета трусцой подвигается вперед, к затерявшейся где-то столице.
— Урп, — рыгает полковник Лик. Отнюдь не нежные ароматы виски и кислых пищеварительных соков растекаются по холодному воздуху.
Поезд мог бы доставить их и туда, и обратно с милосердной быстротой, не говоря уж (впрочем, Уильям говорил) о том, что дорога обошлась бы намного дешевле; однако немощность старика сулила им массу неприятных забот на промежуточных станциях, да и без экипажей, которые везли бы его на вокзал Чаринг-Кросс, а после от железной дороги до Митчема, все равно было не обойтись, и потому наем кареты для совершения всего пути — туда и обратно — казался более разумным. Казался.
— Даю полгода на все про все, — произносит полковник Лик, — а после тебе наподдадут коленом под зад.
— Я вашим мнением не интересовалась, — резко отзывается Конфетка. (Хитрый старый мерзавец, он пустил стрелу в самое средоточие ее тревог. Уильяму Рэкхэму следовало бы сейчас сидеть рядом с ней, сокращая часы дороги оживленной беседой, согревая ладони Конфетки в своих: почему, ну почему он не сопровождает ее?).
Полковник прочищает свое слипшееся дыхательное горло и приступает к изложению новых сведений:
— Фанни Грешем — в 1834-м любовница судового магната Ансти, проживала в отеле «Мейфэр»; в 1835-м была брошена, после чего переселилась в тюрьму Холлоуэй. Джейн Хаббл, известная под именем Наташа, — в 1852-м любовница лорда Финбара, проживала в отеле «Адмиралтейство»; в 1853-м, обратившись в труп, переселилась в устье Темзы…
— Избавьте меня от подробностей, Полковник…
— Нииикого ни от чего избавить нельзя, никогда! — громыхает он. — Этому я научился, пока проходил долгий жизненный путь.
— Если бы вы все еще могли прохаживаться, старик, мы сели бы в поезд и сейчас были уже в Лондоне.
Пауза, Полковник переваривает оскорбление.
— Наслаждайся видами, шлюшка, — усмехается он, поводя своей достойной горгульи головой в сторону залитого водой окна. — Приятный контраст, а? Раааскошный!
Конфетка отворачивается, еще крепче обхватывает себя руками. Уильям любит ее, да, любит. Он сам так сказал — пьян, правда, был, но ведь не в стельку же. И он позволил ей приехать на ферму, хотя с легкостью мог заявить, протрезвев, что об этом и речи идти не может. И пообещал, что она снова приедет туда — в конце октября, а это будет… почти через семь месяцев.
Она старается почерпнуть мужество в мысли о том, сколько людей работает на Рэкхэма. Он же смирился с тем, что из личного его состояния каждую неделю уходят солидные суммы, а стало быть, содержание Конфетки не воспринимается им как единичная и очевидная убыль его средств. Поэтому и самой ей следует видеть в себе не приживалку, опустошающую его карманы, но часть огромного гобелена, сотканной несколькими поколениями картины прибылей и расходов. Все, что от нее требуется, это не выдергивать из гобелена собственную нить, но вплестись в него так, чтобы убрать ее из этой общей картины стало невозможно. Да она и успела уже сделать поразительный шаг вперед: ведь всего месяц назад она состояла в самых обычных проститутках! А в следующие полгода, кто знает, куда…
— Он пустомеля, — хрипит из-под мульчи своих шарфов Полковник, — и трус. Премерзкий тип.
— Кто? — раздраженно спрашивает Конфетка, ей хотелось бы укутаться так же тепло, как он, только без его добавочных ингредиентов.