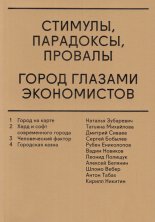Багровый лепесток и белый Фейбер Мишель

— Признать грехи? — шипит Агнес, еще шире раскрывая глазищи. — Согласна, ты должен признать их. Но ты не станешь этого делать, ведь так?
— Агнес…
Он снова напрягается, готовясь к ссоре, и снова сопротивляется подстрекательству.
— Лучше поговорим об этом, когда ты поправишься. Католическая твоя церковь или англиканская, — ты сейчас не в состоянии посещать никакую. Твои бедные ножки нуждаются в покое и ласке.
Ему вдруг приходит на ум ловкий способ убедить ее:
— К тому же, каково тебе будет, Агнес, если тебя внесут в церковь, как тяжелый груз, а окружающие будут глазеть?
Попытка воззвать к светским инстинктам Агнес просто испаряется под ее негодующим взглядом.
— Отчего я должна чувствовать себя тяжелым грузом? — голос ее дрожит, — я буду чувствовать себя… божественно. И я вовсе не тяжелая. Как ты смеешь!
Уильям осознает, что при всем наружном спокойствии его жена в бреду. Дальнейший разговор не имеет смысла, только Клару повеселит.
— Агнес, — резко заявляет Уильям, — я… я не разрешаю. Ты будешь посмешищем и сделаешь посмешищем меня. Ты останешься дома до тех пор…
С воплем страшной муки Агнес сбрасывает простыни и с проворством морского ежа ползет по матрасу в изножье кровати. Ухватившись за медные спинки и обливаясь слезами, она стонет:
— Ты обещал! Любить, беречь и почитать меня! Ты говорил: «Мне дела нет до того, что думает мир»! Ты говорил: «Все другие девушки смертельно скучны». Ты называл меня «мой странный маленький эльф!» Еще ты говорил: «Чего общество боится, — так это того, что оно называет эксцентричным». И еще: «Будущее может быть интересным, если нам достанет отваги быть интересными — а для этого надо ухватить мир за нос!»
У Уильяма от изумления отвисает челюсть. Он-то думал, что прошлая ночь была самым диким переживанием в его жизни, но это… Это гораздо хуже. Вызвать из забвения его юношеские притязания, его инфантильные декларации — и бросить ему в лицо!
— Я делаю для тебя все, что в моих силах, — убеждает он. — Ты больна, и я хочу окружить тебя заботой…
— Окружить меня заботой? — вскрикивает Агнес. — Когда ты вообще заботился обо мне? Смотри! Смотри! Что ты с этим собираешься делать?
Она откидывается на спину, задирает ночную рубашку, начинает бешено разматывать бинты.
— Агнес! Нет!
Уильям бросается к ней, хватает за руки, но она бьется, извивается, старается дотянуться до щиколоток. Окровавленные щупальца бинтов распускаются, обнажая посиневшие ободранные ткани с липкими сгустками темно-красного цвета. Он не может не заметить клочок светлых волос между тонких, как палочки, ног Агнес, которые она так бездумно оголила.
— Прошу тебя, Агнес, — шепчет он, пытаясь мимикой напомнить ей о присутствии за его спиной безмолвной свидетельницы, Клары, — нельзя же на глазах у прислуги…
Агнес разражается истерическим хохотом, страшными, животными звуками.
— Мое тело превращается в… сырое мясо, — выкрикивает она в изумлении и бешенстве, — моя душа почти погибла, а тебя прислуга беспокоит?!
Она отчаянно вырывается из его рук, колотя ногами по постели, марая кровью белоснежные простыни. Грудь Агнес лежит на руке Уильяма, такая полная грудь по сравнению с Конфеткиной — напоминает ему об упругости тела жены, о том, как пылко ожидал он некогда благословенный день, когда наконец это тело окажется в его объятиях…
Неожиданно Агнес затихает. Они соприкасаются плечами. Тяжело дыша, красная от напряжения, подбородок в слюне, она пронзает его взглядом праведного отвращения:
— Ты делаешь мне больно, — тихо произносит она. — Иди забавляться с кем-нибудь еще.
Он отпускает ее запястья, и она отползает к изголовью кровати, таща за собою ленты перепачканных бинтов. Она тут же оказывается под одеялом, голова на подушке, щека на ладони. Вздыхает, как ребенок, которому мешают спать.
— Я…
Уильям заикается, у него нет слов. Обращается к Кларе, бессильным жестом умоляя ее не злоупотреблять властью, которой наделила ее эта сцена.
Клара невозмутимо кивает.
— Я займусь ею, мистер Рэкхэм, — заверяет Клара, и он понимает, что его отсылают вон.
Ошеломленный и несчастный, Уильям бредет обратно в кабинет. Там его никто не ждет. Конфетка наверняка возвратилась в классную комнату, когда поняла, что ожидание бесполезно. Ну и пусть. Он принюхивается: сигарный дым, горящие угли, оставленный Конфеткой запах распалившейся женщины.
Он становится перед колеблющимся огнем камина, прижимается лбом к стене, расстегивает штаны и мастурбирует, постанывая от муки. Через секунду-другую сперма извергается прямо на зашипевшие угли. Его толстый живот зарос рано поседевшими волосами; до чего же нелепая он тварь, неудивительно, что его презирают. Оргазм кончился; пенис съеживается в липкий ошкурок, Уильям убирает его. Ссутулив плечи, Уильям поворачивается к письменному столу и от вида бумажных завалов сникает окончательно. Столько надо сделать, а его жизнь расползается по швам! Тяжело опускается он в кресло и закрывает лицо ладонями.
Спокойно, спокойно. Нельзя терять самообладание.
Едва понимая, что делает, он выдвигает объемистый нижний ящик конторки, где хранит письма, на которые уже ответил, но с которыми ему не хочется расставаться. Туда он складывает и разные другие вещи — например, «Новый лондонский жуир» и… вот это. Он вытаскивает это дрожащей рукой.
Захватанная пальцами фотография Агнес — тогда еще Агнес Ануин, — которую он сделал летом во время пикника на берегу Темзы. Отличная фотография, и довольно хорошо отпечатанная, если вспомнить, что он тогда еще был новичком. Особенно ему нравится, что Агнес (по его просьбе) сидела не шелохнувшись; поэтому ее безмятежно прелестное лицо запечатлено в резком фокусе, в то время как прочие — сынки аристократов, идиоты, все как один, возились с отворотами на брюках и болтали между собой, чем и обрекли свои лица на тусклую размытость. Молодец с гвоздикой в петлице, вероятно, этот болван Элтон Фитцерберт, остальные же — серые, мутные фантомы, чье назначение лишь в том, чтобы оттенять лучезарность возлюбленной Уильяма Рэкхэма. Он столько раз разглядывал эту фотографию, напоминая себе, что в ней зафиксирована история, которую нельзя переиначить.
Не замечая, что плачет, он продолжает рыться в нижнем ящике. Где-то должно храниться, если он не перепутал все на свете, надушенное письмо от Агнес, которое она прислала за несколько дней до их женитьбы. Она пишет, что обожает его, что ждет не дождется, когда станет его женой, что каждый день ее — это мука восхитительного предвкушения, — или что-то в этом духе. Он перебирает и внимательно просматривает программки забытых спектаклей, приглашения на выставки живописи, непрочитанные письма от брата с цитатами из Библии, угрозы кредиторов, которым давно уплачено. Но надушенное свидетельство страстной любви Агнес к нему… его нет. Неужели возможно, что исчезли все следы ее пылкой привязанности? Он низко склоняется к ящику и принюхивается. Старая бумага, глина на его подметках, Конфеткин секс.
Уже почти не надеясь, он достает помятый листок с самого дна. Но листок оказывается исписанным его рукой: это забракованный черновик письма, которое несколько лет назад он писал Генри Рэкхэму Старшему.
Дорогой отец,
тревоги, связанные с рождением дочери и с необходимостью оказания срочной медицинской помощи жене, естественно, оставили мне мало времени, которое я мог бы посвятить выполнению ожидающих меня обязанностей. Разумеется, при первой же возможности я займусь ими со всей присущей мне энергией, однако сейчас я огорчен письмом от наших адвокатов…
Мыча от боли, Уильям комкает в кулаке и выбрасывает листок. Господи, он теперь совсем другой человек! Как может судьба быть так жестока к нему, что лишает его восхищения Агнес теперь, когда он руководит огромным концерном, тогда как раньше он был слабаком и захребетником? Неужели нет на свете справедливости?
Действовать надо! Он придвигает к себе чистый лист бумаги и окунает перо в чернильницу. Уильям Рэкхэм, глава «Парфюмерного дела Рэкхэма», не упивается жалостью к себе — он продолжает делать свое дело! Да, свое дело! Чем он занимался? Ах да, вопрос с Вулвортом…
Генри Рэкхэму Старшему, выводит он, сосредоточенно припоминая подробности, которые ясно представлял себе двенадцать часов назад, когда еще не начался кошмар.
Мне стало известно, что в 1842 году «Парфюмерное дело Рэкхэма» сдало в аренду некоему Томасу Вулворту большой участок пахотной земли в Пэтчеме, Сассекс, поскольку участок был сочтен (я полагаю, Вами) слишком хлопотным для обработки. Я нашел весьма скудную документацию по этой сделке, но предполагаю, что существуют и другие документы. А посему просил бы Вас прислать мне все, что имеет отношение к этому вопросу и иным вопросам, касающимся «Парфюмерного дела Рэкхэма», раз уж поднят этот вопрос, — бумаги, до настоящего времени не представленные Вами…
Уильям морщится от нагромождения вопросов в последней фразе. Kак раз тут была бы полезна помощь Конфетки, будь она здесь. Но она тоже ускользнула от него.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ
Рождество, — диктует Конфетка и ждет.
Софи сутулится над тетрадкой в сером свете раннего утра и записывает диковинное слово сверху чистой страницы. Даже видя слово вверх ногами и уголком глаза, Конфетка замечает пропущенную букву «т».
— Падуб.
Софи опять скрипит пером. На этот раз правильно.
— Блестки.
Софи ищет вдохновения у игольчатой веточки на камине, нарядно обрызганной серебряной и красной краской, потом погружает перо в чернила и заносит на бумагу свою догадку. Получается — «блески».
Конфетка решает помягче исправить ошибку Софи — сочетать правописание с юмором:
— Софи, бедное маленькое «т» улизнуло у вас из «Рождества», а потом позвало за собой и «т» из «блесток»…
— Омела.
И сама сразу прикусывает гyбy, потому что морщинка на лобике Софи углубляется — видимо, девочка теряет последнюю надежду справиться с заданием. А у Конфетки это слово неожиданно воскрешает в памяти Агнес: она снова видит, как лопата врезается в белую плоть — и брызжет кровь.
— Амела, — пишет Софи.
— Снег, — говорит Конфетка, выбрав простое слово. Софи смотрит в окно — и правда. Наверное, у гувернантки и на затылке глаза.
Довольная Конфетка улыбается. Это Рождество, которое она проведет с Рэкхэмами, можно сказать, первое в ее жизни, потому что заведение миссис Кастауэй мало подходило для праздников. Ей в новинку мысль, что скоро наступит особый день, в любом случае наступит — что бы ни преподнесла судьба. Конфетка опасается, что двадцать пятое декабря будет таким же днем, как прочие, но все равно многого ожидает от него.
В последнее время дом Рэкхэмов стал другим, и перемену нельзя объяснить просто тем, что он украсился падубом, мишурой и колокольчиками. Уильям по-прежнему любит ее, и это огромное утешение, а мысль, что они и дальше будут вместе, соединенные общим делом и тайной, помогает противиться ядовитому шепоту дурных предчувствий. Но даже не любовь Уильяма питает ее надежды; она чувствует перемену в настроении обитателей дома. Все сделались дружелюбней и ближе.
Конфетке больше не кажется, что ее прибежище — это две комнатки большого и таинственного дома, в котором она поспешно пробегает мимо закрытых дверей, боясь рассердить злых духов. Теперь, с приближением Рождества, она ходит по дому, водя за руку Софи, и везде ее встречают как свою. Прислуга улыбается, Уильям кивает на ходу, и никто не упоминает о том, что известно каждому: миссис Рэкхэм у себя, наверху, день за днем проводит в ступоре от снотворных.
— Здравствуй, малышка Софи, — говорит Роза, когда ребенок приносит очередную корзинку свежеизготовленных бумажных гирлянд. — Какая же ты у нас умница!
Софи сияет. Она никогда в жизни не получала столько похвал, и за что? — она просто нарезала ленты из разноцветной бумаги и склеила из них цепочки — именно так, как показала гувернантка! Может быть, найти себе место в мире — дело не такое уж тяжкое и неблагодарное, как внушала ей нянька…
— Где мы их повесим, Летти? — кричит Роза своей помощнице наверху. Служанки старательно делают вид, что у них мало гирлянд, хотя они уже висят повсюду — на перилах, в курительной комнате (Господи, хоть бы мужчины были поосторожней с сигарами!), в посудной (где цепи уже обмякли от сырости, но Джейни так радовалась, что и о ней подумали), на пианино и в той непонятной комнатушке, где раньше вечно пахло сохнущим бельем и мочой, а теперь она пустует. Надо думать, скоро доберутся до конюшни и Стриговых парников.
Вчера заходил продавец падуба, у которого взяли три пука веток — на два больше, чем в прошлом году. («Богато берут, душечка», — подмигнул он торговке омелой, с которой столкнулся, выходя). И действительно, в доме Рэкхэмов не жалеют денег в желании стереть память о Рождестве 1874 года, которое «праздновали» — если позволительно употребить это слово — в невеселых обстоятельствах. В этом году — пусть никто не сомневается, от лордов и леди до последней посудомойки — Уильям Рэкхэм празднует не хуже других! Вот так! Падуб? Да хоть три мешка! Съестное? Кухня уже лопается он припасов! Украшения? Пускай ребенок делает, что хочет!
Когда маленькая Софи не занимается гирляндами, она с наслаждением рисует рождественские карточки. Конфетка накупила ей дорогих карточек у разносчика, которому Уильям, не без колебаний, позволил войти в дом и разложить в гостиной свои товары, чтобы на них посмотрела прислуга. Кроме обычных — изображений семейного счастья у камина и раздачи милостыни оборванным беднякам — там были и смешные: лягушки пляшут с тараканами, северный олень кусает надутого сквайра. Последняя безумно понравилась кухонной прислуге; все они так жалели, что она им не по карману. Конфетка купила самые дорогие открытки, с выдвижными панельками, со всякими штучками. Вдруг Софи захочется сделать такие же!
Так и вышло. Софи в восторге; судя по всему, у нее никогда не было более роскошной и увлекательной игрушки, чем рождественская открытка в виде дома в строгом георгианском стиле, который, если потянуть за бумажный язычок, раздвигает шторы на окнах, показывая красочную картинку — семью за праздничным столом. Софи не знает слова «гений» и поэтому зовет человека, придумавшего такую невероятную штуку, «мастер-умник»; она часто достает открытку и вытягивает язычок, чтобы напомнить себе, как безупречно все сработано. Рождественские открытки, которые она сама рисует, раскрашивает и склеивает, довольно топорны, но Софи не сдается и упрямо мастерит череду картонных домиков, внутри которых малюсенькие семьи сидят за праздничным столом. Каждый новый домик выходит у нее лучше прежнего. Софи одаривает домиками всех, кто принимает их.
— Ах, благодарю вас, Софи, — говорит повариха. — Этот домик я пошлю моей сестре в Кройдон.
— Спасибо, Софи, — улыбается Роза, — такой подарок обрадует мою мать.
Даже Уильям охотно принимает открытки, поскольку, несмотря на дефицит родни, у него достаточно деловых партнеров и служащих, которые будут тронуты таким редкостным жестом.
— Еще один! — восклицает он с деланным удивлением, когда Конфетка приводит к нему в кабинет Софи с очередной открыткой. — Да ты просто производство наладила, и все собственными руками, да?
Он подмигивает Конфетке, которая не может взять в толк, что именно это должно означать.
После кратких встреч с отцом — кратких из-за его полной неспособности придумать еще одну фразу для дочери — Софи бывает неуравновешенной; возбужденная болтливость в один миг сменяется хныканьем, но в целом, решила Конфетка, Софи полезно быть замеченной человеком, который произвел ее на свет.
— Мой отец — богатый человек, мисс, — однажды объявляет девочка, когда они с Конфеткой собираются взяться за историю, пока что за австралийскую. — Его деньги лежат в банке, и с каждым днем их все больше.
Еще одна отрыжка мудрости Беатрисы Клив — это ясно.
— Есть множество людей богаче вашего отца, дорогая, — осторожно замечает Конфетка.
— Он их всех побьет, мисс.
Конфетка вздыхает, представляя себе, как они с Уильямом сидят под гигантским зонтом на вершине Уэтстонского холма, попивая лимонад, и дремотно глядят вниз на поля созревшей лаванды.
— Если он мудрый человек, — говорит Конфетка, — он удовлетворится тем, что у него есть, и будет радоваться жизни, не изнуряя себя работой.
Софи проглатывает эту порцию морализаторства, но явно не может переварить ее. Софи уже пришла к заключению, что ее отец потому совсем не похож на нежных папаш из сказок Ганса Христиана Андерсена, что Всевышний строго наказал ему покорить мир.
— А где ваш папа? — интересуется Софи.
(«В аду горит, деточка», — когда-то ответила на такой же вопрос миссис Кастауэй.)
— Не знаю, Софи, — говорит Конфетка, стараясь вспомнить об отце что-то, кроме ненависти к нему матери. В изложении миссис Кастауэй — это был мужчина, который одним содроганием таза превратил ее из приличной женщины в ничто и не стал дожидаться последствий своего поступка.
— Думаю, его нет в живых.
— Это был несчастный случай, мисс, или он ушел на войну? Мужчины имеют склонность либо погибать от пуль, либо сгорать у себя дома; это Софи уже усвоила.
— Не знаю, Софи. Я его никогда не видела.
Софи сочувственно склоняет голову — такое вполне может случиться, если отец очень занят.
— А где ваша мама, мисс?
По спине Конфетки пробегает холодок.
— Она… дома. У себя дома.
— Совсем одна? — Софи, начитавшаяся детских книжек, задает вопрос с сочувствием и надеждой.
— Нет, — Конфетке так хочется, чтобы ребенок спросил о чем-то другом. — У нее бывают… гости.
Софи смотрит на ножницы, клей и прочие художественные материалы, отложенные в сторону, пока она занимается Австралией, и твердо обещает:
— Следующую карточку я сделаю для нее, мисс.
Конфетка старается изобразить улыбку и отворачивается, чтобы Софи не заметила злых слез в ее глазах. Она, не глядя, листает книгу по истории и несколько раз пропускает Австралию.
Конфетка медлит, раздумывая, не рассказать ли Софи правду. Нет, конечно, не про публичный дом своей матери, а про Рождество. Как оно никогда не праздновалось во владениях миссис Кастауэй, как Конфетка только в семь лет поняла, что существует какой-то всеобщий повод, чтобы уличные музыканты начинали играть известные мелодии в конце того (она и этого не знала), что называется «декабрь». Да, семь лет ей было, когда, расхрабрившись, она спросила мать, что такое Рождество, и миссис Кастауэй ответила (только в тот раз; после этого тема была запрещена навеки):
— Это день, когда Иисус Христос умер во искупление наших грехов. Очевидно, без толку, раз мы и сейчас расплачиваемся за них.
— Мисс?
Конфетка очнулась — она с такой силой сжимала книгу по истории, что чуть не порвала страницы ногтями.
— Простите меня, Софи, — она поспешно расправляет страницы. — Я видимо, что-то не то съела. Или, может быть (она замечает тревогу на лице ребенка и стыдится, что испугала Софи), я просто слишком взволнована приближением Рождества. Потому что (она делает глубокий вдох и, стараясь не сорваться, переходит на веселый тон) Рождество — счастливейший день в году!
— Дорогая леди Бриджлоу, — выпаливает Бодли, — хотя все мы знаем, что через несколько дней поднимется огромный тарарам из-за липового дня рождения одного еврейского простолюдина, ваш чудный прием есть подлинная кульминация декабрьского календаря!
Он поворачивается к гостям, и те награждают его нервическими смешками. До чего же забавен этот Филип Бодли, но иногда он говорит немыслимые вещи! А когда рядом нет его более здравомыслящего приятеля Эдварда Эшвелла, так он попросту срывается со всех якорей! Но все хорошо: леди Бриджлоу увела его к Фергюсу Маклеоду, который с легкостью переспорит его. Как непринужденно умеет она управлять своими soires!
Уильям удачно держится поодаль от Бодли, недоумевая, как можно быть таким бесцеремонным — явиться пьяным на обед. Констанция контролирует ситуацию с присущим ей изяществом, но все равно… Уильям поворачивается на каблуках и обращает внимание на служанку, которая сбрызгивает водой огонь в камине, чтобы в переполненной гостиной было не так жарко. Поразительно — девушка без распоряжения знает, что ей нужно сделать! В таких мелочах как раз и проявляется талант Констанции — в ее доме быт отлажен, как хорошо смазанная машина. Господи, она и его прислугу могла бы кое-чему поучить… Прислуга старательная — в большинстве своем — но нет твердой руки хозяйки дома…
Леди Бриджлоу дает небольшой обед, всего на двенадцать персон; со многими ее гостями Уильям познакомился во время минувшего Сезона, с остальными встретился впервые. Констанция, как всегда, собрала интересную компанию из разных людей. Она специализируется на людях, которые несколько отдалены от замшелого старого мира, но все же остаются в пределах привычного: «жители грядущего века», как она их называет.
Вот Джесси Шарплтон, только что из Занзибара: кожа цвета свежей корицы, голова забита жуткими историями о варварстве язычников. Эдвин и Рэйчел Мамфорды разводят собак. Кларенс Ферри — автор «Ее досадного упущения», пьесы в двух актах, с успехом идущей на сцене. Сестер Элис и Викторию Барболд охотно приглашают на обеды по причине их декоративных мордашек и способности исполнять коротенькие, приятные мелодии на скрипке и гобое. (Леди Бриджлоу часто говорит: «Так тяжело найти людей музицирующих, но нескучных; тот, кто хорошо играет, как правило, не знает меры, а знающие меру не так уж и музыкальны».) Присутствие Филипа Бодли после их разрыва из-за Агнес могло бы раздосадовать Уильяма, но, слава Богу, Филип увлеченно разговаривает с Фергюсом Маклеодом, членом Верховного суда, хорошо известным экспертом по делам, связанным с подстрекательствами к мятежу, клевете и государственной измене, и старается выкачать из него как можно больше сведений.
Общество занятное и веселое; от запахов приближающегося обеда — яств, проносимых коридорами в столовую, слюнки текут. И все же Уильяму немного не по себе. Уходя из дому, он был полон надежды на выздоровление Агнес (в дремотном состоянии она выглядит просто ангелом; когда он наклоняется поцеловать ее в щечку, она бормочет нежные слова и просит его быть снисходительным… Наверняка ведь то, что женщина говорит во сне, ближе к истине, чем злые слова, сказанные наяву!) Но здесь, у леди Бриджлоу, каждый раз, как в разговоре возникает тема его жены, окружающие смотрят на него с жалостью. Как же так? Ему казалось, что Агнес имела успех в этом Сезоне! Нет спору, было и несколько скользких моментов, но в целом она превосходно держалась — или нет?
— Вы говорите, самая крупная в мире выставка механических игрушек? — включается он в разговор, стараясь следить за рассказом Эдвина Мамфорда об интереснейших событиях Сезона. — А я даже не слышал о ней!
— Во всех газетах писали.
— Странно, что я пропустил… Вы ведь не имеете в виду показ в Королевском театре этого механического человечка — как его звали… «Психо»?
— «Психо» — просто разрекламированный обман, детская игрушка, — фыркает Мамфорд, — а это громадная выставка, где были исключительно автоматы!
Уильям качает головой, поражаясь, как он мог прозевать такое замечательное событие.
— Может быть, мистер Рэкхэм, — вмешивается Рэйчел Мамфорд, — вы тогда были расстроены недугом вашей бедной жены.
Дворецкий объявляет, что обед подан. Уильям, как в тумане, усаживается за стол, выбирает себе суп из ревеня и ветчины, хотя есть и консоме, которое он любит больше. Он совсем запутался, он даже такое решение не может принять. Обед набирает темп, на столе множатся тарелки с супом, но Уильям пережевывает куда более важное открытие: похоже, окружающие не только ничуть не осуждают его за плачевное состояние жены, но, пожалуй, даже ожидают, что он поднимет руку и скажет — «Хватит!».
Он исподтишка посматривает на гостей, поглощающих суп: они ведут себя совершенно непринужденно — правило цивилизованного общения. Он тоже держался бы непринужденно — если бы перед ним не маячил призрак Агнес на точно таком же обеде два года назад, когда она обвинила хозяйку дома в том, что к столу подана еще живая курица.
Погруженный в свои мысли и поедая все, что ставят перед ним, Уильям вспоминает начало семейной жизни, день свадьбы, вспоминает даже, как составлялся брачный контракт с лордом Ануином. Лорд Ануин помнится с особенной живостью, что неудивительно, поскольку в данную минуту — лорд и леди Ануин сидят за столом наискосок от него.
— А, да, — хмыкает он, когда леди Бриджлоу заговаривает о том, как расширились его владения, — я стараюсь удержать имение в разумных пределах, но соседи без конца навязывают мне свои чертовы участки, и в результате — имение все растет и растет, прямо как мой живот!
Он и вправду растолстел, он набухает старостью; былая лисья морда исчезла под брылями от континентальных пирожных, под толстыми щеками, красными от выпивки и солнца.
— А это что? Филе? Ну что вы со мной делаете, Констанция? Меня придется выкатывать отсюда на тачке!
На этом он предоставляет дамам возможность остаться в своей компании и, прихрамывая, уходит к мужчинам в курительную комнату, где стоит наготове хрустальный графин с портвейном и шесть рюмок.
— А, Рэкхэм! — восклицает лорд Ануин.
Перед обедом Мамфорды так ревниво монополизировали его внимание, что они с зятем перебросились лишь несколькими незначащими словами; теперь у них появился шанс поговорить.
— Я ведь соврал, когда сказал, что много лет не видел твоего лица: куда ни поеду, я всюду вижу его! Даже в аптеках Венеции обнаружил твою физиономию на разных баночках и скляночках!
Уильям почтительно наклоняет голову, не понимая, насмешка это или похвала. (Но все же, этот Баньини из Милана, похоже, действительно свое дело знает, чем и хвастался.)
— Как-то странно, — продолжает лорд Ануин, — в чужой стране заходишь в магазин за куском мыла и вдруг замечаешь — оказывается, Уильям Рэкхэм бороду отпустил! Занятно, правда?
— Чудеса современного мира, сэр: я могу выставлять себя на посмешище в Венеции и в Милане, одновременно делая то же самое здесь.
— Ха-ха, неплохо, ей-Бoгy, неплохо, — громыхает лорд Ануин, суя сигару в пламя спички, поднесенной зятем, и обдавая его лицо дымом.
В нем росту всего пять футов одиннадцать дюймов, от силы — шесть футов. А когда он просил руки Агнес, этот грозный аристократ казался ему великаном.
— Конечно, в провинциях, — насмешничает Кларенс Ферри в другом углу комнаты, — они произнести это правильно не мoгyт, уже не говоря о том, чтобы понять.
— Но им же нравится, не так ли? — устало мямлит Эдвин Мамфорд, пытаясь поймать взгляд Уильяма в надежде на спасение.
— О да, на их лад.
Много позднее, когда гости стали расходиться по домам, а в курительной не продохнуть от дымовой завесы, пропахшей алкоголем, лорд Ануин обрывает рассказы о похождениях на континенте и, как часто бывает с пьяными, вдруг становится серьезным.
— Послушай, Билл, — говорит он, наклоняясь к зятю, — до меня дошли слухи о том, что происходит с Агнес, и скажу тебе, меня это не удивляет. У нее всегда был ветер в голове, с самого детства. Могу на пальцах одной руки сосчитать, сколько разумных вещей она за всю жизнь сказала. Ты меня понимаешь?
— Полагаю, что да, — говорит Уильям.
Перед ним возникает образ Агнес, какой он видел ее всего несколько часов назад — волосы разметаны по подушке, губы распухли, веки трепещут, она пытается высвободить ноги из-под простыней и бормочет:
— Слишком жарко… Жарко…
— Знаешь, — откровенничает старик, — когда ты просил ее руки, я вообще-то подумал, что тебе не то достанется, чего ты ждешь… Я должен был тебя предупредить… как мужчина мужчину, но… надеялся, что она родит, и это приведет ее в норму. Оказывается, не привело, так?
— Так, — мрачно соглашается Уильям. Вот уж что не принесло ей пользы, так это рождение Софи.
— Но послушай меня, Билл, — советует лорд Ануин, и глаза его сужаются, — не давай ей больше бесчинствовать. Ты не поверишь, но ее выходки уже известны по ту сторону Пролива. Да! Я в Тунисе узнал об ее истерических припадках с криками, представляешь себе? В Тунисе! Что касается ее гениальных идей о том, как следует устраивать приемы, то, может быть, здесь они безумно оригинальны, но уравновешенной француженке они не кажутся такими уж остроумными — это я тебе говорю. А фиаско с «кровью в бокалах» — эта история у всех на устах. Почти легенда!
Уильям ерзает, глубоко затягивается сигарой, кашляет. До чего же неумолимо распространяется дурная слава! Это такая давняя история… Сезон 1873 года, или даже 1872-го… Несправедливо устроен мир — человек может истратить целое состояние на рекламу своей парфюмерии в Швеции, а через месяц ни один швед ее уже не помнит; а секундная неосторожность невезучей женщины, глупость, которая произошла за закрытыми дверями в один злосчастный вечер 1872 года, становится известна всем, с легкостью пересекает моря и государственные границы и годами не сходит с уст!
— Поверь мне, Билл, — говорит лорд Ануин, — я не собираюсь учить тебя, как поступать с твоей собственной женой. Твоя жена — это твое дело. Но позволь рассказать тебе еще одну историю.
Он допивает свой портвейн и ближе придвигается к Уильяму.
— У меня есть небольшой дом в Париже, — тихо рассказывает он, — и соседи мои — люди до крайности любознательные. Услышали, что я отец Агнес, но не знали, что ее настоящий отец — не я. И когда выяснилось, что у меня есть еще двое детей от Прюнеллы, отвели меня в сторонку и спрашивают, в порядке ли дети. Я говорю: в каком смысле! Разумеется, они в полном порядке. Соседи не отстают: «Значит, дети не выказывают никаких признаков?» — «Признаков чего?» — спрашиваю я.
Заново переживая неприятный разговор, лорд Ануин повышает голос.
— Они думают, что я произвожу на свет безумных детей, Билл! Справедливо это, чтобы меня и моих детей подозревали в том, что у нас дурная кровь только потому, что все еще на воле слабоумная дочь Джона Пиготта? О не-е-ет…
Он внезапно обмяк, на носу выступили красные прожилки.
— Если она не поправится, Билл, запри ее. Так будет лучше для всех.
Часы бьют половину одиннадцатого. В курительной остались только Уильям с тестем. Тихо входит дворецкий леди Бриджлоу и наклоняется к лорду Ануину со словами:
— Пpoшy прощения, сэр, но миледи просила сообщить вам, что ваша супруга заснула.
Лорд Ануин тяжело подмигивает Уильяму и, взявшись жирными от еды руками за подлокотники кресла, готовится подняться.
— Женщины, — ворчит он.
Разговор чрезвычайно встревожил Уильяма. Он целыми днями раздумывает о нем. Однако, в конце концов, совсем другое подтолкнуло его к решению относительно судьбы Агнес: не советы друзей, не настояния доктора Керлью, даже не едкие слова, влитые ему в уши лордом Ануином. Нет — нечто совершенно неожиданное, что не должно было бы оказать на него ни малейшего влияния, но оказало — таланты к резьбе по дереву безвестного рабочего с его плантации.
22 декабря Уильям отправляется в поездку на ферму в Митчем — наблюдать за установкой пресса для лаванды, который следующим летом должен — по крайней мере, на одной стадии переработки сырья — заменить человеческий труд. Уильяма давно уже не удовлетворяла система, при которой босоногих мальчишек нанимали топтать лаванду перед загрузкой в дистилляционную камеру. Помимо сомнений в гигиеничности процесса, он не уверен, что мальчишки обходятся ему так уж дешево и работают так эффективно, как считал его отец, — они вечно норовят улизнуть, жалуясь, что их жалят пчелы. Уильям не сомневается, что машина окажется лучше, и вот он с гордостью любуется новым прессом, хотя пока еще нет лаванды, чтобы опробовать его.
— Отлично, отлично, — хвалит он управляющего, заглядывая в чугунную полость, назначение которой ему совершенно не понятно.
— Прекрасная вещь, — заверяет его управляющий, — самая лучшая.
Митчем завален снегом, да и большая часть Суррея тоже; Уильям пользуется случаем пройтись в одиночестве по своим полям, полюбоваться их нетронутой белизной, под которой дремлет урожай будущего года. Трудно поверить, что когда-то он считал залогом своего будущего невразумительные стихи и ненапечатанные эссе, а не эти огромные и надежные владения, эту неколебимую, плодородную, прочную основу. Увязая галошами в глубоком снегу, он продвигается к полоске деревьев, которая загораживает от ветра его лаванду. Он взмок от пота под своей нерповой курткой и перчатками на меху. Прислонившись к первому же дереву, он глубоко дышит, выпуская клубы пара в морозный воздух.
Только постояв с минутку и переведя дух, он замечает на обсыпанной снегом коре грубо выцарапанную надпись:
Он в изумлении читает и перечитывает слова. У него нет охоты выяснять, кто из его работников тратит бесценное время на выцарапывание этой шутки. На уме у него лишь одно — безумие его жены известно всем и каждому; притча во языцех… Даже рабочие на ферме говорят об этом. Все вокруг смеются над ним; он с таким же успехом мог быть и рогоносцем!
Ветерок приводит в движение остатки листвы, сухой, как папиросная бумага, и Уильям, понимая, что это бред, обшаривает глазами ветки, на случай, если Агнес все-таки там.
В доме Рэкхэмов образовался переизбыток ангелов; их столько, что всех невозможно разместить на рождественской елке. Конфетка, Роза и Софи все обошли на нижнем этаже в попытке найти местечко, еще не увешанное украшениями. Не сдаваясь, они пристраивают хрупкокрылых фей в самых невероятных местах: на подоконниках, на часах, на новой вешалке для шляп, на картинных рамах, на оленьих рогах, на крышке пианино, на спинках редко используемых кресел.
А теперь уже утро рождественского сочельника — время для наведения окончательного лоска. За окном вьюжно, жутковато и тихо. Только что принесли почту; в запотевшее и замерзшее окно гостиной еще видна сгорбленная фигура почтальона, уходящего в молочную мглу.
В доме тепло; в каминах, потрескивая, пылает огонь; даже пришлось передвинуть елку к противоположной стене гостиной, подальше от вылетающих искр. Конфетка, Роза и Софи присели на корточки вокруг деревянной крестовины, скромно натянув юбки до щиколоток, и собирают упавшие украшения. Роза тихонько напевает:
Наступает Рождество, Гусь уже на блюде, Пенни в шляпу старику Положите, люди!
Не осталось ни одной свободной веточки, на которой не висела бы цветная нитка, серебристый шарик или фигурка из спичечной соломки, но самое главное еще впереди. Роза, страстная читательница женских журналов, вычитала совет: как украсить рождественскую елку снегом, который будет выглядеть совсем как настоящий. В соответствии с этим простым рецептом, она налила в пустой флакон-распылитель из-под духов Рэкхэма смесь воды и меда, описанную в журнале как «безвредный и эффективный клей для закрепления муки, которая будет изображать снег». Теперь Роза, Конфетка и Софи, вооружившись распылителями, обрызгивают ветки липкой жидкостью.
— Вот незадача! — Роза нервно смеется. — Это надо было сделать, прежде чем мы взялись наряжать елку!
— Придется осторожнее обсыпать ветки мукой, иначе мы все перепачкаем, — соглашается Конфетка.
— На будущий год умнее будем, — вздыхает Роза.
Она только что заметила, что мисс Рэкхэм разбрызгивает воду с медом по ковру, и раздумывает, вправе ли она запретить ребенку участвовать в разбрасывании муки. Ей льстит, что мисс Конфетт охотно трудится вместе с простой горничной, но не хочется рисковать — тут малейшая ошибка может испортить отношения.
— В сторонку, Софи, — говорит гувернантка, — вы будете нашей советчицей.
Обе женщины по очереди насыпают муку друг дружке на ладони, как можно аккуратней стряхивая ее на липкие ветки. У Конфетки голова кружится от триумфа: быть одной из домочадиц Рэкхэма, практически членом семьи, обмениваться с Розой улыбками, подтверждающими, что обе занимаются глупостями. Никогда еще сотрудничество с другой женщиной не давало ей чувства такой интимности — а она много чем занималась с женщинами. Роза доверяет ей, она доверяет Розе, они заключили — без слов — соглашение о том, что доведут эту работу до конца; они сыплют муку друг другу на руки и надеются, что это останется их маленькой тайной.
— С ума мы посходили, — сердится Роза, когда они начинают чихать от разлетающейся по комнате муки.
Конфетка подставляет ладони, на которых мука подчеркнула каждую трещинку и шероховатость. Но слов не нужно — у всякой женщины свои несовершенства; например, вблизи заметно, что Роза чуть-чуть косит. Значит, они ровня.
- А у кого нет пенни,
- Полпенни в самый раз!
- Полпенни тоже нету?
- Ну так Бог подаст!
Еще чуть-чуть побрызгать — и дело сделано. Гостиная вся в муке, но то, что прилипло к веткам, и впрямь удивительно похоже на снег — как и было обещано в журнале; а остальное можно вымести в одну минуту. Но подметать гувернантка не будет, решительно объявляет Роза. За подметанием Роза запевает «Двенадцать рождественских дней», но повторяет только первый куплет о первом дне. Голос у нее грубоватый и дрожащий, не то, что голосок Агнес, но он создает праздничное настроение. Роза поет одна — Софи и Конфетка застенчиво переглядываются, но подпевать не решаются.
В первый день Рождества мне любовь поднесла куропатку…
Неожиданно в гостиную входит Уильям. Он выглядит озабоченным, в руках у него лист бумаги. Он застывает на пороге с видом человека, который шел в другую комнату, но в коридоре не туда свернул. Елка, теперь уже обратившаяся в рококошное сооружение из игрушек, муки и мишуры, будто не фиксируется в его сознании; а если он и замечает, что обе взрослые женщины по локоть запудрены белым, то никак на это не реагирует.
— А… великолепно, — говорит Уильям и мгновенно исчезает. Но вяло опущенная рука держит письмо, которое, будь почерк доктора Керлью вдесятеро крупнее, можно было бы прочитать с другого конца комнаты, хотя Конфетка все равно не поняла бы смысла краткого сообщения: «Согласно нашей договоренности, я все подготовил на 28 декабря. Поверьте, Вы не пожалеете об этом».
Роза испускает вздох облечения. Хозяин имел повод разгневаться, которым не воспользовался. Она наклоняется к совку и щетке и снова запевает.
Когда мука убрана, Роза вместе с Конфеткой и Софи кладут на место нарядно упакованные подарки. Сколько коробочек и свертков, перевязанных красными лентами или серебряными шнурками, а внутри — что, что внутри? Единственный пакет, содержимое которого доподлинно известно Конфетке, это подарок от Софи отцу, остальное покрыто тайной. Помогает красиво разместить подарки под елкой: маленькие пакеты должны перемежаться большими, бесформенные свертки надо класть на большие коробки. Конфетка изображает отсутствие интереса к наклеечкам с именами получателей.
Те немногие, что она все же прочитывает, ничего ей не дают (Хэрриэт? Кто такая эта Хэрриэт?), а выяснять это на глазах у Розы и Софи тоже невозможно, верно?
«Господи, — молит Конфетка, — сделай так, чтобы среди подарков было что-то и для меня».
Поднявшись наверх, Уильям как можно тише открывает дверь в спальню жены и проскальзывает внутрь. Хоть он и убедил Клару отлучиться на час-другой, все же поворачивает ключ в замке — на случай, если звериный инстинкт неожиданно позовет ее назад.
В четырех стенах комнаты Агнес ничто не напоминает о празднике. Вообще в комнате почти не осталось напоминаний ни о чем, поскольку вся дребедень увлечений Агнес — и вообще все, что мешает Кларе ухаживать за нею, — давно отправлено в кладовку. В комнате пусто и тщательно убрано. Что же до стен, то они были оголены задолго до злополучного события — у Агнес всегда были сложные отношения с картинами. Последний эстамп, оживлявший ее спальню, был выставлен вон, когда один из дамских журналов постановил, что пони — это вульгарно; предыдущую картину пришлось снять, когда Агнес объявила, что из нее каплет эктоплазма.
Теперь Агнес спит, нечувствительная ни к чему, даже к странному поведению метели прямо за ее окном, даже к приближению мужа. Уильям осторожно приподнимает стул, ставит его у изголовья кровати и садится. Спертый воздух пропитан запахами наркотической микстуры, крепкого бульона и мыла — «Гвоздичного крем-мыла Рэкхэма», если он не ошибается. В последнее время в спальне вечно плещут мыльной водой. Во избежание риска — мало ли что, упадет, захлебнется в тазу — Клара моет хозяйку прямо в постели, а потом просто меняет белье. Уильяму это известно от Клары, которая на его предложение нанять вторую горничную ей на подмогу только фыркнула, показывая, что он оскорбил ее стоическое терпение.
Уильяму дали понять, что ноги Агнес быстро не заживут. Доктор Керлью считает, что левая может остаться искалеченной, и Агнес будет хромой. Впрочем, возможно, она и сохранит свою грациозную походку. Трудно делать прогнозы, пока она не поднимется и не начнет передвигаться.
— Скоро, — шепчет Уильям, наклоняясь поближе к спящей головке, — скоро ты будешь там, где тебе станет лучше. Мы ведь больше не знаем, что с тобой делать, да, Агнес? Устроила ты нам нервотрепку, вот уж устроила…
Прядка льняных волос щекочет нос, заставляя его подергиваться. Он кончиками пальцев отводит прядку с лица.
— …Спасибо, — откликается она из глубин анестезии.
Ее губы утратили природный розовый цвет; теперь они сухие и бледные, как у Конфетки, только блестят от какой-то лечебной мази. Изо рта плохо пахнет, и это сильнее всего расстраивает Уильяма — у нее всегда было такое свежее дыхание! А вдруг Керлью правду говорит, и женщины, оказавшиеся в значительно худшем состоянии, чем Агнес, покидали санаторий Лабоба здоровыми и цветущими?
— Ты хочешь выздороветь, правда же? — шепчет он в ухо Агнес, приглаживая ей волосы, — я знаю, что хочешь.
— Да… Дальше… — шепчет она в ответ.
Он приподнимает простыни с ее плеч и складывает в ногах кровати. Как исхудали ее ноги и руки, совершенно ясно, что необходимо заставить… нет-нет, убедить ее побольше есть. Жестокая дилемма — когда она отвечает за свои поступки, то намеренно морит себя голодом, а когда беспомощна, неосознанно достигает того же результата. Какие бы сомнения ни терзали его, как бы он ни опасался того, что она окажется в руках чужих докторов и санитаров, он вынужден признать, что Кларе и ее ложке овсянки с болезнью не справиться.
Ноги Агнес уютно забинтованы — два мягких копытца из белой ваты. Кисти тоже забинтованы, на запястьях белые бантики, — это чтобы во сне она не сорвала повязки с ног.
— Да-а, — бормочет она, радуясь прохладе и потягиваясь.
Уильям осторожно проводит рукой по линии ее бедра, ставшего угловатым, как у Конфетки. Агнес это не идет: ей надо здесь округлиться. Что очень красиво в высокой женщине, у маленькой выглядит болезненной костлявостью.
— Я не хотел сделать тебе больно в ту первую ночь, — нежно поглаживает ее Уильям. — Меня подталкивало нетерпение… Нетерпение любви.
Она мило посапывает, а когда он взгромождается на кровать рядом с нею, издает приглушенное «о-ох».
— И я подумал, — продолжает Уильям дрожащим голосом, — что, как только мы начнем, тебе понравится.
— Уф… поднимите меня… сильные мужчины…
Он обнимает ее сзади, крепко прижимая к себе хрупкие косточки и мягкие груди.
— Но теперь тебе нравится, — домогается он, — нравится, правда?
— Осторожно… не дай мне упасть…
— Не бойся, сердечко мое дорогое, — шепчет он прямо ей в ушко, — теперь я… обниму тебя по-настоящему. Ты же не против, нет? Больно не будет. Скажи мне, если вдруг будет больно, скажешь? Я ни за что на свете не хотел бы сделать тебе больно.