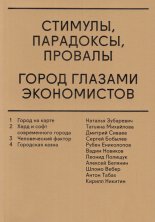Багровый лепесток и белый Фейбер Мишель

— И я тоже уеду двадцать восьмого. Прости меня, Господь, Конфетка, я не в силах быть дома, когда будут увозить Агнес. Я… У меня дела. Я уезжаю завтра утром. В Сомерсете есть человек, который утверждает, что изобрел способ анфлеража, который не требует спирта. Он уже несколько месяцев шлет мне письма, приглашает приехать и удостовериться на месте. Скорее всего, шарлатан, но… Ах, ну уделю ему час времени. А когда вернусь… Что ж… Будет уже двадцать девятое декабря.
Две яркие картины бок о бок вспыхивают в воображении Конфетки. На одной Уильяма вводят в залитое мертвенным светом логовище плотоядно ухмыляющегося фигляра, окруженного булькающими и пенящимися колбами. На другой — Агнес рука об руку с доктором Керлью, человеком, который в ее дневниках зовется прислужником Сатаны, демоном, инквизитором и кровопийцей; тюремщик и узница шагают, как отец и невеста, к ожидающему их экипажу.
— А если Агнес окажет сопротивление доктору? — Уильям еще нервозней стискивает руки.
— Было бы гораздо лучше, если бы Клара не создавала трудностей с настойкой опиума. Сейчас Агнес не спит и постоянно настороже. Язычком пробует все, что ей дают, — совсем как кошка…
И он бросает взгляд на потолок, как будто возлагает ответственность на некую губительную силу в небесах, — обрушившую на него эту беду.
— Но доктор Керлью придет не один. С четверкой крепких мужчин.
— С четверкой?
Конфетка холодеет от ужаса, когда представляет себе пятерых здоровенных посторонних мужланов, которые набрасываются на маленькое, истощенное тело Агнес.
Уильям перестает ходить и глядит прямо на нее измученными, налитыми кровью глазами, умоляя принять еще одну маленькую его гнусность.
— Если выйдет нечто малоприятное, — продолжает он, нащупывая платок, чтобы вытереть пот со лба, — то дополнительные люди лишь обеспечат достойное выполнение задачи.
— Конечно, — слышит свой голос Конфетка. Внизу все звонят и звонят.
— Проклятье! — взвивается Уильям. — Когда я разрешил Розе поспать подольше, я же не имел в виду, что она проспит весь день!
Когда через минуту-другую Конфетка вернулась в классную комнату, все было не так. Она знала, что будет не так, и оказалась права.
Софи оставила свой письменный стол и теперь стоит на скамеечке перед окном, не шевелясь, будто не замечая возвращения гувернантки. Софи рассматривает в подзорную трубу внешний мир — мир, не содержащий ничего особенно примечательного: лишь свинцово-серое небо, немногочисленные прохожие и экипажи, движение которых угадывается за плющом, высаженным Стригом для маскировки Рэкхэмовой ограды. Однако для девочки с подзорной трубой даже эти невыразительные вещи могут быть занимательными, если ей больше нечего делать. Кто знает, на какое время оставила ее гувернантка — вопреки серьезным разговорам о том, сколько еще нужно изучить до Нового года?
Поэтому Софи пренебрегла обещаниями взрослых и проводит собственные исследования. Утром в ворота вошли какие-то мужчины странного вида, они позвонили в дверь и опять ушли. Роза, похоже, сегодня вообще ничем не занимается! Садовник вышел и выкурил смешную белую завертку, которая совсем и не сигара; потом вышел за ворота и скрылся на дороге, шагая очень медленно и осторожно. Чизман возвратился от своей мамы, и он тоже шел такой же странной походкой, как мистер Стриг — собственно, эти двое чуть не столкнулись в воротах. Служанка с кухни, девушка с противными красными руками, еще не появлялась, чтобы опростать свои ведра. Сегодня утром не было настоящего завтрака — ни овсянки, ни какао — только хлеб с маслом, вода и рождественский пудинг. А с подарками какая путаница! Сначала мисс Конфетт сказала: подарки должны оставаться в спальне, чтобы не отвлекать от уроков; потом передумала — почему? И где полагается находиться подаркам — в спальне или в классной комнате? И что делать с Австралией? Мисс Конфетт собиралась приступить к Новому Южному Уэльсу, но ничего не вышло.
Все вместе говорит о том, что Вселенная пребывает в беспорядке. Софи подкручивает объектив трубы, поджимает губы и продолжает наблюдение. Вселенная может в любую минуту восстановить свой порядок — или взорваться хаосом.
Войдя в комнату, Конфетка сразу ощущает неудовольствие, исходящее от девочки, хотя та стоит к ней спиной; беспокойство ребенок не скроет — как пукание или какашки. Однако Конфетка чует и другое: чем-то действительно пахнет, остро и тревожно. Господи, что-то горит!
Она подходит к камину — там на пылающих углях тлеет старая кукла, негритенок Софи, ноги уже сгорели дотла, одежда скукожилась, как пережаренный бекон, только зубы еще скалятся белым, хотя ленивые языки пламени с потрескиванием облизывают черную голову.
— Софи! — негодует Конфетка, которая слишком измучена, чтобы смягчить резкость тона. Старания правильно вести себя с Уильямом до капли высосали из нее тактичность. — Что вы наделали?
Софи напрягается, опускает подзорную трубу и медленно поворачивается на скамеечке. Лицо испуганное и виноватое, но в надутых губах читается вызов.
— Сожгла куклу. Негритенка, мисс.
И, опережая попытку воздействовать на ее детскую доверчивость, добавляет:
— Он не живой, мисс. Он просто старая тряпка и фарфор. Конфетка опускает глаза на разваливающийся маленький остов куклы, разрываясь между желанием выхватить его из огня — и ткнуть кочергой в этот ужас, чтобы он перестал чадить и поскорее прогорел. Она опять поворачивается к Софи, открывает рот, чтобы сказать… Но замечает прекрасную француженку, которая наблюдает за происходящим с другого конца комнаты, возвышаясь над Ноевым ковчегом — шляпа с перьями, самодовольное равнодушное лицо обращено прямо к камину — и слова умирают в гортани.
— Он с чайного ящичка, мисс, — продолжает Софи, — и под ним должен быть слон, мисс, которого нет, поэтому он не стоит, и потом — он черный, а настоящие куклы не черные. Правда же, мисс? И он грязный, мисс, с тех пор, как испачкался в крови.
Комната полна дыма; и девочка, и гувернантка раздраженно трут слезящиеся глаза.
— Но, Софи, бросить его в огонь… — начинает Конфетка, но продолжить не может — ей не выговорить слово «безнравственно». Это слово горит в ее мозгу, его выжгла там миссис Кастауэй: безнравственное есть то, чем мы не быть не можем, малышка. Это слово придумано, чтобы описывать им нас. Мужчины любят погрязать в грехе, а мы и есть тот грех, в котором они погрязают.
— Вам следовало спросить меня, — бормочет она, хватаясь наконец за кочергу — скоро они раскашляются, а если дым распространится по дому, будет беда.
Софи наблюдает, как кочерга меняет привычные очертания куклы. Огненное забвение…
— Но он был мой, правда, мисс?
Ее нижняя губа дрожит, глаза моргают и блестят.
— И я могу делать с моей куклой, что хочу?
— Да, Софи, — вздыхает Конфетка.
Огонь вспыхивает ярче, и ухмыляющаяся голова медленно скатывается в пепел, оставшийся от тела.
— Он был твой.
Конфетка знает, что нужно поскорее оставить в прошлом этот инцидент и возвратиться к урокам, но в голову приходит запоздалый ответ, и у нее нет сил удержаться:
— Его можно было отдать бедному ребенку, — она грубо тычет кочергой в золу, подчеркивая свои слова, — несчастному, бедному ребенку, у которого совсем нет кукол и ему не с чем играть.
И Софи разражается рыданиями, она рыдает в голос, рыдает так, что у Конфетки волосы дыбом встают. Софи неловко спрыгивает со скамеечки и падает прямо на попку. Она кричит и кричит, беспомощно путаясь в юбках. В одно мгновение ее лицо превращается в разбухший ком сырого мяса, склизкого от слез, соплей и слюны.
Конфетка замирает, пришибленная тем, как дико проявляется горе маленького ребенка. Она с трудом удерживается на ногах; ей хочется, чтобы это оказалось сном, от которого можно избавиться, повернувшись на другой бок. Если бы хватило смелости обнять Софи сейчас, когда она так уродлива и отвратительна, если бы ее руки смогли унять боль и прогнать гадкие мысли из корчащегося детского тела… Но нет у нее этой смелости; красное от рыданий лицо вызывает страх и брезгливость — а если есть нечто, способное доконать сегодня Конфеткины нервы, то это резкий отпор Софи. Поэтому она молча стоит; у нее звенит в ушах; зубы крепко сжаты.
Через несколько минут дверь открывается — видимо, после стука, которого они не слышали, и в классную комнату заглядывает остренькая мордочка Клары.
— Moгy ли я помочь, мисс Конфетт? — доносится ее голос.
— Не уверена, Клара, — отвечает Конфетка, а рев Софи неожиданно затихает. — Я думаю, это Рождество: столько волнений…
Плач Софи переходит в громкие всхлипывания, и лицо Клары твердеет, обращаясь в белую маску негодования и осуждения — как смеет эта противная девчонка из ничего делать такой шум!
— Скажи маме, что я прошу прощения, — хлюпает носом Софи. Клара бросает на Конфетку взгляд, который говорит: это ты забиваешь ей голову глупыми мыслями? И поспешно уходит к хозяйке. Дверь захлопывается, и классная комната остается в дыму и во всхлипываниях.
— Софи, поднимитесь, пожалуйста.
Конфетка молит Бога, чтобы девочка подчинилась без новых капризов. И та подчиняется.
Долгий остаток второго дня Рождества, дня незаметных приготовлений в путь, проходит, как сон, который все-таки мудро решил не становиться кошмаром, а превратился в мягкий сумбур.
Софи после истерики тихая и послушная. Она сосредоточивается на Новом Южном Уэльсе и названиях различных пород овец; она заучивает названия океанов, отделяющих ее дом в Англии от континента Австралия. Она замечает, что Австралия похожа на брошь, приколотую на Индийский и Тихий океаны. Конфетке кажется, что этот материк больше похож на голову скотч-терьера в ошейнике с шипами. Софи признается, что никогда не видела терьеров. Урок на будущее.
Дом Рэкхэмов опять нормально функционирует, когда слуги поднимаются с постелей и берутся за работу. В классную комнату приносят ленч — горячие ломтики ростбифа, турнепс и картофель; подается он ровно в час, и хотя на десерт опять рождественский пудинг, а не успокаивающе привычный рис, однако на сей раз он горячий, со сладким кремом и посыпан корицей. Вселенная явно пятится от края бездны.
Роза тоже занята нормальными делами, открывает дверь, когда звонит колокольчик, а он звонит очень часто, потому что эти странно одетые мужчины, которые раньше ушли ни с чем, возвращаются в расчете на рождественские подарки. При каждом звонке Софи и Конфетка выглядывают в окно — и каждый раз ребенок интересуется:
— Кто это, скажите, пожалуйста, мисс?
Она спрашивает кротко, старясь искупить свои проступки.
— Не знаю, Софи, — отвечает Конфетка по поводу каждого визитера.
Из признаний в неосведомленности возникает впечатление, что пусть мисс Конфетт и много знает о древней истории и географии дальних стран, но в том, что касается дома Рэкхэмов, она совершенно невежественна.
Во время краткой послеполуденной передышки, когда гувернантка клюет носом от изнеможения, Софи заявляет:
— Сегодня после уроков я почитаю мою новую книжку, мисс. Я посмотрела картинки, и они очень… заинтересовали меня.
Она надеется, что лицо гувернантки засияет одобрением. Но видит только слабую улыбку на гyбax, покрытых сухими чешуйками, видит глаза с красными царапинками на белках. Заживут царапинки или останутся навсегда? А может быть, нехорошо рассматривать картинки, прежде чем возьмешься за чтение? Что еще сказать мисс Конфетт, чтобы все опять стало хорошо?
— Австралия очень интересная страна, мисс.
Ночью в постели Конфетка не спит — терзаясь страхом, что так и не сумеет заснуть. Тогда ей конец, абсолютный конец. Проклиная все на свете, она закрывает глаза, а они, как назло, открываются и глядят в темноту. Существует естественный порядок сна и бодрствования, против которого она погрешила, и вот расплата.
А что, если к ней придет Уильям — для того, чтобы устроить разгул вновь обретенной уверенности перед отъездом утром? Или попросить — с выражением побитой собаки на лице — не вольет ли она в глотку Агнес дозу опиумной настойки? Или просто захочет зарыться лицом в грудь своей любящей Конфетки? Впервые за много-много месяцев Конфетке противно думать о прикосновении Уильяма Рэкхэма.
Она мается без сна с час или больше, потом зажигает лампу и вытаскивает из-под кровати дневник. Прочитывает страницу, две, две с половиной, но та Агнес Рэкхэм, что раскрывается в них, вызывает нестерпимое раздражение — тщеславное и пустое создание, мир ничего не потеряет; если она исчезнет.
«Так что ты будешь делать, когда явится добрый доктор со своей веселой четверкой? — спрашивает себя Конфетка. — Выведешь Софи в сад на прогулку, когда Агнес грубо поволокут в черную карету, а она будет отчаянно звать на помощь?»
В дневнике Агнес уже два года замужем — и жалуется на мужа. По ее словам, он целыми днями ничего не делает, только пишет статьи в «Корнбилл», которые «Корнбилл» не печатает, и письма в «Таймс», которые в «Таймс» не появляются. У себя дома он далеко не так интересен, как был в ее доме. И подбородок у него не такой твердый, как у его брата, она это заметила, и плечи не так широки — на самом деле Генри красивее, он очень красивый мужчина, к тому же такой искренний, если бы только не одевался как провинциальный галантерейщик…
Ну, все. Конфетка капитулирует, забрасывает дневник под кровать, тушит свет и снова пытается заснуть. Глаза болят и зудят — чем она заслужила все это… Ах, да… Тяжко голове, которая участвует в предательском заговоре против беззащитной женщины…
А Уильям? Спит он сейчас? Если судить по делам его, Уильям должен бы сейчас ворочаться и потеть в мучениях, но Конфетка полагает, что он спокойно похрапывает. Так, может быть, проснувшись утром, выспавшийся и посвежевший, он откажется от планов отправить жену в сумасшедший дом? Как же, как же. Конфетка по опыту знает: у Уильяма лицо человека, который миновал точку невозвращения.
«Все будет хорошо, клянусь. Все обернется к лучшему».
Это она обещала Агнес. Но разве не может все обернуться к лучшему, если Агнес отвезут в клинику? Мозги у нее не в порядке, это сомнений не вызывает; так нельзя ли привести их в порядок с помощью специалистов? Картина, которая преследует Конфетку: женщина в оковах, жалобно стенающая в застенке, где на пол брошена солома — это же чистейшая фантазия из дешевых романов. Это будет чистое и приятное место, этот санаторий Лабоба; за больными постоянно наблюдают доктора и сестры. Санаторий в Уилтшире… И кто может сказать, не нафантазирует ли себе бедная, заблудшая миссис Рэкхэм, что она в Обители Целительной Силы и что сестры — это монахини?
«Скоро я помогу тебе уйти отсюда. Скоро, я обещаю».
Это она сказала Агнес, предлагая напуганной женщине уцепиться за свою руку. Ах, но что такое обещания в устах шлюхи? Не более чем слюна, чтобы смазать что-нибудь себе или партнеру. Конфетка трет глаза в темноте, ненавидя себя. Она мошенница и неудачница; она выдумывает факты об Австралии… И Боже ты мой: жуткая улыбка негритенка — когда пламя лизало его голову!
«Другой человек, — подсказывает она себе. — Агнес вернется домой другим человеком». Так говорил Уильям, и разве это не может быть правдой? В санатории Агнес вылечат; уезжая оттуда, она расцелует сестер и со слезами на глазах пожмет руку доктору. Потом она приедет домой и признает Софи своей дочерью.
Мысль об этом, которая должна бы подбадривать, произвела обратный эффект: от нее по телу побежал противный холодок. В последние мгновения бодрствования, перед тем, как провалиться в сон, Конфетка, наконец, поняла, что должна сделать.
Сейчас вечер, двадцать седьмое декабря, и Уильям Рэкхэм сидит со стаканом виски в пабе, во Фроме, Сомерсет, страстно мечтая оказаться в послезавтрашнем дне. Он столько проехал, нашел столько занятий для себя (кто бы мог подумать, что осмотр старой сукновальной фабрики совсем не заинтересует его!) — и все же осталось заполнить еще тринадцать, нет, четырнадцать часов до прихода доктора Керлью в Чепстоу-Виллас. За это время что угодно может произойти — да и у него самого может случиться нервный срыв… А при том, что Клары нет дома и все оставлено на Розу и эту идиотку Летти, есть страшная опасность, что Агнес убежит… то есть, что Агнес может навредить себе…
Если бы только мог он без промедлений, отсюда, связаться с домашними и убедиться в безопасности Агнес. Как раз на прошлой неделе он прочел статью в «Хонз ревью» про аппарат, который должен скоро появиться в Америке: приспособление из магнитов и мембран, которое преобразует человеческий голос в электрические вибрации, что позволяет речи передаваться на большие расстояния. Вот если б такая штука была уже общедоступной! Только представить себе: он произносит в проводок несколько слов и получает ответ: «Да, она здесь, спит», и все — он избавлен от мук неизвестности.
С другой стороны, может быть, все это вздор; этот замечательный голосовой телеграф — небылица для заполнения места в журнале, у которого нет достойных статей. В конце концов, что привело его во Фром! Этот молодец, с его новым методом анфлеража, конечно, оказался проходимцем — и даже неинтересным проходимцем: Уильям рассчитывал, что его, по-крайней мере, развлекут булькающими газами, дурнопахнущими смесями и полузадушенными возгласами — вот видите! Вместо этого ему было предложено изучить исчерканные тетради простого университетского студента, пытающегося поймать на удочку благодетеля, который даст денег на его исследования. Боже, оборони нас от чрезмерно увлеченных молодых людей, которым требуются деньги на строительство воздушных замков!
— Я все-таки не понимаю, — еле сдерживая злость, говорит Уильям изобретателю, — если процесс происходит, почему вы не можете его продемонстрировать? В ограниченном масштабе — несколько цветков в духовке?
В ответ молодой человек беспомощно указал на скудость обстановки — в этих нищенских условиях невозможно даже самое скромное чудо. Чушь! Ну и пусть купается в жалости к себе; все равно его не вывести из заблуждения. Уильям пообещал иметь его в виду, пожелал успеха в исследованиях и унес ноги.
После этой тоскливой встречи Уильям бесцельно побродил но городу, возвратился к себе в меблированные комнаты и стал думать, чем заняться. Прилег на непривычную, слишком мягкую кровать и попробовал читать трактат о цветах и практических трудностях их разведения в холодном климате для целей парфюмерии, но понял, что не в состоянии сосредоточиться, и пожалел, что не захватил с собой какой-нибудь роман.
Более того, меблированные комнаты сильно деморализовали его. Хозяйка требовала, чтобы он по буквам продиктовал фамилию «Рэкхэм» для книги постояльцев, при этом смотрела ему прямо в лицо, не сомневаясь, что никогда раньше этого лица не видела. И точно — в ванной обнаружилось только мыло «Перз», ни на одном из туалетных принадлежностей он не увидел орнаментальное «Р». Уильям чуть не расплакался, сидя на бортике паршивой ванны в синих прожилках.
Теперь ему все ясно. С тех пор, как он взял в руки бразды правления делом Рэкхэма, он двигался вперед на оптимизме; его состояние росло с каждым месяцем, а возбуждающие полуночные разговоры с Конфеткой на Прайэри-Клоуз укрепляли уверенность в том, что будущее покорно ляжет к его ногам, что взлет Рэкхэмова предприятия к вершинам славы есть историческая неизбежность. И лишь теперь он прозревает истину, подмигивающую ему из туманов грядущего. Он построит империю, которую некому унаследовать, состарится и в старческом слабоумии будет наблюдать ее распад. Отчаяние ждет его — когда возведенное им здание превратится в колоссальную развалину — или (того хуже) будет растащено соперниками. В любом варианте, лет через сто или двести имя «Рэкхэм» уже не будет значить ничего. А семя унижения лежит здесь, вот в этой мыльнице во Фроме, Сомерсет.
Не в силах вынести собственную никчемность, он вышел на улицу и нашел таверну — таверну «Веселая пастушка», где сейчас сидит и потягивает виски. Отнюдь не веселое прибежище, на которое он рассчитывал; здесь темновато и тоскливо, деревянные полы цвета жженого сахара, стойка из поддельного мрамора. В камине пылает огонь, но на том начинается и кончается сходство с «Камельком». У камина свернулась старая собака со слезящимися глазами, поскуливающая сквозь сон, когда из огня вылетает искра. Двуногие обитатели таверны вовсе не те добродушные провинциалы, чьей болтовней он надеялся отвлечься; они пьют тихо, поодиночке или сбившись по трое, и только изредка апатично поднимают головы, чтобы заказать еще. Две безобразные бабы заняты непонятно чем за стойкой — так заняты, что даже не провожают нового посетителя к столику. Уильям сам выбирает себе столик в мрачной загородке у двери в сортир.
Часы над стойкой остановились в полночь — Бог знает, в какую полночь и как давно. Вероятно, испустили дух при последней попытке пробить последний час. Уильям достает часы, чтобы прикинуть, сколько времени ему тут сидеть до того, как можно будет отправляться спать с неплохими шансами заснуть. К нему немедленно подсаживается сомнительного вида человечек и предлагает золотые часы взамен Уильямовых серебряных. Увидев, что Уильям не проявляет интереса, человечек, хитро улыбаясь, спрашивает:
— Миссис нравятся кольца или ожерелья, сэр?
Уильям сжимает кулаки и грозится позвать полицию. Это производит желаемое воздействие, человечек исчезает, но Уильям обнаруживает, что у него дрожат руки. Он хмуро допивает виски и заказывает новую порцию.
Но через несколько минут к нему подсаживается другой — не мошенник на сей раз, а зануда. Этот — мрачный, с нависшими бровями, в твидовой куртке — спрашивает Уильяма, не приходилось ли им встречаться раньше: на конском аукционе или, может быть, на распродаже старой мебели, и неуклюже намекает, что, если Уильям интересуется чем-то в этой области, то стоило бы поговорить. Уильям молчит. Он сейчас видит семнадцатилетнюю Агнес, которая бежит по залитой солнцем свежей зеленой траве в усадьбе отчима за покачивающимся обручем; белые юбки завиваются вокруг ног. «Господи, мне уже пора повзрослеть, не правда ли?» — переведя дыхание, спрашивает она с намеком на предстоящее вхождение в ряды замужних дам. О Боже! Как она зарделась, произнося эти слова! А он что ответил?
— А вы чем занимаетесь?
— А? Что? — буркает он, расставаясь с видением своей нареченной. Зануда наваливается грудью на стол, и на щедро намасленных волосах вблизи обнаруживается легкий налет перхоти.
— У вас имеется собственное дело?
Уильям раскрывает рот, готовый сказать правду, но неожиданно пугается, как бы собеседник не принял его за вруна — завтра же сунет свой лоснящийся нос в одну из местных лавок и убедится, что не существует никаких туалетных средств Рэкхэма.
— Я писатель, — отвечает Уильям. — Пишу критические статьи для серьезных ежемесячников.
— Хорошо зарабатываете? — Уильям вздыхает.
— Жить можно.
— Как же вас зовут?
— Хант. Джордж У. Хант.
Тот кивает, без колебаний отправляя имя в бездонную пропасть.
— А я — Рэй. Уильям Рэй. Вспомните это имя, если вам когда-нибудь лошадь понадобится.
Он уходит.
Уильям украдкой осматривает паб, опасаясь новых нежелательных собеседников, но он, похоже, уже испытал на себе все, что может предложить паб в этом смысле. Только теперь он замечает, что помимо барменш и скверной масляной картины над дверью, изображающей пастушку, вокруг не видно ни одного женского лица. Барменши страшны, как смертный грех, у нарисованной пастушки косоглазие — непреднамеренный, вероятно, штрих — к тому же она щерит зубы в вульгарной улыбке. А у Агнес такой маленький и совершенный ротик, улыбка — как бутон розы… Хотя, когда последний раз он целовал ее прямо в губы, — лет пять назад, а то и больше, — ее губы были холодны, как дольки охлажденного апельсина…
Он поднимает стакан, показывая, что хочет еще виски. Он никогда не любил крепкие напитки, но качество здешнего эля — оно смутило бы даже Бодли и Эшвелла. Кроме того, если удастся одурманить мозги крепким напитком, то можно вернуться в свою комнату и, несмотря на ранний час, погрузиться в сон. Утром голова будет разламываться, но это небольшая цена за отдых без сновидений.
После еще двух порций виски он решает, что алкоголь уже оказал свое магическое воздействие на мозг; пора уходить. Часы над стойкой по-прежнему показывают двенадцать, а доставать часы из жилетного кармашка — слишком большая докука, да и уверен он, что если положит голову на подушку, то не пожалеет об этом. Он встает — и чувствует, что его вот-вот вырвет, и что он готов напустить в штаны. Делает неуверенный шаг к сортиру, но решает, что уединенный переулок предпочтительней, и, шатаясь, выходит из «Веселой пастушки» на темные улицы Фрома.
В несколько секунд нашелся узкий переулок, из которого уже несет человеческими отходами: идеальная ниша, чтобы сделать все, что надо. Покачиваясь от тошноты, он выуживает пенис из штанов и писает в дерьмо; к сожалению, струя мочи не успевает окончательно иссякнуть, как изо рта вырывается другая струя.
— Ах ты, бедненький! — слышится женский голос.
Он еще не проблевался окончательно, но слезящимися глазами смутно видит, что к нему подходит женщина — молодая женщина с темными волосами, без шляпки, в сером платье в черную полоску.
— Бедняга, — она приближается, покачивая бедрами.
Он отмахивается от нее, его еще рвет… С какой же быстротой собираются стервятники вокруг беспомощного человека!
— Тебе в постельку нужно, бедный мой малыш, — воркует она, так близко склоняясь над ним, что он видит маску пудры и родинку, нарисованную на худой щеке.
Он в ярости замахивается на нее.
— Оставь меня в покое! — вопит Уильям, и она — благодарение за малые милости — убирается вон.
Но через полминуты несколько пар сильных волосатых рук вцепляются в плечи и карманы Уильяма Рэкхэма, а когда он пытается вырваться, страшный удар по голове сваливает его в бездну.
Новая жизнь!
Поезд содрогается, останавливается, распахивая двери и извергая людское содержимое в суету Паддингтонского вокзала. Гул голосов сразу заглушает шипение пара; пассажиров, которым нужно забрать багаж с крыши поезда, едва не сносит нетерпеливая толпа, стремящаяся скорее уйти с платформы.
Толпа включает в себя все человеческие типы: колыхание ярких, пышных женских юбок подчеркивается траурными тонами мужских одежд; в толпе немало детей, подталкиваемых дорожными сумками и узлами, которые тащат взрослые. Как милы бывают дети, когда они хорошо одеты и ухожены! Но как жалко, что они так орут, когда им плохо! Пожалуйста — один уже вопит во весь голос, не обращая внимания на мамины уговоры. Дитя, слушайся маму, чертенок ты маленький; мама знает, что для тебя лучше, а ты должен вести себя хорошо; подними упавшую корзинку и шагай!
Женщина, которая наблюдает эту сценку и думает об этом, по всей видимости, — из лондонской бедноты. Она плохо одета, ее никто не сопровождает и она хрома. На ней мятое платье из темно-синего хлопка с серым передом в виде фартучка — фасон, который уже лет десять, если не больше, не носит ни одна модница; еще — поношенная шляпка цвета небеленого полотна, которая явно когда-то была белой; и еще — голубенькая накидка, затрепанная до такой степени, что ткань напоминает ту овечью шерсть, из которой прялись нитки для нее. Женщина поворачивается спиной к суете и становится в очередь к билетному окошку.
— Мне нужно в Лоствитиел, — говорит она кассиру, когда приходит ее черед.
Мужчина оглядывает ее с головы до ног.
— На этом маршруте нет третьего класса, — предупреждает он. Она достает из кармашка хрустящую новенькую банкноту.
— Я поеду вторым.
И застенчиво улыбается, возбужденная столь необычным приключением.
Кассир колеблется, не вполне понимая, не вызвать ли ему полицию — откуда деньги у этой обтрепанной женщины. Но у окошка столпилась очередь, а в ее измученном лице есть что-то располагающее; сложись ее жизнь по-другому, она могла бы стать чудной женой, мечтой любого мужчины — вместо того, чтобы вот так перебиваться. Да и откуда ему знать — почему бедно одетая женщина не может быть законной владелицей новенькой банкноты. Разные бывают люди. Не далее как на прошлой неделе он обслуживал женщину в сюртуке и брюках…
— Обратный? — спрашивает кассир. Поколебавшись, женщина улыбается опять:
— Да, почему бы нет? Никогда не знаешь…
Мужчина покусывает верхнюю губу, выписывая билет вечным пером.
— Семь семнадцать, седьмая платформа, — протягивает он билет. — Пересадка в Бодмине.
Бедно одетая женщина берет билет своей маленькой ручкой и, хромая, отходит. Она оглядывается по сторонам; забыв, что она одна, ожидает приближения камеристки с чемоданом ее туалетов. Потом вспоминает, что ей больше никогда не понадобится камеристка, что тряпки на ней — это ее последняя одежда в этой жизни, и их единственное назначение — прикрывать ее наготу, пока она не доставит свое старое тело к последней точке пути.
Глубокий вдох, чтобы собраться с духом, — и она начинает пробираться через толпу, двигаясь с осторожностью, опасаясь, как бы ей не наступили на ноги. Далеко пройти ей не удается — путь преграждает женщина почтенного вида. Обе исполняют маленькое pas de deux, как это часто делают дамы, сталкиваясь в узком проходе, потом одновременно останавливаются. Лицо старшей женщины источает сострадание.
— Могу ли я помочь вам, дорогая?
— Не думаю, — говорит Агнес.
Ее особо предупредили: не отвечать на вопросы незнакомых людей.
— Впервые в Лондоне?
Агнес не отвечает. Пусть она не очень ясно помнит, как ее провожали сегодня утром — было еще темно, совсем ранний час, когда шепот Святой Сестры пробудил ее ото сна, но одно она помнит с совершенной ясностью: Святая Сестра приказала, чтобы Агнес ничего не рассказывала о себе никому, пока будет в пути, каким бы доброжелательным ни был расспрашивающий.
— Я содержу христианский дом для женщин, впервые приезжающих в Лондон, — продолжает почтенная незнакомка, — простите за прямой вопрос, но, возможно, вы недавно овдовели…
Агнес опять не отвечает.
— Вас бросили?
Агнес отрицательно качает головой. Она надеется, что качать головой не возбраняется. Во время побега она следовала всем наставлениям Святой Сестры. Сначала убийственная весть о грядущем предательстве, потом переодевание, надевание башмаков на больные ноги; потом спуск вниз украдкой — как воровка в собственном доме — потом благородное, без слов, прощание у двери: она лишь взмахнула рукой, когда уходила, хромая, в снежную мглу… Она все это перенесла с отвагой, к которой ее призывала Святая Сестра, было бы трагедией поддаться слабости и согрешить против нее теперь.
— Вы, похоже, просто умираете от голода, дорогая, — замечает упорная самаритянка, — в нашем доме хорошо кормят, три раза в день, и у нас тепло. Деньги вам не потребуются, сможете отработать свое содержание шитьем или чем-нибудь еще, что вы умеете делать.
Агнес, сильно оскорбленная предположением, будто ее физическая форма улучшится от обжорства, от которого так разнесло приставучую толстуху, распрямляется во весь рост.
— Вы очень добры, мадам, — с уничтожающей вежливостью говорит она, — но вы ошибаетесь. Мне от вас нужно только одно — дайте мне пройти. Я не хочу опоздать на поезд.
У женщины вытягивается лицо, сострадательное выражение исчезает в уродливых складках, но она отступает в сторону. Агнес быстро уходит, изо всех сил стараясь ступать грациозно, будто скользит по бальной зале. Ей нестерпимо больно, но у нее есть гордость.
На седьмой платформе начальник станции следит за посадкой; он придерживает рукой язычок колокольчика, а рукояткой указывает пассажирам путь.
— Всем садиться! — выкрикивает он и зевает.
Агнес без посторонней помощи садится в свой вагон и находит себе местечко. Скамьи деревянные, как в церкви, без мягкой обивки, привычной для нее, но все чистенько — это вовсе не конюшня на колесах, какой она всегда представляла себе вагон второго класса. Ее попутчики — это бородатый старик, молодая мамаша с младенцем на руках (который, к счастью, спит) и угрюмый мальчишка с поцарапанной щекой и ранцем в руках. Памятуя указания Святой Сестры, Агнес усаживается у окна и сразу закрывает глаза, чтобы не дать повода вступить с нею в разговор.
По правде сказать, ее вдруг охватила такая усталость, что она не уверена, что ей достало бы сил говорить. Ноги болезненно пульсируют — они проделали долгий путь пешком по Ноттинг-Хиллу, пока на заре не появился спасительный кеб. Потом было долгое ожидание, пока не начал работать Паддингтонский вокзал, унижение от приказа полицейского проходить, — а после от приставаний пьяного мужчины. Она вытерпела и эти муки, но теперь наступила расплата. Страшно болит голова — как всегда — под правым глазом. Слава Богу, это последний день ее страданий от головной боли.
— Провожающих просят немедленно покинуть вагоны!
Голос начальника станции едва слышен из-за громкого пульсирования крови в голове, но ей и незачем его слушать — она уже столько раз слышала эти слова в сновидениях. В ее воспаленном мозгу звучит голос Святой Сестры, которая шепчет: «Помни, когда прибудешь к месту назначения и сойдешь с поезда, ни с кем не разговаривай. Иди и иди, пока не уйдешь подальше в сельскую местность. Постучись на ферму или в церковь, скажи, что ищешь Обитель. Не называй ее Обителью Целительной Силы, потому что она известна не под этим именем. Просто потребуй, чтобы тебя проводили к Обители. Не соглашайся ни на что другое, никому не говори, кто ты такая, и не принимай „нет“ за ответ. Обещай мне, Агнес, обещай мне!»
Поезд шипит, содрогается и приходит в движение. Агнес открывает один глаз — тот, который не болит, — и смотрит в окно, надеясь, все-таки надеясь, что ее ангел-хранитель на платформе — чтобы хотя бы кивком подтвердить: Агнес вела себя как смелая девочка. Нет, ее нигде не видно, она где-то спасает души и исцеляет тела. Агнес скоро увидит ее — в конце пути.
ЧАСТЬ 5
В большом мире
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ
Наслаждаясь теплом небес, невесомая и обнаженная, плывет она высоко над фабричными трубами и церковными шпилями в верхних слоях накаленного неба. Воздух опьяняет запахами, приливает и отливает громадными волнами ветра и мягких облаков — это отнюдь не бездвижное, прозрачное забвение, каким она всегда представляла себе Рай. Скорее, это океан, которым можно дышать, и она движется в плотном воздухе, сокращая расстояние между своим телом и телом мужчины, который летит рядом с нею. Когда они оказываются достаточно близко, она раскрывает бедра, обвивает его руками и ногами, открывает губы, чтобы принять в себя его любовь.
— Да, о да, — шепчет она и обнимает его чресла, чтобы вобрать его поглубже в себя; нежно целует его; они сливаются, становясь единой плотью. Край облака одеялом обвивается вокруг их соединившихся тел, а они скользят сквозь душистые волны вечности, их несут ритмические течения и страстные соприкосновения.
— Кто б мог подумать, что это будет так? — говорит она.
— Сейчас не разговаривай, — вздыхает он, перемещая ладони с ее плеч на ягодицы, — вечно ты болтаешь.
Она смеется, зная, что он прав. Его грудь давит на ее груди, это и утешает, и возбуждает ее. У нее набухли соски, а щелочка, изголодавшаяся по его семени, сосет и глотает. Они перекатываются и извиваются на краю огромного облака, пока страсть не пронизывает ее тело огнем; она откидывает голову, задыхаясь от счастья…
— Эммелин!
Судороги блаженства не мешают ей сохранять здравый смысл; она знает, что зов исходит не от Генри, чье горячее дыхание ворошит ее волосы, а из иного, невидимого источника.
— Эммелин, ты там!
«Как странно», — думает она, когда, пробивая спиной облака, падает с небес на землю, если это зов Бога, так Он наверняка прекрасно знает, что я здесь!
— Эммелин, ты меня слышишь?
Она приземляется на кровать — удивительно мягко приземляется, учитывая головокружительную скорость снижения. Задыхаясь, садится в постели, а у входной двери продолжается шум.
— Эммелин!
Господи, спаси: это же ее отец. Она соскакивает с кровати, сталкивая Кота, который валится на спину и болтает всеми четырьмя лапами. Она оглядывает спальню, ища, чем бы прикрыть наготу, но на глаза попадаются только сюртук и сорочка Генри, которые в последнее время — вместе с другими предметами его одежды из мешка «Таттл и сын» — она берет с собой на ночь в постель для утешения. Набрасывает теплый, измятый сюртук на плечи как накидку; рукава сорочки обвязывает вокруг талии — сорочка играет роль фартука — и несется вниз.
— Да, отец, я здесь, — кричит она через прямоугольный барьер из дерева и матового стекла, — я… извини… Я не слышала… я… работала!
Солнце уже высоко, часов одиннадцать, никак не меньше; неудобно признаваться, что спала в такое время.
— Эммелин, извини за беспокойство, но я по срочному делу, — говорит отец.
— Это ты меня извини, но… я не могу впустить тебя…
Что с ним приключилось? Ну не принимает она у себя никого; он вроде бы это знает.
— Можно, я зайду к тебе попозже? Или после обеда?
Искаженная тень его головы в темном цилиндре приближается к стеклу.
— Эммелин…
По тону ясно, что ему никак не нравится обращать на себя внимание соседей и прохожих, на глазах у всех ломясь к собственной дочери.
— От нашего разговора может зависеть жизнь женщины.
Эммелин с минуту обдумывает услышанное. Что отец не любитель мелодрам, это ей известно; значит, жизнь какой-то женщины действительно в опасности.
— Уф… можешь подождать несколько минут? Я сейчас соберусь… Бежит наверх, одевается… В жизни так быстро не одевалась. Панталоны, шемизетка, платье, жакетка, чулки, подвязки, башмаки, перчатки и шляпка — времени на все уходит примерно столько, сколько леди Бриджлоу потратила бы на обдумывание, как заколоть одну шпильку.
— Я готова, отец, — запыхавшись, кричит она в дверь, — сейчас выйду. Силуэт отца отступает от двери, она выскакивает, тщательно запирая за собою пыльный хаос, и глубоко вдыхает свежий холодный воздух. Поворачивая ключ, чувствует на себе отцовский взгляд, но отец воздерживается от комментариев.
— Ну вот, — бодро говорит она, — можем идти.
Поворачивается к отцу — он, как всегда, выглядит безупречно, а вот она, к сожалению, нет. Отец смотрит на дочь, чуть насупившись. Он — человек красивый и величавый. Да, это так, хотя лицо его покрыли морщины — следствие забот. На свете столько болезней, и он ведет с ними бой, этот старик с докторским чемоданчиком.
В том жалком письме от миссис Рэкхэм именно ссылка на злобность доктора Керлью и убедила Эммелин, что ум несчастной хрустнул. В глазах Эммелин отец — эталон доброжелательности, мастер по ремонту костей и перевязыванию ран, в то время как она сама, следуя филантропическому примеру отца, только и может, что писать письма политикам и уговаривать проституток.
Мысли об этом мгновенно проносятся в ее уме. Отец стоит, возвышаясь над нею, на дорожке у дома; она замечает его нетерпение, нервозность, с которой он оглядывает улицу, и понимает, что случилась беда.
— В чем дело, отец? Что случилось?
Отец жестом приглашает ее пройти вперед — подальше от возникшей у соседнего дома старухи-сплетницы с подкладным бюстом и лисой на шее.
— Эммелин, — говорит он, когда они оставляют преследовательницу далеко позади, — то, что я тебе сейчас скажу — секрет, но секретом долго не останется: пропала миссис Рэкхэм. Вчера утром ее должны были увезти в санаторий. Я пришел к ней домой, чтобы сопровождать ее, но она пропала. Исчезла.
Внимательно слушая, Эммелин поглядывает на небо и на прохожих, стараясь понять, который все-таки час.
— Отправилась в гости к приятельнице?
— Исключено.
— Почему? Что у нее, друзей нет?
Небо темнеет: неужели уже смеркается, не может быть! Да нет, просто собираются тучи, готовясь излиться на землю.
— Мне кажется, ты не понимаешь ее положения. Она бежала из дому среди ночи в состоянии полного умственного расстройства. Вся ее одежда — платья, жакетки, накидки и блузки — на месте. За исключением пары башмаков и кое-чего из нижнего белья. Иными словами, она вышла на улицу полуголая. Вполне могла замерзнуть насмерть.
Эммелин знает, что должна бы онеметь от жалости, но инстинкт спорщицы берет верх.
— Выскочить неодетой на улицу зимой — так делают многие женщины, и не умирают от этого, отец.
Он снова оглядывается, чтобы удостовериться, что разноперая уличная публика — подметальщики, мальчишки-посыльные, избалованные собаки и дамы — не могут услышать их.
— Эммелин, я тебя прямо спрошу. В письме, которое тебе написала миссис Рэкхэм, она упоминала какое-то место, куда страстно желала бы поехать. Она хоть намекнула — где может быть это место? В географическом смысле?
Эммелин не знает, изумиться ей или обидеться.
— Понимаешь, отец, она рассчитывала, что это я скажу ей, где оно находится.
— И что ты ей посоветовала?
— Просто не ответила, — говорит Эммелин. — Ты же отговорил меня. — Доктор Керлью кивает, явно разочарованный.
— Господи, помоги ей, — бормочет он.
Мимо громыхает телега, ломовая лошадь сыплет навозные яблоки, оставляя за собой долгий след.
— Я и не знала, что миссис Рэкхэм так далеко зашла, — говорит Эммелин. — Я имею в виду ее голову.
Доктор Керлью следит за подметальщиком, но тот не двинулся с места; он присматривается к другой паре, которая как раз приближается к соседней куче нечистот.
— Она и в рождественскую ночь убегала из дому, — объясняет он дочери. — Половина Рэкхэмовой прислуги до зари бегала под дождем и снегом в поисках. В конце концов она нашлась в каретном сарае. Мисс Конфетт, гувернантка, обнаружила ее там.
Эммелин настораживается, услышав довольно необычное имя, но она готова поклясться, что оно ей что-то напоминает. Но что?
— Ужасная история! Я ничего не знала! А что ее муж, Уильям, он совсем не подозревает, где может быть жена?