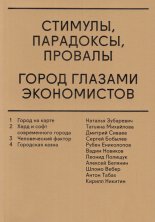Багровый лепесток и белый Фейбер Мишель

Не уйдем без угощенья, Не уйдем без угощенья…
— Она плохо себя чувствует, Софи, — говорит Конфетка.
— Я думаю, она скоро умрет, — решает Софи, забираясь в постель. — Тогда ее зароют в землю.
На первом этаже хлопает дверь, и голоса смолкают — надо полагать, певцы получили свое и удовлетворились.
Стараясь не показать, какой тошнотворный холод побежал по ее жилам от слов девочки, Конфетка подтыкает одеяло Софи, поправляет подушку. Собирает и аккуратно располагает на комоде подарки: величественную французскую куклу рядом с неуклюже поникшим ухмыляющимся негритенком; новенький замшевый мешочек Софи, щетку для волос, заколку и зеркальце кладет ровным рядком, который замыкает подзорная труба. И наконец ставит на комод книгу.
«Приключения Алисы в Стране чудес», — написано на обложке. Но Софи уже провалилась через кроличью дыру беспамятства в свою собственную тревожную страну.
Тук-тук.
— Мисс Конфетт? Тук-тук.
— Мисс Конфетт?
— Тук-тук-тук-тук.
— Мисс Конфетт!
Она рывком садится в постели, хватая ртом воздух в ужасе и смятении.
— К-кто там? — окликает она мрак.
— Это Клара, мисс.
Конфетка трет глаза шершавыми подушечками ладоней, надеясь увидеть солнечный свет, если проморгается.
— Я что…проспала?
— Пожалуйста, мисс Конфетт, мистер Рэкхэм велел мне войти.
Дверь распахивается, Клара входит в комнату, высоко подняв руку с горящей лампой. Ее форменное платье измято, всклокоченные волосы венчиком окружают голову. Обычно непроницаемое или самодовольное лицо Клары сейчас искажено мятущимися тенями и неприкрытым страхом.
— Мне приказано удостовериться, что в вашу комнату никто не приходил, мисс.
Конфетка тупо моргает, всматриваясь в Клару сквозь пышные рыжие пряди собственных нечесаных волос, жестом выражает Кларе согласие на исследование географии своей комнатушки. Та сразу освещает лампой все четыре угла, смотрит здесь, там, здесь, там, заставляя свет и тени драматически метаться по стенам. Серьезной сосредоточенностью она напоминает размахивающего кадилом католического священника.
— Вы меня простите, мисс, — бурчит она, приоткрывая дверцу гардероба.
— С Софи все в порядке? — спрашивает Конфетка, которая уже зажгла лампу на столике. Три часа ночи, отмечает она.
Клара не отвечает, лишь изображает экстравагантный реверанс, приседая так низко, будто королеву приветствует. И лишь в последний миг до Конфетки доходит, что никакой это не реверанс — Клара собирается заглянуть под кровать.
— Позвольте, я вам помогy! — поспешно говорит Конфетка, наклоняясь так, что вся масса ее неприбранных волос свешивается до самого пола. Опершись на локоть, она запускает другую руку в сумрачное пространство под кроватью, отпихивая дневники как можно дальше, где они покажутся просто хламом.
— Мои извинения, мисс, — ворчит Клара и быстро покидает комнату. Сразу после ее ухода Конфетка выпрыгивает из постели и одевается.
Теперь она слышит, что дом охвачен шепчущим, суматошным волнением. Двери открываются и закрываются; в щелку под собственной дверью она видит хаотические вспышки света… Быстрее, быстрее, волосы просто невозможно причесать, их давным-давно надо было подстричь, но кто это сделает? От былой челки не осталось и следа; требуется уйма шпилек и заколок, чтобы держать их под контролем… Где туфли? И почему никак не застегивается корсаж; наверное, рубашка сбилась под ним…
— Темная комната! — кричит Уильям откуда-то снизу, — вы что, оглохли?
Женский голос, неопознаваемый и еле слышный, защищается: «Все комнаты темные»…
— Нет же, нет! — выкрикивает Уильям, явно в состоянии безумной тревоги. — Та комната, в которой раньше… Ах, да ты здесь тогда еще не работала!
Его тяжелые шаги удаляются по коридору.
Конфетка уже привела себя в пристойный вид — более или менее — и со свечой в руке выбегает на площадку. Прежде всего она несется к Софи, но, заглянув в ее комнату, видит, что ребенок крепко спит — или притворяется, что спит.
Лишь на обратном пути Конфетка замечает нечто совершенно поразительное и необычное — дверь спальни Агнес приоткрыта. Конфетка бежит вниз на голоса.
— Боже мой, мистер Рэкхэм, в такую ночь! — кричит Роза, и ее слова странно отдаются эхом по лабиринту коридоров, которые ведут в тыльную часть дома.
Место общей встречи — кухня, в мавзолейном безразличии которой сбилась подавленная, полусонная компания. Отнюдь не все обитатели дома: кухарку оставили похрапывать наверху; слугам недавно взятым, менее доверенным, которые, естественно, любопытствовали по поводу суматохи, было сказано идти спать и не совать нос, куда не надо. Здесь Уильям, Летти, Роза и Клара, полностью одетые и дрожащие. И, ну да, в дверях посудной плачет Джейни, расстроенная из-за того, что миссис Рэкхэм нет ни в леднике, ни в мясном шкафу, хотя мисс Тиллотсон в сердцах утверждает, что Джейни должна поискать ее.
Летти обхватила руками плечи и стиснула свои лошадиные зубы, чтобы они не стучали. Ее белый форменный передник блестит от влаги: она выскакивала под дождь со снегом, бегала стучаться в домик мистера Стрига. Но садовник слишком пьян, его не добудиться, а Чизман, видимо, поддался чарам «матери» и остался с нею на ночь. Так что Уильям Рэкхэм опять оказывается единственным мужчиной, которому предстоит справиться с кризисом.
Конфетку он встречает недружелюбным взглядом; он выглядит мертвенно бледным в рассеянном свете, отраженном от влажных поверхностей кухонного стола и пола, еще не просохших после недавнего мытья.
— Ее нигде нет, сэр, — умоляюще сообщает Роза; ее голос дрожит от крайней необходимости того, что она не отваживается сказать хозяину: он теряет драгоценное время, возможно даже, обрекает жену на гибель, не вынося поиски за пределы дома.
— А как насчет подвала? — требует Уильям, — Летти, ты слишком торопливо осмотрела подвал!
— Там пусто, мистер Рэкхэм, — убеждает его девушка; ее негодующее хныканье отдается в медных сковородках, развешанных на стене.
Уильям ерошит волосы и смотрит на окна, на черные стекла, заляпанные мокрым снегом и обмерзшие по краям. Не может это происходить с ним!
— Роза, неси фонари, — после томительной паузы хрипло приказывает он. — Будем искать вокруг дома.
Его глаза неожиданно заблестели, будто от запоздало загоревшегося огня — или от горячки.
— Всем тепло одеться! И надеть перчатки!
Беглый осмотр сада подтверждает наихудшие опасения: на снегу цепочка следов, которые идут от парадного в сторону ворот, ворота настежь распахнуты. Уличные фонари Чепстоу-Виллас тускло светят в мокрой мгле, каждый высвечивает лишь серый шар воздуха футах в пятнадцати над землей. Дорога непроглядно темна, за нею угадываются неосвещенные здания и извилистые дорожки между ними. Женщина в темной одежде быстро затерялась бы в такой темноте.
— Она в белом, вы не знаете? — спрашивает Уильям Клару, когда поисковая группа готова двинуться в путь.
Клара смотрит на него, как на недоумка, будто он пожелал выяснить, какой из бальных туалетов миссис Рэкхэм решила надеть по такому важному случаю.
— Я спрашиваю, она в ночной сорочке, Боже ее сохрани!? — рявкает Уильям.
— Не знаю, сэр, — злобно отвечает Клара, подавляя желание сказать, что если миссис Рэкхэм замерзла насмерть, — то наверняка в то время, пока Клару заставили искать ее в чуланах для метел и у гувернантки под кроватью.
Уильям, неповоротливый в тяжелой шубе, движется наугад в дымке собственного дыхания; две женщины следуют за ним. Поскольку нашлось всего три фонаря в рабочем состоянии, их поделили между Уильямом, Кларой и Розой. Летти и Джейни так возбуждены, что от них все равно не будет толку, пусть лучше ложатся спать. Что касается мисс Конфетт, то ей вообще незачем было беспокоиться и подниматься с постели.
Конфетка стоит в парадном и смотрит вслед уходящим. Когда они выходят за ворота и расходятся в разные стороны, мимо громыхает двуколка, заставляя вспомнить, что даже в столь поздний час Агнес могла остановить кеб и теперь находиться за мили отсюда, затерявшись в огромном, запутанном городе, пробираться по незнакомым улицам меж темных домов, где полно незнакомых людей. Кеб проезжает, из него доносится пьяный хохот, напоминая о том, что смерть от переохлаждения — лишь одна из множества опасностей, подкарауливающих беззащитную женщину в огромном мире.
Конфетке, трясущейся от холода в парадном, вдруг приходит в голову, что дом Рэкхэмов оставлен без присмотра, если другие служанки разошлись по своим комнатам, как им было велено. Значит, никто не увидит, что она открывает запретные двери, никто не помешает ей соваться, куда вздумается. Жаль терять золотую возможность, она уже рисует себе, как стоит у письменного стола Уильяма и читает нечто секретное. Да, ей надо торопиться наверх, чтобы сбылась эта фантазия из волшебного фонаря… Но нет, ей недостает воли, она так устала от краж, она больше ничего не хочет выведывать, а хочет только быть членом семьи, быть свободной от подозрений, радушно принятой — навсегда.
И вдруг, неведомо откуда взявшаяся мысль ударяет ее — Агнес где-то близко! Уверенность, похожая на религиозное озарение, обращение на пути в Дамаск. Какие они идиоты, Уильям и прочие, они пошли за блуждающим огоньком, по следам ночных певцов, которые не позаботились закрыть ворота! Конечно, Агнес не там, не на улице, она где-то здесь, она прячется у дома — очень близко!
Конфетка мчится в дом за фонарем и скоро возвращается с хлипким, плохоньким приспособлением, которое годится только для того, чтобы осветить застланный ковром переход из спальни в спальню. Конфетка бережно выносит его из дома, ладонью защищая трепещущий огонек от ветра и снега. Снежная крупа хлещет ее по щекам, острые крупинки обжигают холодом, как искры на ветру. Она, конечно, спятила, но она не может повернуть назад, пока не отыщет Агнес.
Откуда начать поиск в этой убийственно серьезной игре в прятки? Она ступает на подъездную дорожку, башмаки хрустят по гравию, смешанному со снегом. «Нет, нет», — говорит ей внутренний голос, когда она огибает дом Рэкхэмов, идет мимо эркеров гостиной и столовой. «Нет, не здесь, здесь даже не тепло. Подальше от дома, да, дальше в темноту. Теплее, так, теплее!»
Конфетка отваживается вступить в неизвестную ей часть Рэкхэмовых угодий, лежащую за парниками для овощей; их заснеженные панцири мерцают в темноте, как мраморные саркофаги. Оттого, что нужно все время следить за огоньком фонаря, она сбивается с пути, спотыкается то о садовый инструмент, то об угольный мешок, но все же добирается до конюшни, ни разу не упав.
«Очень горячо», — одобряет внутренний голос.
Двери каретного сарая закрыты, но не заперты; так силен инстинкт, который привел ее сюда, что она предполагает отсутствие замка еще до того, как это подтверждают глаза. Поднимает шпингалет, приоткрывает дверь, просовывает фонарь в сарай.
— Агнес?
Ответа нет. Но есть интуиция. Конфетка пошире открывает дверь сарая и проскальзывает внутрь. Рэкхэмов экипаж стоит недвижно в полумраке; он больше и выше, чем помнилось Конфетке. В этой полированной, отделанной сталью громаде есть нечто тревожное. С передка до земли свисает путаница цепей и кожаных ремней.
Конфетка подходит к окошку экипажа и поднимает фонарь к темному стеклу. Внутри шевелится что-то белое.
— Агнес?
— Моя… Святая Сестра…
Конфетка распахивает дверцу — Агнес съежилась на полу, подтянув колени к подбородку. Подбородок запачкан рвотой, глаза почти не видны под распухшими веками, веки едва поднимаются, приоткрывая лишь узенькую молочно-белую полоску. Агнес настолько окоченела, что больше не дрожит, а губы, намазанные кремом, по-прежнему выглядят как бутон розы. Слава Богу, она одета не в одну только ночную рубашку. Красный халат плотного шелка в восточном стиле лишь отчасти прикрывает белую рубашку; спереди он застегнут кое-как, большая часть пуговиц не в тех петлях. Ноги Агнес забинтованы по щиколотку, поверх бинтов на ногах — свободные вязаные шлепанцы; шерсть пропитана талым снегом и колюча от приставших к ней сучков и веточек.
— Пожалуйста, — говорит Агнес, не в силах поднять голову с колен, — скажи, что пришло мое время.
— Твое время?
— Отправиться с тобою… в Обитель.
Она облизывает губы, тщетно пытаясь вялым языком удалить с губы комочек подсохшей рвоты, прилипший к крему.
— Пока н-нет, — отвечает Конфетка, подавляя отвращение и стараясь говорить с властностью ангела.
— Они дают мне яд, — плаксиво жалуется Агнес.
Голова ее снова опускается, и влажные пряди тонких белокурых волос одна за другой соскальзывают с плеч.
— Клара с ними заодно. Она дает мне хлеб и молоко… пропитанные ядом.
— Пойдем отсюда, Агнес, — Конфетка тянется к карете, гладит Агнес по руке, как гладят больное домашнее животное.
— Ты можешь идти?
Но Агнес будто не слышит.
— Они меня откармливают для жертвоприношения, — продолжает она испуганным и напряженным шепотом. — Медленное жертвоприношение… всю жизнь продлится. Каждый день будет приходить другой демон и поедать мою плоть.
— Глупости, Агнес, — говорит Конфетка, — ты поправишься.
Агнес поворачивает голову к свету. Сквозь путаницу волос виден один широко раскрытый глаз, голубой, налитый кровью.
— Ты ноги мои видела? — спрашивает она с неожиданной сердитой четкостью. — Подгнившие фрукты. Подгнившие фрукты снова свежими не станут.
— Не бойся, Агнес, — убеждает ее Конфетка, хотя на самом деле сама страшно боится, что ее нервы не выдержат взгляда Агнес и пронзительности ее мучений. Она делает глубокий вдох, осторожно, как ангел бы сделал, и возглашает чарующим голосом — она надеется, безмятежным и внушающим доверие:
— Все будет хорошо, клянусь. Все обернется наилучшим образом.
Но обещание, при всем его пафосе, не производит впечатления на Агнес; оно лишь напоминает ей о других ужасах.
— Черви съели мои дневники, — стонет Агнес. — Мои бесценные воспоминания о маме и папе…
— Черви не съели твои дневники, Агнес. Они в сохранности у меня. — Конфетка тянется к Агнес, чтобы снова погладить ее руку.
— Даже дневники времен Эбботс-Ленгли, — утешает она, — где ты пишешь про французские диктанты и упражнения под музыку. Все в сохранности.
Агнес высоко вскидывает голову и вскрикивает от облегчения. Ее бледное горло пульсирует от крика, волосы снова падают за плечи, по щекам текут слезы.
— Увези меня, — молит она, — увези меня, прежде чем это сделают они.
— Еще не время, Агнес. Время еще не пришло.
Поставив фонарь на землю, Конфетка осторожно и медленно забирается в карету.
— Я скоро помогу тебе уйти отсюда. Скоро, я обещаю. Но сначала тебе нужно согреться, лечь в твою удобную, мягкую постель, отдохнуть.
Она обхватывает Агнес сзади, ловко поддерживает ее за подмышки, горячие и влажные от температуры.
— Пойдем, — говорит Конфетка и поднимает миссис Рэкхэм с пола.
Их движение обратно к дому оказывается не таким кошмарным, как боялась Конфетка. Конечно, теперь им приходится пробираться в темноте, потому что Конфетка не в состоянии и поддерживать Агнес, и фонарь нести. Но снег с дождем и ветер утихли; воздух под тяжелыми снежными тучами неподвижен и тревожен. К тому же Агнес не висит на ней мертвым грузом: она немного собралась с силами и без жалоб хромает и спотыкается рядом с Конфеткой — как пьяная потаскуха. К тому же теперь, когда место назначения — это монументальная громада дома, и в окнах первого этажа гостеприимно светятся лампы, идти гораздо легче, чем тогда, когда Конфетка наугад брела в чернильно-черную неизвестность.
— Уильям будет сердиться, — волнуется Агнес, когда они ступают на подъездную дорожку и под их ногами начинает похрустывать гравий.
— Его там нет, — говорит Конфетка. — И Клары тоже.
Агнес в изумлении смотрит на свою спасительницу, представляя себе Уильяма и Клару, которые расступились, как две половины Красного моря, руками и ногами бессильно отбиваясь от неодолимой сверхъестественной силы, которая выталкивает их вон. Потом она резко останавливается и бросает критический взгляд на дом, к порогу которого ведет ее ангел-хранитель.
— Ты знаешь, я никогда не любила это место, — отрешенно и раздумчиво замечает она.
Снежинки опять слетают с высоты, поблескивая на ее голове и плечах.
— От него пахнет… Пахнет людьми, которые ужасно стараются быть счастливыми, но безуспешно.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ
Но теперь, мои дорогие дети — ибо так я думаю о вас, благословенных читателях моей Книги во всем мире — я преподала вам все уроки, какие знаю. Однако я слышу ваши голоса из таких далеких мест, как Африка или Америка, и таких отдаленных времен, как грядущие столетия. Они требуют: «Расскажи нам, расскажи нам, расскажи нам твою историю!»
О, вы, кто мало понимает! Не говорила ли я вам, что подробности моего собственного существования не имеют значения? Не говорила ли я вам, что эта Книга — не дневник? А вы все жаждете узнать обо мне!
Очень хорошо. Тогда я расскажу вам одну историю. Полагаю, раз вы прочитали все мои уроки и обдумали их, то вы это заслужили. И, возможно, Книга лучше выглядит, если она не такая тоненькая — хотя мне кажется, что в моем маленьком томике содержится больше, чем в самых толстых томах, написанных непросветленными душами. Но оставим это. Я расскажу вам историю о том, как я узрела то, что никому из нас не позволено видеть до Воскресения — но я видела это, потому что была озорницей!
Это произошло в одно из моих посещений, когда меня привезли в Обитель целительной силы — для исцеления. Я прибыла в ужасном состоянии, но после часа или двух нежных забот моей Святой Сестры мне сделалось лучше, и ужасно захотелось посмотреть другие кельи Обители, куда мне было запрещено ходить. Но я так хорошо чувствовала себя, что мне было скучно. Любопытство, это слово, которым мужчины пренебрежительно называют стремление женщин к знанию, всегда было самым большим моим недостатком, я признаю. Итак, дорогой читатель, я покинула пределы моей кельи.
Потихоньку, как преступница, я вышла и заглянула в замочную скважину соседнего помещения. Какой сюрприз! Я всегда полагала, что только нашему полу дают прибежище в монастыре здоровья, но там оказался Генри, мой деверь! (Я была отнюдь не против, потому что Генри был достойнейшим человеком!) Но клянусь, я никогда не заглянула бы в замочную скважину, если бы знала, что он окажется совершенно без одежды! И все же — я мельком увидела его. Рядом была одна из благословенных сестер, лечившая его ожоги. Я тут же отвернулась.
Я услышала шаги за спиной — в коридоре, но вместо того, чтобы убежать в собственную келью, в испуге поспешила вперед. Я прибежала прямо к самой запретной комнате, к комнате, на которой прикреплено золотое «А», — и влетела в нее.
Как могу я притворяться, будто раскаиваюсь в моем грехе непослушания? Я могу прочитать тысячу молитв Пресвятой Деве, и все же блаженно улыбаться от воспоминания. Я стояла, ослепленная и пораженная видением, в центре комнаты. Гигантский столб пламени, источник которого я не могла обнаружить: пламя будто исходило прямо из воздуха, немного выше пола и исчезало в вышине. Хоть я никогда не была сильна в вычислениях, но, думаю, примерная высота столба составляла не менее двадцати футов, а ширина — фута четыре. Пламя горело ярко-оранжевым цветом, без жара и без дыма. Я центре, как птица, парящая на ветру, висело нагое тело девушки. Я не видела ее лица, поскольку тело было обращено спиной ко мне, но оно было так прекрасно непорочно, как у девушки лет тринадцати. Пламя было настолько прозрачно, что я видела, как вздымается ее грудь, и поняла, что девушка не мертва, а спит. Пламя не наносило ей никакого урона, только поддерживало ее на весу и чуть шевелило волосы на шее и плечах. Расхрабрившись, я протянула руку в огонь, предполагая, что он похож на тот, которым горит зажженный бренди. Однако пламя оказалось куда более необычным — я могла глубоко погрузить в него пальцы, потому что оно было прохладным, как вода; оно было и впрямь как вода, текущая по руке. Не знаю, отчего это напугало меня сильнее, чем если бы я обожглась, но я вскрикнула от изумления и отдернула руку. Огонь заколебался от движения, затрепетал, я пришла в смятение, увидев, что тело девушки начинает поворачиваться!
Я не могла шелохнуться от благоговейного страха, пока тело полностью не повернулось, и я не увидела — что это мое тело!
Да, дорогие читатели, то било мое второе тело, мое солнечное тело — абсолютно совершенное: исчезли все отметины, которые оставляло на нем страдание.
Я так страстно желала увидеть его безупречность, что склонилась лицом прямо в огонь, испытав упоительное ощущение.
В особенности порадовали меня моя грудь, такая маленькая и гладкая, и нижняя часть моего тела, свободная от грубых волос, и конечно, лицо, с которого стерлись все тревоги. Должна сказать, мне было легче от того, что она спала, поскольку не думаю, что мне достало бы отваги заглянуть себе в глаза.
Наконец, взял верх испуг — или удовлетворение — я покинула комнату и со всех ног бросилась в свою келью.
Конфетка переворачивает страницу, но пафосно-нравоучительный эпизод — это, видимо, все, что успела написать Агнес для книги «Просветленные мысли и размышления о сверхъестественном Агнес Пиготт», прежде чем пришла к роковому решению откопать из земли свои старые дневники.
— Ну, и что ты думаешь? — спрашивает Уильям. Он сидит на краю письменного стола, а Конфетка стоит перед ним с раскрытой тетрадью в руках.
— Н-не знаю, — тянет она, все еще пытаясь догадаться, чего ей ждать от этого утреннего вызова в кабинет. И она, и Уильям смертельно утомлены, и, безусловно, обоим лучше бы занять измученные мозги не разбором бреда Агнес, а чем-нибудь другим.
— Она хорошо изложила сюжет, правда?
Уильям изумленно воззрился на Конфетку. Глаза у него больные и красные от бессонницы. Он, было, открыл рот, чтобы ответить, но у него заурчало в животе.
— Шутишь, что ли?
Конфетка закрывает тетрадь и прижимает ее к груди.
— Нет… конечно, нет… Но… Но это описание… Это ведь сон, так? Рассказ о том, что приснилось…
На лице Уильяма — гримаса раздражения.
— А остальное? А начало? Эти (он произносит слово с преувеличенным отвращением) «уроки»?
Конфетка закрывает глаза и глубоко дышит, борясь с желанием расхохотаться или посоветовать Уильяму оставить в покое свою несчастную жену.
— Ты ведь знаешь, я не самый религиозный человек на свете, — она вздыхает, — поэтому я не могу судить…
— Безумие! — взрывается он и ударяет ладонью по столу. — Чистый бред, ты что, не видишь?
Она отступает, инстинктивно отступает на шаг. Говорил ли он с нею так резко раньше? Может, расплакаться и дрожащим голосом пролепетать «Ты н-напугал меня», чтобы он покаянно обнял ее? Быстрый взгляд на эти руки и на кулаки заставляет передумать.
— Посмотри, ты посмотри на это! — бушует Уильям, указывая на шаткую стопку книг и брошюр на письменном столе. Их переплеты скрыты под суперобложками ручной работы — из драпировки или шелковых лоскутов. Хватает верхнюю, открывает и громко, издевательски читает: «От материи к духу: результат десятилетнего опыта вызывания духов, вместе с советами для неофитов. Силия И. Де Фой». Отшвыривает книгу, как безнадежно перепачканный носовой платок, хватает другую. «Палец в ране Христа: исследование библейских тайн. Д-р Тибет». Отшвыривает и эту.
— Я обыскал спальню Агнес, чтобы убрать оттуда все, чем она могла навредить себе. И что я обнаружил? Два десятка этих мерзких книжонок, которые она прятала в корзинках для шитья. Выписаны издалека — из Америки, или украдены — да, украдены — из библиотеки спиритов в Саутгемптон Роу. Книги, которые не стал бы печатать ни один нормальный мужчина, и не стала бы читать ни одна нормальная женщина!
Конфетка тупо моргает, не в силах оценить смысл этой тирады, но поражаясь яростности Уильяма. Тут гора книг и брошюр неожиданно рассыпается по всему столу. Одна падает на ковер — маленькая книжица размером с молитвенник, аккуратно обернутая в кружева.
— Уильям — ты чего от меня хочешь? — спрашивает Конфетка, следя, чтобы в голосе не прозвучало озлобление, — ты вызвал меня сюда. Софи сидит без дела в классной комнате, а я должна смотреть на вещи Агнес, которые ты… конфисковал. Не спорю, они свидетельствуют о чрезвычайно… спутанном сознании. Но чем я могу помочь?
Уильям запускает руку в волосы и, вцепившись в прядь, с силой прижимает к черепу — жест раздражения, который в последний раз она видела во время его спора с торговцами джутом в Данди.
— Клара заявила, — стонет он, — что категорически отказывается давать Агнес… лекарство.
У Конфетки есть несколько ответов, но она прикусывает язык, потому что ни один не отличается почтительностью по отношению к мужчинам, которым удобно держать жен под наркотиками. Взяв себя в руки, она говорит:
— Велика ли беда, Уильям? Агнес достаточно хорошо держалась на ногах, когда я вела ее к дому. Скорее всего, самое худшее уже позади, тебе не кажется?
— После того, что случилось ночью? И ты считаешь, что опасность уже позади?
— Я имела в виду ее ноги — они заживают.
Уильям опускает глаза. Только сейчас Конфетка замечает что-то вороватое в его поведении, какую-то собачью пристыженность, которой она не видела с тех пор, когда он впервые задрал ей юбки у миссис Кастауэй, умоляя сделать то, от чего отказались другие проститутки. Чего он хочет от нее теперь?
— Пусть так, — мямлит он, — но Клара — прислуга, которой я плачу, — открыто бросила мне вызов. Я велел давать Агнес лекарство до… Вплоть до новых распоряжений, а она отказывается.
Конфетка ощущает, как укоризна меняет выражение ее лица, и торопится придать себе невозмутимый вид.
— Клара — камеристка Агнес, — напоминает она Уильяму. — Подумай сам, как она может выполнять свои обязанности, если Агнес ей не доверяет?
— Хороший вопрос, — замечает Уильям, наклоняя голову.
Ему почти ясно, насколько непригодна Клара для своей должности.
— Она также наотрез отказалась запирать дверь спальни.
— Когда ухаживает за Агнес?
— Нет, потом.
Конфетка силится усвоить это сообщение, но оно плохо укладывается в голове.
— Ты имеешь в виду, что… То есть, что есть план… Что ты намерен… Что Агнес должна находиться под замком?
У него пылают щеки. Он отворачивается и негодующе тычет пальцем в сторону окна.
— А что, мы теперь каждую ночь будем приводить ее из каретного сарая или Бог знает откуда еще? Каждую ночь?
Конфетка еще сильнее прижимает к груди тетрадь, ей хотелось бы положить ее, но она боится хоть на миг оторвать глаза от Уильяма. Чего он на самом деле хочет? Какое безрассудное проявление покорности ему нужно, чтобы избыть ярость, от которой он просто лопается? Ему что, нужно измолотить ее кулаками, прежде чем вставить свои угрызения совести между ее ног?
— Агнес сейчас выглядит очень спокойной, тебе не кажется? — мягко начинает она. — Когда я привела ее с холода, она говорила только о том, как мечтает о горячей ванне и о чашке чаю. Она мне прямо сказала: дом есть дом.
Он злобно смотрит на нее — с откровенным неверием. Сто раз проглатывал ее вранье: и дрын у него гораздо больше, чем у других, и волосы на груди безумно эротичны, и быть ему первым парфюмером Англии, — но он этому не верит.
На миг ей становится страшно, что он схватит ее за плечи и вытрясет из нее правду, но он снова приникает к письменному столу и утирает руками лицо.
— Кстати, как ты узнала, где ее найти? — уже спокойнее спрашивает он.
Он не спросил ее об этом, когда под утро, промокший до нитки, обезумевший от тревоги, вернулся в дом — и нашел жену, засыпающей в постели.
(«Боже мой, Уильям, в каком ты виде!» — это было все, что она сказала, прежде чем снова закрыть глаза.)
— Я… я услышала ее голос, — отвечает Конфетка.
Сколько еще собирается Уильям держать ее здесь? Софи ждет в классной комнате, она сегодня довольно рассеянна и капризна, она и тянется к привычному распорядку занятий, и противится ему… Будут сложности, — и не только слезы, — если нормальная жизнь не восстановится быстро.
— Важно… чрезвычайно важно, чтобы она не убежала в ближайшие дни, — объявляет Уильям.
Самообладание Конфетки на исходе, тяжесть невыносима, и она срывается.
— Уильям, почему ты мне это говоришь? — резко спрашивает она. — Я думала, ты хочешь, чтобы у меня не было ничего общего с Агнес. А теперь — я что, должна быть ее надзирательницей? Или она должна сидеть в классной комнате во время уроков и следить, чтобы Софи хорошо себя вела?
Еще не договорив, Конфетка жалеет о своих словах; мужчине нужна постоянная, неустанная лесть, чтобы он не взбеленился; одно неосторожное замечание способно свести на нет его хрупкую терпеливость. Если же девушка хочет быть острой на язык, ей лучше на этом и строить свою карьеру — как Эми Хаулетт.
— Прости меня, Уильям, пожалуйста, прости, — умоляет она, закрывая лицо руками. — Я так измучена, да и ты, конечно, тоже!
Наконец он подходит и обнимает ее. Они прижимаются друг к другу. Тетрадь Агнес падает на пол, они соприкасаются щеками. Льнут друг к другу все сильнее, пока не начинают задыхаться. Внизу звенит колокольчик.
— Кто это? — пугается Конфетка.
— Поставщики и прихлебатели, — отвечает он. — Явились за рождественскими подарками. Им придется зайти попозже, когда Роза будет в состоянии заняться делом.
— Ты уверен? — спрашивает Конфетка, поскольку колокольчик не унимается.
— Да, да, — с раздражением отвечает он. — Сейчас Клара у Агнес, смотрит за нею, не отходя ни на шаг — как я от тебя.
— Но я думала, ты отпустил прислугу…
— Всех, кроме Клары, конечно! Если эта приблуда не желает делать то, что необходимо для сна Агнес, и запирать ее тоже не желает, тогда пусть, по-крайней мере, сидит с нею в комнате!
И, пристыженный бессердечием собственных слов, добавляет:
— Разве ты не видишь, что так жить нельзя?
— Прости, Уильям, — гладит она его по плечам. — Я могу играть только свою роль, как умею.
И с облегчением видит — получилось. Он крепко обнимает ее, тихонько и жалобно постанывая; напряжение понемногу начинает отпускать его; он готов к чему-то вроде исповеди.
— Я нуждаюсь, — шепчет он настойчиво и заговорщически ей в ухо, — я нуждаюсь в твоем совете. Я должен принять решение. Самое трудное решение моей жизни.
— Да, любовь моя?
Он стискивает ее талию, прочищает горло и выпаливает скороговоркой, комкая и глотая слова:
— Агнес сумасшедшая, она давно сошла с ума, с этим невозможно справиться, и, короче говоря, в общем, я считаю, что ее необходимо изолировать.
— Изолировать?
— В сумасшедшем доме.
— Так, — она снова принимается гладить его плечи, но вина делает его настолько обидчивым, что секундная пауза воспринимается как пощечина.
— Ее там могут вылечить, — доказывает он неуверенно и поэтому с горячностью. — Там она будет под постоянным присмотром докторов и сестер. Она вернется домой другим человеком.
— Так… На какой день ты договорился?
— Я на целые годы опоздал с этим! На двадцать восьмое, черт побери! Доктор Керлью вызвался… Ну… Сопровождать Агнес до места. Называется санаторий Лабоба.
И странно нарочитым тоном добавляет:
— В Уилтшире.
Будто уточнение местности должно окончательно рассеять все сомнения в достоинствах клиники.
— Значит, ты уже принял решение, — говорит Конфетка. — Так какой совет ты надеялся получить от меня?
— Мне нужно знать, — он со стоном утыкается лицом в ее шею, — мне нужно знать… Что это… Что я не…
Она кожей чувствует, как собирается в морщины его лоб, ощущает подергивание его подбородка…
— Мне нужно знать, что я не чудовище! — выкрикивает он, корчась от муки.
Легчайшим, нежнейшим движением Конфетка ерошит его волосы, осыпает поцелуями голову.
— Тише, — воркует она, — ты сделал все, что мог, любимый. Что только мог и ты делал так всегда, с вашей первой встречи, я не сомневаюсь. Ты…Ты хороший человек.
Он громко стонет от горя и облегчения. Вот чего он с самого начала и хотел от нее, для этого он и вызвал гувернантку из детской. Она крепко обнимает его, чувствует, как он обмякает в ее объятиях — и стыдится. Она знает: ни одно унижение, на которое она соглашалась, ни одна мерзость, наслаждение которой изображала, не могут сравниться по низости с этим.
— А если Клара расскажет Агнес о твоих планах?
Гнусный вопрос, но она должна его задать, и она уже до такой степени погрязла в вероломстве, что какая теперь разница… Горький привкус заговора на языке — ядовитая слюна леди Макбет.
— Она не знает, — бормочет Уильям в ее волосы. — Я ей не сообщил.
— Но что если двадцать восьмого…
Он высвобождается из ее рук и сразу начинает расхаживать по кабинету — глаза безжизненны, плечи ссутулены, руки возбужденно тискают одна другую.
— Я отпускаю Клару на несколько дней, — говорит он. — Бог знает, сколько свободных дней я ей задолжал, не говоря уже о бессонных ночах.
Он смотрит на окно, щурится.