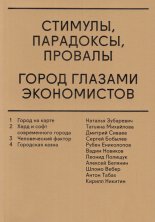Багровый лепесток и белый Фейбер Мишель

Итак, Уильям стоит перед нарисованным горизонтом и смотрит «вдаль», как говорит Сколфилд, в точку, которая по размеру студии не может отстоять от фотоаппарата дальше, чем вентиляционная решетка. Сколфилд медленно возносит руку и декламирует: «На горизонте, прорывая учи — солнце!», Рэкхэм инстинктивно всматривается, и Тови ловит момент.
Затем Уильяма уговаривают стать перед книжным шкафом с раскрытым томом «Элементарной оптики» в руках.
— А, да, тот самый знаменитый текст! — комментирует Сколфилд, потихоньку приближая книгу к лицу клиента. — Кто б мог подумать, что в таком скучном томе содержатся настолько дерзкие откровения!
Застывшее лицо Уильяма вдруг оживает, когда он начинает действительно читать, а Тови не медлит.
— Ах, это моя маленькая шуточка! — Сколфилд опускает голову, пародируя раскаяние.
Чем дольше он управляет клиентами, тем игривее становится — словно отхлебывает виски из фляжки в заднем кармане или потихоньку вдыхает веселящий газ.
Сидя вместе с Софи в сторонке и ожидая своей очереди, Конфетка размышляет над тем, есть ли в этой студии еще одна комнатка, потайная, оборудованная под порнографию. Когда Тови и Сколфилд остаются вдвоем после рабочего дня, что они проявляют — одни только снимки респектабельно одетых джентльменов и леди — или вытаскивают из дурно пахнущих жидкостей фотолаборатории голых проституток, потом вывешивая их на просушку? В конце концов, что может быть артистичнее, чем набор фотографий открыточного размера, продаваемых в конверте с надписью: «только для художников»?
— А теперь — ваша очаровательная маленькая девочка, — объявляет Сколфилд и с балетной ловкостью убирает бутафорию, сваленную перед фальшивой детской, оставляя одни игрушки. Минуту поколебавшись и рассудив, что мистер Рэкхэм не такой отец, который придет в восторг от вида своей дочки, взгромоздившейся в дамское седло на деревянной лошадке, убирает и ее. Подводит Софи к тонконогому столику, показывает, какую принять позу, обозревает мизансцену, шустро отступает на шаг, но потом делает прыжок вперед, чтобы отодвинуть лишний стул.
— Теперь, — возглашает он, с важностью поднимая руку, — я вызову с неба слона и буду им жонглировать на кончике носа!
Софи не поднимает подбородок и не распахивает глаза; она только думает о том месте в «Алисе», где Кот говорит: «Все мы здесь не в своем уме». Что, в Лондоне полно безумных фотографов и людей-реклам, которые похожи на карточных придворных Червонной королевы?
— Слоны не спустились, — говорит Сколфилд, заметив, что Тови еще не наладил экспозицию. — Я так разочарован, что откручу себе голову.
Устрашающее обещание, за которым следует стилизованный жест, заставляет Софи наморщить лоб.
— Джентльмен желает, чтобы вы подняли подбородок, милая Софи, и не моргали глазами, — тихо подсказывает Конфетка.
Софи делает, как ей сказано — и мистер Тови сразу получает то, что нужно.
Для группового снимка Уильям, Конфетка и Софи позируют в подобии идеальной гостиной: мистер Рэкхэм стоит в центре, перед ним и чуть левее — мисс Рэкхэм, головой доставая как раз до цепочки от часов, а неназванная дама сидит на элегантном стуле справа. Вместе они образуют пирамиду, более или менее; вершина пирамиды — это голова Рэкхэма, а юбки мисс Рэкхэм и той дамы — ее основание.
— Идеально, идеально, — повторяет Сколфилд.
Конфетка сидит неподвижно, руки скромно сложены на коленях, спина прямая — будто аршин проглотила, немигающий взгляд направлен на поднятый палец Сколфилда.
Палаткообразное создание — Тови с его аппаратом — сейчас открыло глаз: в этот самый миг невидимые химикалии реагируют на поток света и на темнеющий отпечаток трех продуманно размещенных человеческих фигур. Она улавливает неглубокое дыхание Уильяма над головой. Он так и не сказал ей, чего ради они проделывают все это; она полагала, что все узнает до приезда сюда, но — нет. Набраться смелости и спросить — или это одна из тем, которые могут привести его в ярость? Как странно, что ситуация, которая должна бы внушать ей надежду на совместное будущее — снимается семейный портрет, где она занимает место жены — напротив, вызывает мрачные предчувствия.
Каким образом он собирается использовать этот портрет? Повесить его на стену он не может; так что он будет с ним делать? Мечтать над ним в уединении? Подарить ей? Бога ради — что она тут делает и почему чувствует себя хуже, чем если бы ее заставляли участвовать в голых непристойностях «только для художников»?
— Думаю, мы закончили, — говорит мистер Сколфилд, — как вам кажется, мистер Тови?
Партнер хмыкает в ответ.
Через много часов, по возвращении в Ноттинг-Хилл, когда опустилась ночь и прошло возбуждение, домочадцы Рэкхэма расходятся спать. Все лампы в доме потушены; темно даже в кабинете Уильяма.
Уильям тихонько похрапывает на подушке; ему уже что-то снится. Горит самая большая фабрика Перза, та, на которой производят мыло, а он смотрит, как пожарные тщетно стараются спасти ее. Во сне он чувствует невероятный запах горящего мыла — запах, с которым он никогда не сталкивался в действительности, и который — при всем его своеобразии — он забудет сразу после пробуждения.
Его дочь тоже крепко спит, измученная приключениями и огорчившаяся от того, что мисс Конфетт выбранила ее за капризность, и расстроенная послеобеденной неудачей, когда она выблевала не только жаркое из говядины, но и какао с пирожным, съеденные в кондитерской Локхарта.
Мир — до невозможности странное место; он больше и теснее, чем она могла представить себе, он полон феноменов, которые явно не понимает даже ее гувернантка, но отец сказал, что она хорошая девочка, а Бискайский залив находится в Испании — на случай, если он еще раз спросит. Завтра будет новый день, и она так хорошо выучит уроки, что мисс Конфетт нисколько не будет сердиться.
Конфетка лежит без сна, сжимая в руках ночной горшок, в который извергается мерзкая смесь болотной мяты и пивных дрожжей. Но при самых сильных спазмах, когда ее рот и ноздри горят, физические мучения — ничто, по сравнению со жгучей болью от слов, с которыми Уильям вечером выставил ее из кабинета: «Занимайся своим делом! Как ты думаешь, если бы это касалось тебя, сказал бы я тебе или нет? Ты кого из себя корчишь?»
Она забирается под одеяло, обхватив руками живот, боясь застонать — как бы звук не прошел сквозь стены. Мышцы живота болят от конвульсий, внутри ничего не могло остаться. Кроме…
Впервые за время беременности Конфетка представляет себе ребенка… как ребенка. До сего времени ей удавалось избежать этого. Начиналось просто с беспричинной тревоги, с отсутствия менструаций; потом это превратилось в червяка в бутоне, в паразита, которого она надеялась выгнать из себя. Даже когда ничего не вышло, она не представляла себе, что это нечто живое, цепляющееся за дорогую жизнь — то был загадочный объект, растущий, но в то же время инертный; комок мясистого вещества, необъяснимо увеличивающийся в ее нутре. А теперь, лежа в этот глухой полночный час и сжимая руками живот, она вдруг осознает, что под ее руками жизнь, что она вынашивает человека.
Какой он, этот ребенок? Есть у него лицо? Конечно, лицо у него должно быть. Это он или она? Ему хоть что-то известно о том, какой матерью была Конфетка до сих пор? Может, он корчится от страха, кожа ошпарена сульфатом цинка и бурой, рот раскрыт в поиске чистой пищи посреди ядов, бурлящих в Конфеткиных внутренностях? Может, он проклинает день, когда родился, хотя этому дню еще только предстоит наступить?
Конфетка убирает ладони с живота и кладет их на пылающий лоб. Она должна сопротивляться этим мыслям. Этому ребенку — этому существу — этому цепкому комку мяса — нельзя позволить жить. На карту поставлена ее собственная жизнь; если Уильям узнает, что она беременна, — это конец, всему конец. «Вы не вернетесь на улицы, мисс Конфетт, ведь не вернетесь?» — говорила ей миссис Фокс. «Я скорее умру», — пообещала она в ответ.
Конфетка укрывается, готовясь заснуть; тошнота проходит, и она уже может сделать глоток воды, чтобы смыть с языка болотную мяту и желчь. Живот болит от грудной клетки до паха, будто она задала непосильную нагрузку непривычным к работе мышцам. Она кладет ладонь на живот — там, кажется, пульсирует сердце. Ее собственное, конечно, то же, что пульсирует в груди и в висках. У этого создания внутри нее, наверное, еще нет сердца. Или есть?
Сколфилд и Тови тоже не спят; несмотря на поздний час; они даже не покинули студию на Кондуит-стрит. Помимо прочих дел, они работали над рэкхэмовскими фотографиями.
— Голова получилась маленькая, — бурчит Тови, щурясь на блестящее женское лицо, которое только что материализовалось в темноте. — Тебе не кажется, что голова несоразмерно мала?
— Да, — говорит Сколфилд, — но она все равно не годится для этой цели. Слишком яркая; будто у нее лампа в черепе горит.
— А не проще ли будет заново снять всех троих, на воздухе, в ярком освещении?
— Да, любовь моя, это проще, — вздыхает Сколфилд, — но вне пределов возможного.
Они трудятся почти до рассвета. Заказ Рэкхэма поставил перед ними задачу, куда более трудную, чем привычные им работы: наложить лицо юноши на фигуру солдата, чтобы представить скорбящим родителям почти подлинное свидетельство воинской доблести без вести пропавшего сына. Выполнение рэкхэмовского заказа требует от них почти невозможного: лицо с фотографии, сделанной на ярком солнце любителем, сильно преувеличивающим свое мастерство, нужно переснять, увеличить в несколько раз и смонтировать со студийной фотографией другой женщины, которую снимали профессионалы.
К трем часам они получили наилучший результат, возможный при таком исходном материале. Рэкхэму просто придется удовлетвориться этим снимком, а если он его не устроит — пускай заплатит за нормальные фотографии, свою и дочери, а неудавшийся монтаж может забрать бесплатно.
Фотографы ложатся спать в маленькой комнате, примыкающей к студии — в такой час им не найти кеб, чтобы уехать к себе в Клеркенуэлл. В лаборатории висят на проволоке сегодняшние фотографии: отличный снимок Уильяма Рэкхэма, увлеченно читающего книгу, отличная фотография Софи Рэкхэм, замечтавшейся в детской, и самая странная из фотографий Рэкхэмова семейства — с головой Агнес Рэкхэм, трансплантированной из далекого лета, неестественно светящейся, как светятся те загадочные фигуры, которых спириты считают призраками, запечатлевшимися на желатиновой эмульсии пленки, но никогда не видимые невооруженным глазом.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ
Софи Рэкхэм стоит у окна на скамеечке и легонько раскачивает ее, проверяя устойчивость. Чуть-чуть пошатывается… Осторожно, чтобы не наступить на длинную юбку, переставляет ноги, ища точку равновесия.
«Я вырасту и стану больше мамы», думает она. Это не заносчивость и не соперничество; Софи догадалась, что природа ее тела не такая, как у матери, и ему не суждено быть миниатюрным. Будто в раннем детстве ей дали откусить от пирожка Алисы в Стране чудес, но вместо того, чтобы сразу вырасти до потолка, Софи растет понемножку, каждую минуту, и рост не прекратится, пока она не станет очень большой — как мисс Конфетт или отец.
Скоро ей уже не понадобится скамеечка, чтобы смотреть в окно на мир. Скоро мисс Конфетт — или кому-то еще — придется добывать для нее новые башмаки, новое белье — новое все, потому что она вырастает все больше и почти вся одежда становится ей мала. Возможно, ее опять повезут в город, где есть магазины, в которых каждый день продается единственный экземпляр одной и той же вещи — из-за удивительного множества людей, бесконечно заполняющих улицы.
Софи поднимает подзорную трубу, обхватывает пальцами ее толстую кромку. Раздвигает трубу на все четырнадцать дюймов длины и направляет на Чепстоу-Виллас. Прохожих мало, ничего не происходит. Не то, что в городе.
Позади скрипнула ручка двери классной комнаты. Неужели уже возвращается мисс Конфетт, которая только недавно ушла помогать папе с письмами? Софи боится быстро повернуться, чтобы не упасть со скамеечки, потому что если разобьется подзорная труба, то страдать ей от невезения семь сотен и семьдесят семь лет — так она загадала.
— Здравствуй, Софи, — произносит глубокий мужской голос.
Софи потрясена: в дверях стоит отец. В последний раз он посетил ее комнату, когда Беатриса еще была няней, а мама уехала к морю. Софи соображает, произведет ли книксен хорошее впечатление на отца, но качнувшаяся скамейка подсказывает, что не стоит рисковать.
— Здравствуй, папа.
Он закрывает за собою дверь, входит в комнату и ждет, что дочь ступит на ковер. Ничего подобного раньше не бывало. Она хлопает глазами, глядя снизу вверх на его нахмуренное, но улыбающееся бородатое лицо.
— Я тебе кое-что принес, — говорит отец, пряча руки за спиной.
Возбужденное ожидание умеряется страхом: а вдруг отец пришел сказать, что ее отправляют в дом для непослушных девочек, ведь няня грозила, что он может это сделать.
— Вот, смотри.
Он вручает ей рамку размером с большую книгу. Под стеклом — ее фотография, сделанная тем человеком, который утверждал, что может жонглировать слоном на кончике носа. Та Софи Рэкхэм, которую он запечатлел, благородна и бесцветна, вся серая и черная, как статуя, и выглядит чрезвычайно достойно и взросло. Ненастоящий задник превратился в настоящую комнату; у юной леди красивые и живые глаза, в которых мерцают крохотные огоньки. Какая красивая картинка. Были бы краски, получилась бы просто картина.
— Спасибо, папа, — говорит Софи.
Отец улыбается, глядя на нее сверху вниз; его губы складываются в улыбку не сразу, а рывками, как будто ему непривычно пользоваться нужными мускулами лица. Он молча достает из-за спины другую фотографию в рамке: на этой изображен он сам, стоящий перед нарисованными горами и небом, всматривающийся в будущее.
— Что скажешь?
Софи не верит своим ушам. Отец до этого никогда не спрашивал ее мнения. Возможно ли, чтобы Вселенная позволила такое? Он старый, а она юная, он большой, а она маленькая, он мужчина, а она женщина, он ее отец, а она всего только его дочь.
— Очень хорошо, да, папа? — говорит она.
Она хочет сказать, как реальна иллюзия того, что он стоит у этих гор, но опасается, что не сумеет связно выразить мысль, что ее подведет скудный словарный запас. И все же он догадался, о чем она думает.
— Странно, не правда ли, мы же знаем, что ф-фотография сделана в комнате верхнего этажа, внизу людная улица — тем не менее, я стою в дикой местности. Но это как раз и есть то, что мы все д-должны делать, Софи: п-представлять себя в наилучшем свете. Для того и с-существует искусство. А также история.
Его заикание усиливается по мере того, как исчерпываются возможности вести беседу на понятном ей уровне. Софи чувствует, что отец собирается уйти.
— А что с другой картинкой, папа? — не выдерживает она. — На которой мы все вместе?
— Та вышла неудачно, — с огорчением отвечает он. — Возможно, мы как-нибудь съездим туда и попробуем еще раз. Но я не обещаю.
Он обрывает разговор и, не простившись, важно покидает комнату. Софи смотрит на закрывшуюся дверь и прижимает к груди свою фотографию. Скорее бы показать ее мисс Конфетт.
Поздним вечером того же дня, когда Софи уже давно спит, и спит даже прислуга, в кабинете хозяина горит свет: Конфетка и Уильям продолжают обсуждать дела. Тема неисчерпаема, деловые хитросплетения становятся все запутаннее, им нет конца, даже когда у обоих нет больше сил разбираться в них. Год назад, если бы Конфетку спросили, что требуется для ведения парфюмерного дела, она бы ответила: нужно вырастить цветы, собрать их, сделать из них нечто вроде крепкого бульона, добавить эту эссенцию в бутылки с водой или в куски мыла, наклеить этикетки на то, что получилось, и телегами развозить по магазинам. Теперь на обсуждение таких серьезных вопросов, как, например, доверить ли прохвосту Кроули составление сметы по преобразованию коромысловых двигателей двенадцати лошадиных сил в двигатели шестнадцати лошадиных сил, и есть ли смысл опять тратить деньги на обхаживание портовых властей в Гулле, запросто уйдет по двадцать минут на каждый. Только потом можно будет взять в руки первое письмо из горы неразобранной почты. Конфетка пришла к выводу, что это удел любой профессии: что кажется простым для посторонних, невероятно сложно для тех, кто занимается своим делом. В конце концов, даже шлюхи могут часами рассуждать о своем ремесле.
В этот вечер Уильям в странном настроении. Всегдашняя раздражительность сменилась спокойной рассудительностью, но с изрядной долей меланхолии. Проблемы бизнеса, реакцией на которые в начале его директорства был безрассудный энтузиазм, а позднее — задиристое сопротивление, вдруг точно сломили его дух. «Бесполезно», «невыгодно», «напрасно» — он стал часто употреблять эти слова, сопровождая их тяжкими вздохами, и обременяя Конфетку задачей восстановить его уверенность в себе.
— Ты действительно так думаешь? — спрашивает он в ответ на ее заверения, что звезда Рэкхэма все еще на подъеме. — Какая же ты оптимистка.
Конфетка понимает: надо быть благодарной за то, что он хоть не срывает на ней злость, но так велик соблазн огрызнуться! После того, что она сегодня вытерпела с Софи, у нее есть собственные обиды, она не в настроении изображать из себя ангела-утешителя. Когда же кто-нибудь ее заверит, что все будет хорошо?
«Я ношу твое дитя, Уильям, — хочется ей сказать. — Я уверена, что это мальчик. Наследник „Парфюмерного дела Рэкхэма“, которого ты так сильно желаешь. Никому не нужно знать, что это твой ребенок, кроме нас двоих. Ты можешь объявить, что взял меня в дом через „Общество спасения“, не зная о моей беременности. Ты можешь сказать, что я оказалась такой хорошей гувернанткой для Софи, что ты не в силах заставить себя осуждать грехи моей прежней жизни. Ты всегда говорил, что тебе наплевать на мнение других. А потом, когда пройдут годы, когда твой сын пойдет по твоим стопам и люди перестанут болтать, мы сможем пожениться. Это дар судьбы, разве ты не видишь?»
— Я думаю, лучше оставить все как есть, — советует Конфетка, возвращая себя к реальности — в духе коромысловых двигателей. — Чтобы компенсировать вложения, тебе понадобится десять лет хороших урожаев — и это при условии, что конкуренты не будут расширяться. Слишком большой риск.
Напоминание о конкурентах еще больше омрачает настроение Уильяма.
— Ох, Конфетка, оставят они меня позади — махать руками им вдогонку, — он даже показывает со своей оттоманки, как будет махать. — Двадцатый век принадлежит Пирсу и Ярдли, я всеми косточками чую.
Конфетка покусывает нижнюю губу, подавляя вздох раздражения. Если бы можно было усадить его за работу — рисовать австралийских кенгуру или решать простую задачку на сложение! Вознаградил бы он тогда ее широкой улыбкой?
— Давай пока позаботимся о том, что будет в нашем веке, Уильям, — предлагает она, — в конце концов, мы ведь в нем живем.
И, подчеркивая необходимость заняться письмами в порядке их поступления, она берет очередной конверт и читает вслух имя отправителя:
— Филип Бодли.
— Оставь это, — стонет Уильям, переходя почти в горизонтальное положение на оттоманке. — Это совершенно тебя не касается. Я имею в виду, не касается дел фирмы Рэкхэма.
— Надеюсь, ничего неприятного, — сочувственно бормочет она, стараясь голосом показать, что он может делиться с нею любыми секретами, а она его поддержит как самая лучшая жена на свете.
— Приятно или неприятно, тебя это не касается, — отмечает он — не сварливо, а с печальным смирением. — Ты помни, что у меня все же есть кое-какая жизнь за пределами этого стола, любовь моя.
Она принимает ласковое слово за чистую монету — во всяком случае, старается. Он же все-таки дает ей понять, как она незаменима в его работе… Верно? Она берет в руки следующий конверт.
— Финнеган и Кo. Тайнмаут. Он закрывает лицо руками.
— Выкладывай самое страшное.
Конфетка читает вслух, делая паузы, когда сердитое хмыканье или скептическое ворчание Уильяма мешают ему расслышать слова. Потом, пока он переваривает содержание письма, она молча сидит за столом, мелко дыша, ощущая зловещее давление на свой желудок и чувствуя, как к горлу поднимается уязвленная гордость.
— Софи была сегодня просто невозможна, — выпаливает она. Уильям, поглощенный вопросом, требующим Соломоновой мудрости: действительно ли разгрузка в Тайнмауте задерживается по вине лодырничающих докеров или это снова врет поставщик, непонимающе хлопает глазами.
— Софи? Невозможна?
Конфетка делает глубокий вдох, от которого швы платья врезаются в набухшую грудь и живот. Она мгновенно вспоминает возбуждение Софи после отцовского визита, ее самодовольную гордость фотографией, ее радостную болтливость и невнимательность, которые кончаются слезами, когда к концу занятий выясняется, что она не может правильно сложить числа и запомнить названия цветов, отсутствие аппетита за обедом и капризы от голода перед сном. Казалось, ее накачали некой чужеродной субстанцией, которую она не может переварить.
— Она уверяет, будто ты сказал, что в ближайшее время мы все снова отправляемся фотографироваться, — говорит Конфетка.
— Я… Я ничего подобного не говорил, — возражает Уильям, хмуро приходя к заключению, что жизнь — это просто трясина неверных толкований и предательств: даже собственная дочь, стоит только сделать ей приятное, тут же обрушивает неприятности на его голову!
— Она уверяет, что ты обещал.
— Ош-шибается.
Конфетка трет усталые глаза. Пальцы у нее такие шершавые, а веки такие нежные, что она боится повредить глаза.
— Я подумала, — говорит она, — что если ты собираешься уделять Софи больше внимания, то это, наверное, лучше делать в моем присутствии.
Он приподнимается на локте и зло смотрит на нее, будто не верит. Сначала Софи, а теперь Конфетка! Как же любят женщины осложнения и неудобства!
— Ты мне будешь указывать, — бросает он, — когда и в каких обстоятельствах я могу видеться с дочерью?
Конфетка смиренно наклоняет голову и старается говорить как можно мягче:
— О нет, Уильям, как ты мог подумать. Ты замечательно держишься, и я восхищаюсь тобой.
Но он все еще зол. Господи, что же ему сказать? Вообще держать язык за зубами или, может, из этого выйдет какая-то польза?
«Ах ты, Господи, целый словарь слов выучила, правда, милая?» — насмехается из прошлого миссис Кастауэй. — «А в этой жизни только два из них принесут тебе хоть какую-то пользу: „да“ и „деньги“».
Конфетка снова делает глубокий вдох.
— Ситуация с Агнес столько лет так осложняла твою жизнь, — соболезнует она, — и теперь тебе нелегко, я понимаю. И Софи — на самом деле, она так благодарна за любой интерес, который ты к ней проявляешь, да и я тоже. Я только думаю… если только это возможно для тебя… для нас…чуть-чуть почаще бывать вместе… Как… как семья. Так сказать.
Она сглатывает, боясь, что слишком далеко зашла. Но разве это не он захотел, чтобы они втроем сфотографировались вместе? К чему бы эта фотография, если не к этому?
— Я и так д-делаю все возможное, — предупреждает он, — чтобы это несчастное семейство продолжало функционировать.
Его жалость к себе подталкивает ответить целым залпом собственных сожалений, но она вовремя сдерживается. Он так сжимает кулаки, что косточки белеют, белеет и его лицо, напрасно она все это затеяла; их будущее может вот-вот разбиться вдребезги; хоть бы Бог помог ей найти нужные слова, и она больше никогда ни о чем не попросит. Шурша юбками, выскальзывает она из-за стола и опускается на колени рядом с ним, нежно накрыв его руку своей.
— О Уильям, пожалуйста, не называй это семейство несчастным. Ты добился великих успехов в этом году, блистательных успехов. — С колотящимся сердцем она обнимает его за шею, и, слава Богу, он не отталкивает ее.
— Конечно, то, что случилось с Агнес, это трагедия, — продолжает она, гладя его по плечу. — Но, по-своему, это было и милостью, разве не так? Все эти тревоги и… скандалы… столько лет, а теперь ты, наконец, освободился.
Он расслабляется, сначала одна рука, потом другая ложатся на ее талию. Чудом она спаслась, просто чудом!
— И у фирмы Рэкхэма такой замечательный год, — продолжает она, — Половина проблем, с которыми мы сталкиваемся, это проблемы роста, этого нельзя забывать. И у тебя счастливое семейство, честное слово, это так. Прислуга очень дружелюбна со мной. Судя по тому, что мне удается услышать, могу тебя уверить, она всем довольна, а тебя все в доме просто боготворят…
Он поднимает глаза — растерянный, несчастный, нуждающийся в поддержке, похожий на собаку, потерявшую хозяина. Она целует его в губы, гладит между ног, просовывает худую кисть к вялой выпуклости…
— Вспомни, что я тебе сказала при нашей первой встрече, любовь моя, — шепчет она, — я сделаю все, что ты захочешь. Все, что угодно.
Он мягко удерживает руку, которой она начинает подбирать юбки.
— Поздно, — вздыхает он. — Нам пора в постель.
Она хватает его за руку, направляя ее сквозь теплые слои одежды к своей обнаженной плоти.
— Именно об этом я и думаю.
Если он хоть на миг ощутит то, что между ее ног, она заполучит его. Он не сможет устоять перед женскими соками. Они для него — самый сильный стимул.
— Нет, я серьезно, — говорит он. — Посмотри на часы.
Конфетка послушно поворачивает голову и смотрит на часы, а он тем временем высвобождается из ее рук. Половина двенадцатого. У миссис Кастауэй половина двенадцатого — это разгар вечерней работы. Даже на Прайэри-Клоуз Уильям иногда приезжал к ней заполночь, внося в тихие комнаты жизнь и шум; врывался с улицы — плащ забрызган дождем, голос дрожит от желания. Так созвучны были они друг другу тогда, что по первому его объятию она знала, в какое из отверстий его потянет.
— Боже, как я устал, — тянет он, когда дедовские часы бьют половину. — С корреспонденцией на сегодня все, прошу тебя. Завтра снова на прорыв, да?
Конфетка целует его в лоб.
— Как скажешь, Уильям.
Наутро Конфетка поднимает Софи как обычно. Помогает ей одеться, завтракает с нею, усаживает за письменный стол в классной комнате. Но почти сразу после начала урока приступ тошноты заставляет гувернантку ринуться в дверь, жадно хватая воздух, пропитавшийся запахами переслащенной овсянки и хлорки. Она замирает на площадке; голова кружится так, что она не уверена, успеет ли добраться до спальни. Однако воздух здесь свежее, и позыв проходит.
Она балансирует на краю лестницы. Ступеньки неподвижны, хотя стены и потолок продолжают медленно кружиться. Оптическая иллюзия. Сегодня утром темновато, и следов крови Агнес совсем не видно. Сколько ступенек на этой лестнице? Много, много. Холл далеко-далеко внизу. Конфетка балансирует на краю. Руки, одна на другой, прижаты к выпуклости живота. Она заставляет себя отпустить живот. Дом делает вдох и выдох. Он хочет помочь ей, он знает ее беду, он знает, что для нее лучше. Она делает шаг вперед и замечает, что снова прижимает живот. Она широко расставляет руки, как крылья, кровь в висках бьется с такой силой, что газовый свет сочувственно пульсирует в такт. Закрыв глаза, она позволяет себе упасть.
— Мистер Рэкхэм! Мистер Рэкхэм! (Бум, бум, бум по двери кабинета). — Мистер Рэкхэм! Мистер Рэкхэм! (Бум, бум, бум!)
Уильям выскакивает из-за письменного стола, и так резко открывает дверь, что Летти чуть не наталкивается кулаком на его вздымающуюся грудь.
— Ой, мистер Рэкхэм! — неистово визжит она, — мисс Конфетт упала с лестницы!
Оттолкнув ее, он большими шагами перемахивает площадку и смотрит вниз, на длинную, длинную полосу ступенек под ковровой дорожкой. Тело Конфетки простерто далеко внизу; клубок черных юбок, белого нижнего белья, распустившихся рыжих волос и вывернутых наружу конечностей. Она недвижима, как кукла.
Придерживаясь рукой за перила, чтобы не свалиться самому, Уильям несется вниз, перепрыгивая через две и три ступеньки.
Через короткое время потеря сознания заканчивается для Конфетки легким похлопыванием по щеке. Она лежит на собственной кровати, над нею склонился Уильям. Последнее, что она помнит — полет сквозь пространство.
— Как я сюда попала?
Лицо у Уильяма встревоженное, но не сердитое. Конфетка улавливает неясный отсвет нежной заботы о ней — или напряжения.
— Мы с Розой принесли тебя, — говорит он.
Она оглядывается по сторонам, ища Розу, но ее нет. Конфетка наедине со своим любовником… или нанимателем… Кем бы он ни был ей теперь.
— Я оступилась, — оправдывается она.
— В этом доме все подвержены несчастным случаям, что тут сомневаться, — безрадостно шутит Уильям.
Конфетка хочет приподняться на локтях, но ее пронизывает острая боль — будто нож всадили в ребра. Она пробует приподнять голову, упираясь подбородком в грудную кость — и две вещи бросаются ей в глаза: растрепанные волосы без шпилек неопрятной массой свисают на плечи, юбки задрались, открывая нижнее белье.
— Прислуга… Меня видели такой неприбранной? — Уильям не может не рассмеяться.
— Странные в-вещи беспокоят тебя, Конфетка!
Она тоже смеется, и глаза наполняются слезами — какое это счастье, слышать, как он произносит ее имя. Она представляет себе, что должно было происходить чуть раньше — Уильям несет ее вверх по лестнице, но тут же напоминает себе, что нес он не в одиночку и что тащили ее наверняка неумело и некрасиво.
— Мне так стыдно, Уильям… я… оступилась…
— Доктор Керлью уже в пути.
Конфетка холодеет при мысли о том, что доктор Керлью, которого она знает только по дневникам Агнес, теперь торопится к ней. Она представляет себе, как он скользит по улице со сверхъестественной скоростью, глаза горят, как свечи, когтистые лапы замаскированы перчатками, черный чемоданчик кишит червями. Лишившись миссис Рэкхэм, намеченной добычи, он будет вынужден довольствоваться Конфеткой.
— А это нужно? — спрашивает Конфетка. — Смотри: со мною все в порядке.
Она поднимает руки, ноги, легонько двигает ими, задыхаясь от боли. Уильям пристально смотрит на это зрелище с жалостью и отвращением — как если бы она была гигантским тараканом или буйно помешанной.
— Не вставай с кровати, — приказывает он голосом, в котором звучит сталь.
Конфетка лежит и ждет, стараясь не делать глубоких вдохов, чтобы не так болело. Сильно она покалечила себя в этот миг безумия? Правая щиколотка одеревенела и болит, в ней отдается каждый удар сердца. Конфетке кажется, что у нее переломаны ребра, и острые обломки белой кости впиваются в мягкие красные оболочки внутренних органов. И ради чего? Знала ли она хоть одну женщину, которая бы выкинула, упав с лестницы? Еще одна выдумка, сказочка из тех, что проститутки рассказывают друг дружке. У Хэрриэт Пали был выкидыш после того как ее избили до полусмерти, но то другое дело: Уильям вряд ли станет бить ее и пинать в живот, ведь так? Хотя иногда у него в глазах мелькает что-то такое…
В дверь стучат, ручка поворачивается, и в спальню входит рослый мужчина.
— Мисс Конфетт, не так ли? — говорит он приветливым, деловитым тоном. — Я доктор Керлью, позвольте мне…
Торжественно держа чемоданчик перед собою, он делает шаг к ней — штиблеты на нем поношенные, но непохожие на раздвоенные копыта; глаза не горят, а борода тронута сединой. Он не только на дьявола не похож, но сильно похож на Эммелин Фокс; правда, его длинное лицо выглядит привлекательнее, чем длинное лицо дочери.
— Не помните ли вы, — почтительно начинает он, опускаясь на колени у Конфеткиной кровати, — с какой высоты вы упали, и на какую часть тела пришелся главный удар?
— Не помню, — говорит она, припоминая жуткий, смазанный миг, когда дух высвободился из тела, зависшего в воздухе, а безжизненное чучело из плоти и тряпья начало скатываться по ступенькам. — Все было так внезапно.
Доктор Керлью открывает чемоданчик и достает острый металлический инструмент, который оказывается крючком для застегивания.
— Позвольте, мисс, — говорит он. Она кивает.
Жесткими, но осторожными руками, доктор обследует пациентку, подчеркнуто не проявляя интереса ни к чему, кроме состояния костей под мясом. Он снимает или закатывает один слой одежды за другим, затем возвращает их на место, оставив открытой только правую ногу. Когда, стянув вниз ее панталоны, он кладет ладони на голый живот, Конфетка заливается багровой краской, но он всего лишь нажимает живот большими пальцами, удостоверяясь, что нигде не болит, обследует бедра, бесстрастным голосом прося ее сделать то или иное движение.
— Вам повезло, — заключает он, — нередки случаи, когда люди ломают себе руки или даже шеи, упав со стула. Вы упали с лестницы и отделались всего двумя треснутыми ребрами, которые со временем заживут, и несколькими ушибами, которых вы сейчас не замечаете, но скоро почувствуете. Помимо этого, у вас растяжение щиколотки, но перелома нет. К завтрашнему утру щиколотка распухнет до размеров моего кулака, — он показывает руку со свободно согнутыми пальцами, — и, полагаю, что тогда вы не сможете двигать ею, как двигаете сейчас. Пусть это вас не тревожит.
Он достает из чемоданчика большой бинт и срывает с него бумажную обертку.
— Этим бинтом я сейчас туго перевяжу вам щиколотку, — объясняет он, кладя ее ногу себе на колено и не обращая внимания на оханье. — Должен просить вас не снимать бинт, как бы вам ни хотелось этого. Повязка будет становиться все теснее по мере увеличения отека; вам даже может показаться, что бинт вот-вот лопнет. Заверяю вас, это невозможно.
Закончив перевязку, доктор Керлью стягивает к ногам Конфеткино платье — почти как саван.
— Не делайте глупостей, — говорит он, вставая, — старайтесь по возможности не покидать постель, и вы скоро поправитесь.
— Но… Но я должна выполнять свои обязанности, — слабо протестует Конфетка, приподнимаясь на локте.
Он смотрит на нее. В темных глазах искорка, будто есть у него подозрение, что все обязанности, для выполнения которых ее нанял Уильям Рэкхэм, могут выполняться в горизонтальном положении.
— Я договорюсь, — серьезно обещает он, — чтобы вас обеспечили костылем.
— Спасибо, большое спасибо.
— Совершенно не за что.
Защелкнув чемоданчик, человек, который в дневниках, спрятанных под ее кроватью, отождествляется с Демоном-Инквизитором, Владыкой Пиявок и Пользователем Червей, вежливо желает ей всего доброго и оставляет ее с миром, на миг задержавшись в дверях, чтобы погрозить пальцем «Помните: ведите себя осторожно».
В точном соответствии с предсказанием доктора Керлью, наутро после падения Конфетка просыпается с мучительным желанием снять повязку с ноги. Делает она это незамедлительно и чувствует себя гораздо лучше.
Однако в скором времени освобожденная нога распухает так, что делается вдвое толще здоровой. Конфетка не в силах даже опустить ее на пол, не говоря уже о том, чтобы ступить. Невозможно двигаться — ни хромая, ни прыгая на одной ноге; и не только потому, что это ужасно выглядит, но и потому, что невыносимо болят ребра. Чуть подвигавшись по комнате, Конфетка вынуждена признать, что в этом состоянии быть гувернанткой Софи она не может.
Страху не дает перейти в панику появление Розы с подарком от хозяина — с костылем соснового дерева, покрытым темным лаком. Был он у Уильяма раньше или куплен специально для нее, Конфетка не осмеливается спросить. Но теперь она ковыляет вперед и назад на трех ногах, поражаясь тому, как простой инструмент способен изменить мир, сделать светлой мрачную перспективу, превратить несчастье в простое неудобство. Палка с перекладиной — и она снова на ногах! Чудо. Вскоре после ленча, пропустив только полдня занятий с Софи, она выходит из комнаты с книгами подмышкой и с костылем под другой — готовая к исполнению обязанностей.
Она уже достаточно хорошо знает Софи, поэтому не удивляется, застав ее за письменным столом. Софи сидит терпеливо, будто прошло четыре минуты, а не четыре часа с тех пор, как Роза привела ее в классную комнату. Рука Розы сразу угадывается в том, как расчесаны и убраны волосы Софи — не так, как это делает Конфетка. С новой прической Софи больше походит на Агнес. На столе разложены единственные свидетельства ее утреннего ничегонеделания: рисунки лошадей; с полдюжины рисунков, где синие лошади, красные окна и серый дым. Софи накрывает их руками, будто ее поймали с поличным, будто вместо рисования ей следовало заниматься Мавританскими войнами.
— Извините, мисс.
— Вам не в чем извиняться, Софи, — разочарованно вздыхает Конфетка и переставляет костыль.
Глупо было надеяться, но ей бы хотелось быть встреченной вскриком облегчения и детскими поцелуями.
— Прошу вас, Софи, — говорит она, вздергивая плечо, — возьмите у меня книги. Боюсь, что могу в любую минуту выронить их.
Софи послушно спрыгивает со стула, ничем не показывая, что замечает беспомощность гувернантки. Она тянется к книгам у нее подмышкой, нечаянно задевая грудь Конфетки и скользнув рукой по соску. Конфетка восстанавливает равновесие, охнув от боли в ноге.
— Спасибо, — говорит она.
Софи возвращается на место и ждет указаний. Ее решимость делать вид, будто сегодня гувернантка выглядит как обычно, совершенно очевидна: когда Конфетка, покачнувшись на костыле, неловко опустилась на стул, Софи быстро отвела глаза от неэлегантного зрелища.
— Ради Бога, Софи, — не выдерживает Конфетка, — вам что, ничуть не хочется узнать, что со мной случилось?
— Да, мисс.
— Но если вам интересно, отчего вы не спросите? — Я…
Софи морщит лоб и опускает глаза. Как будто ее подловил хитрый оппонент, ради образования загнав в логическую ловушку.
— Роза сказала, что вы упали с лестницы, мисс, и что я не должна таращиться на вас…
Конфетка крепко закрывает глаза и пытается собраться с силами. «Прошу тебя, Софи, обними меня, — думает она. — Прошу тебя, Софи». Но говорит она совсем другое:
— Доктор сказал, что я скоро поправлюсь.
— Да, мисс.
Конфетка рассматривает рисунки на письменном столе Софи. Рядом с каждой символической лошадью нарисованы три человеческие фигуры: одна маленькая и две большие. Даже Конфетке, которая видит рисунки вверх ногами, ясно, что мужчина в темной одежде и цилиндре — это, конечно, Уильям, а девочка кукольного размера с недостаточным числом пальцев — Софи. Но кто женщина в этой триаде? На рисунке у нее лицо в форме сердечка и голубые глаза Агнес, но она высокого роста, почти как Уильям, и ее пышные волосы нарисованы красным карандашом. Конфетка взволнована, но тут же замечает, что на столе нет желтого карандаша, только красный, синий и серый. И кто знает, может быть, для нее все взрослые одного роста?
— Ну, хорошо, — произносит Конфетка, пожимая руками, — возьмемся за арифметику.
В этот день Уильям Рэкхэм сам отвечает на письма. Пишет с трудом; пальцы не слушаются, но он управляется. Положив искривленный безымянный палец на средний, он следит, чтобы кончик пальца не смазывал чернила, и, держа перо почти вертикально между большим и указательным, добивается приличной плавности.
«Я прочел Ваше письмо», — пишет он и думает: а теперь, черт побери, отвечаю…
Непосредственная связь между мозгом и пером восстановлена, хоть и довольно замысловатым образом.
Плевать на неудобства. Зато, какое счастье быть независимым и иметь возможность прямо разъяснить этому прохвосту Панки, что есть что, — без Конфеткиной редактуры, которая делает его слова беззубыми. Некоторые люди заслуживают того, чтобы им показали зубы! Особенно Гроувер Панки! Если «Парфюмерному делу Рэкхэма» суждено войти в следующий век и дальше, то сейчас руль должен быть в крепкой руке — руке, которая не приемлет таких штучек! Как он смеет, этот Панки, заявлять, что слоновая кость обязательно будет давать трещины, если обтачивать ее так тонко, как то необходимо для баночек Рэкхэма?
«Возможно, в последнее время Вы используете низкосортных слонов? — царапает он. — Баночки, которые Вы мне показывали в Ярмуте, были достаточно прочными. Предлагаю Вам вернуться к слонам той породы.
Ваш…»
Ладно, допустим, что ненадолго «ваш». Но на свете не один торговец слоновой костью, мистер Гроувер Ханки-Панки!
Уильям ставит подпись и хмурится. Подпись выглядит нехорошо; это детская имитация его прежней подписи, хуже даже самых сонных подделок Конфетки. Ну и что? До того, как он взял в свои руки «Парфюмерное дело Рэкхэма», он подписывался не так, как потом, а росчерк пера под письмами, которые он писал в школе, имеет мало общего с подписью на свидетельстве о браке. Жизнь идет. Перемены постоянны, как сказал сам премьер-министр.
Он запечатывает письмо. Хочется сразу отправить его, поспешить на Портобелло-роуд и бросить в первый же почтовый ящик, — на случай, если Конфетка неожиданно явится в кабинет. В любом случае ему полезно пройтись по свежему воздуху. После вчерашнего тарарама он не находит себе места, ищет повод выйти из этого мрачного дома, пройтись по людной улице, упругой походкой пройтись. Так что: остаться дома или выйти?
Он тянет время, и удовлетворение от взбучки, которую он задал Панки, улетучивается, как эссенция туберозы с носового платка. Начинаются размышления о долгом и тяжком пути, проделанном с той поры, как он взялся за это парфюмерное дело.
Опять возникает образ Уильяма Рэкхэма, писателя и критика, и становится жаль человека, которого не было, человека, чье перо внушало страх и восхищение, кто кончиком сигары предавал огню скучных поклонников. У того человека были прекрасной формы пальцы, длинные золотистые волосы, сияющая красотой жена и тонкое чутье не на резкий запах жасмина, а на великое искусство и на литературу будущего. И вместо всего этого, вот он — вдовец, заика, едва способный нацарапать свою подпись под письмами к торгашам, которых презирает. Отношения, так радовавшие его когда-то — с семьей, с друзьями, с единомышленниками, изменились до неузнаваемости. Так изменились, что не спасти? Если он не восполнит эти потери, пока еще есть возможность, то отношения былой близости прокиснут до отчуждения, а то и до враждебности.
Итак, он отбрасывает гордость. Покидает дом, вызывает Чизмана для поездки в город и отправляется прямиком в Торрингтон Мьюз, в Блумсбери, — в надежде застать дома мистера Филипа Бодли.
Пятью часами позже Уильям Рэкхэм — счастливый человек. Да, впервые после смерти Агнес (впрочем, почему же не признаться, что все началось гораздо раньше), он — действительно счастливый человек. За какие-то пять часов он переправился от бездны беспросветности на берег удовлетворенности.
Ранний вечер, он слегка пьян, бредет по узкой улочке в Сохо, а со всех сторон его осаждают бродячие торговцы, уличные мальчишки и шлюхи. Их хитрые, хищные, редкозубые лица и жестикулирующие руки должны бы насторожить его, напоминая, как недавно такие же мерзавцы избили его до полусмерти на темных улицах Фрома. Но нет, он не боится, что на него нападут, он бесстрашен, потому что с ним друзья. Да, не только Бодли, но и Эшвелл тоже! На самом деле, ничто, ничто на свете так не поддерживает, как общество тех, кого знаешь с мальчишеских лет.
— Мы создаем собственное издательство, Билл, — говорит Эшвелл, с любопытством поворачивая голову в сторону бродячего торговца, который напялил на себя двенадцать шляп и еще две вращает на пальцах. Бодли дурашливо тычет ручкой трости в одну из проституток, подающих им знаки из открытых дверей. Маленький полусонный мальчишка у тележки с никому не нужными кувшинами и горшками, которые ему велено продавать, отшатывается, боясь, как бы трость не угодила в его сопливый нос.
— Не смогли найти желающих напечатать нашу очередную книгу, — объясняет Бодли.