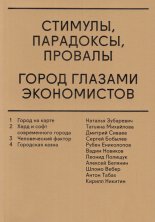Багровый лепесток и белый Фейбер Мишель

Софи послушно ускоряет шаг, хотя и сомневается, что сама мисс Конфетт способна двигаться быстрее. Туго набитые сумки на плечах трясутся и болтаются самым неэлегантным образом — от каждого шага мисс Конфетт; ее кулак дрожит на рукоятке трости.
— Бегите вперед, Софи, чтобы кондуктор понял, что мы хотим сесть! Софи уносится вперед. Через миг Конфетка спотыкается на выбитом булыжнике и едва не грохается оземь. Гладстоновская сумка хлопается на землю, по всей дорожке разбрасывая свое содержимое: дневники Агнес рассыпаются по сторонам. Страницы вздуваются, как выкипающее молоко, из них сыплются конфетти засушенных цветочных лепестков и пожелтевших молитвенных карточек. И роман Конфетки, выблеванный из картонной папки на всю улицу струей в три человеческих роста, а то и больше, несется по ветру — по ветру, который листает исписанные чернилами страницы с невероятной быстротой.
На секунду Конфетка вскидывает руки в сторону трепыхающейся неразберихи, потом разворачивается и ковыляет вдогонку за Софи.
Конфетка и Софи сидят в полном омнибусе; не разговаривают, только дышат. Конфетка старается хотя бы не ловить ртом воздух и не хрипеть. Она исподтишка промокает багровое, потное лицо белым шелковым платком. Пассажиры — обычное смешение бедно одетых старух, доброжелательных, учительского вида мужчин в цилиндрах, молодых модниц с породистыми собачками на руках, бородатых мастеровых, важных мамаш, обремененных соломенными корзинками, зонтиками, пышными шляпами, букетами, заснувшими детьми — ведут себя так, будто Конфетка и Софи не существуют, будто никто не существует, будто омнибус — это безлюдное транспортное средство, которое громыхает в сторону Лондона ради собственного удовольствия. Их глаза устремлены на газеты, на руки в перчатках, сложенные на коленях, или, уж если ничего другого нет, на рекламные объявления над головами пассажиров напротив.
Конфетка поднимает подбородок; она боится смотреть на Софи. Над пучком перьев, венчающим шляпу величественной дамы на рекламе, напечатанной в два цвета, парит лицо Уильяма Рэкхэма — между парой других плакатов, рекламирующих чай и леденцы от кашля.
Дождь начинает лупить по окнам, небо темнеет, как в сумерки. Конфетка отыскивает разрыв между двух голов и выглядывает в залитое дождем окно. По улице спешат сквозь серебристую полутьму потенциальные пассажиры.
— Уголлл Хай-стрит! — выкрикивает кондуктор, но никто не выходит. — Место для еще одного!
И помогает подняться вымокшему пилигриму.
На всем протяжении Бейсуотер-роуд Конфетка вглядывается в каждого прохожего, который, как ей кажется, намеревается сесть в омнибус. Слава Богу, ни одного полицейского. Но странно, почему она почти уверена, что узнает почти каждое лицо, какое попадается на глаза? Это не Эммелин Фокс поспешает под зонтиком? Нет, конечно, не она. А вот: этот мужчина — это, конечно, доктор Керлью? Опять нет. А эти двое гуляк, которые дурашливо хлопают друг друга по плечам — неужели это Эшли и Бодвелл, или как их там? Да нет, они гораздо моложе, они только что школу окончили! Но это кто? Конфеткины кулаки сжимаются от страха, когда она замечает, что сквозь дождь к ней бежит разъяренный человек; его растрепанные кудрявые волосы нелепо подпрыгивают на непокрытой голове. Да нет же, Уильям давно носит очень короткую стрижку, и этот человек перебегает на другую сторону улицы.
Еще дальше, между аллеями Гайд-парка для верховой езды и кладбищем Сент-Джордж, женщина торопится поймать омнибус, так плавно двигаясь по тротуару, будто тоже катится на колесах. Хотя зонтик скрывает ее голову, Конфетке она представляется воплощением Агнес. Она одета в розовое — возможно, в этом причина — в розовое, цвета гвоздичного крем-мыла Рэкхэма, хотя ливень разукрасил ее юбки темными струйками, сделав их похожими на полосатый леденец.
— Вы к нам, мэм? — кричит кондуктор, но предложение присоединиться к простому люду, по-видимому, оскорбляет деликатные чувства дамы, ибо она замедляет шаг, останавливается и, сделав пируэт, направляется в противоположную сторону.
— Где мы будем заниматься, мисс? — тихо спрашивает Софи.
— Я еще не решила, — говорит Конфетка.
Она все не отрывается от окна, боязливо избегая глядеть в лицо Софи.
У Мраморной Арки в омнибус заходит мужчина, промокший до нитки. Он усаживается между двумя дамами, страдая от того, что навязывает себя, промокшего, этим сухим персонам, сутулясь в тщетной попытке занять поменьше места рослым широкоплечим телом.
— Простите меня, — бормочет он; его красивое лицо пылает, как лампа. «Это Генри Рэкхэм», думает Конфетка.
Всю дорогу до центра мокрый пассажир сидит с каменным лицом, которое не перестает пылать, неловко оглаживая колени руками. К тому времени как омнибус подъезжает к Оксфорд-серкл, над его плечами повисает легчайшее облачко пара — и он не выдерживает. Пробормотав очередное извинение, он выбирается из омнибуса под дождь. Конфетка смотрит, как он исчезает в потопе, и, несмотря на собственную тревогу, от всей души желает ему поскорее добраться до места, которое ему нужно.
— Мы должны сойти здесь, Софи, — объявляет она через минуту и поднимается на ноги.
Ребенок следует ее примеру, по-взрослому подбирая юбки. Конфетка, хромая, выходит из омнибуса прямо в проливной дождь.
Это парк перед ними? Нет, не парк. Как только они ступили на землю, мисс Конфетт остановила кеб, что-то объяснила кучеру и поспешно усадила Софи в пропахший сигарным дымом экипаж. Кебмен, хотя и вымок до костей, общителен и весел. Он щелкает кнутом над мокрым крупом неторопливой лошадки:
— Ну, грымза, выбирай: на живодерню или на вокзал Кинг-кросс!
— Мы вернемся домой к ужину? — спрашивает Софи, когда кеб трогается с места.
— Вы проголодались, дорогая?
— Нет, мисс.
Чувствуя, что медлить больше нельзя, Конфетка позволяет себе на мгновение посмотреть в лицо Софи. Ее глаза широко раскрыты; она несколько сбита с толку, без сомнения, озабочена — но, насколько может судить Конфетка, не готова к побегу.
— Сейчас я дам вам вашу подзорную трубу, — говорит Конфетка.
Она поднимает кожаную сумку, стараясь держать ее подальше от глаз девочки. Для большей верности она еще и склоняется над сумкой — чтобы Софи не рассмотрела ее содержимое (учебник истории, атлас, чистое нижнее белье, обрамленная фотография мисс Софи Рэкхэм с подписью «Тови и Сколфилд», груда щеток и гребенок, цветные карандаши, «Алиса в Стране чудес», томик стихов Лира, скомканная шаль, большой плотный конверт, набитый рождественскими открытками, собственноручно изготовленными Софи, книга сказок с добрыми пожеланиями от «надоедливого дядюшки» и на самом дне — подзорная труба.
— Вот она, — Конфетка протягивает металлический цилиндр Софи, которая берет его без колебаний, но, не глядя, кладет на колени.
— Куда мы едем, мисс?
— В очень интересное место, я вас уверяю, — говорит Конфетка.
— Я вернусь домой вовремя, чтобы лечь в постель?
Конфетка одной рукой обвивает маленькое тельце:
— Нас ждет очень, очень долгое путешествие, Софи, — отвечает она и пьянеет от облегчения, когда Софи успокаивается, теснее прижимается к ней и кладет ручонку на Конфеткин живот. — Но когда оно закончится, я позабочусь, чтобы у тебя была постель. Самая теплая, чистая, мягкая, сухая и славная постель во всем мире.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ
Уильям Рэкхэм, глава «Парфюмерного дела Рэкхэма», пьяноватый от нескольких рюмок бренди, выпитых после ухода полиции, стоит в гостиной, смотрит на дождь и думает: сколько еще листков бумаги находятся неизвестно где — порхают в вечернем воздухе, прилипли к окнам соседей по Ноттинг-Хиллу или подобраны с живых изгородей и оград изумленными прохожими, которые теперь читают их.
— Вот все, что мы нашли, сэр, — говорит Летти, повышая голос, чтобы перекрыть завывание ветра и гул дождя.
Она добавляет пригоршню перепачканных страниц к мокрой груде на ковре в середине гостиной и разгибает спину; хотелось бы знать, хозяин действительно собирается высушить и прочитать все эти мокрые бумажки, или просто озабочен тем, чтобы не оставить мусор на соседних улицах.
Уильям машет рукой — жестом, одновременно выражающим сердитую благодарность и требующим, чтобы Летти ушла. Эти последние обрывки писанины, так мстительно раскиданные Конфеткой по ветру, ничего не добавят к тому, что он уже прочел.
Мелодичный шепоток извиняющегося женского голоса за дверью гостиной подсказывает, что Летти столкнулась, или почти столкнулась с Розой. Что за дом! Уйма женщин, которые носятся вверх и вниз, а обслуживать им больше некого, кроме Уильяма Рэкхэма, человека, в отчаянии кружащего над грудой измокших бумажек. Человека, который в течение одного года взял на себя массу труднейших обязательств, но потерял жену, брата, любовницу, а теперь, кажется, — дай Бог, чтобы это было не так — и свою единственную дочь. Неужели нет ничего более действенного в этих обстоятельствах, чем прочесывать улицы, отыскивая страницы из повести, в которой мужчин замучивают до смерти?
Может быть, он зря не показал полиции эту Конфеткину писанину, но ему показалось, что это пустая трата времени в ситуации, когда каждая минута дорога. Абсурдность самой мысли: полуграмотные полицейские сидят в его гостиной, хмурят лбы и сосредоточенно разбираются в горячечных выдумках психопатки — в то время, когда им надо быть на улицах Лондона и выслеживать ее во плоти!
Уильям плюхается в кресло; от его движения одна из замысловато вышитых Агнес тряпочек слетает с подлокотника. Он поднимает ее с пола и кладет обратно на кресло, бесполезную эту вещицу. Берет страницу, исписанную Конфеткой, ту, которую сразу прочитал, когда в дом принесли первую охапку страннейшего хлама. Тогда размокшая страница грозила расползтись в его руках, но потом подсохла в тепле гостиной и теперь потрескивает, как осенний лист.
«Все мужчины устроены одинаково, — гласят тонкие каракули, злобные даже на вид. — Если я и усвоила что-то за время, проведенное мной на нашей планете, так именно это. Все мужчины устроены одинаково.
Как я могу говорить об этом с такой убежденностью? Уж наверное я не успела узнать всех, какие есть на свете, мужчин? Напротив, дорогой читатель, вполне может статься, что и успела!»
Снова Уильям с отвращением поджимает губы при этом признании Конфеткиной распутности. Снова он хмурится при последующем обвинении, где он осуждается — как «Гнусный мужчина, вечный Адам». Однако, загипнотизированный порочным обаянием клеветы, читает дальше:
«Как самодоволен ты, читатель, если принадлежишь к тому полу, который хвастается тощеньким хрящиком в штанах! Ты воображаешь, что эта книга позабавит тебя, возбудит, спасет от кошмара скуки (самого страшного кошмара, который приходится на долю твоего привилегированного пола), и что, проглотив книгу, как конфету, ты сможешь без помех вести себя совершенно так же, как прежде. Совершенно так, как ты поступал, впервые предав Еву в райских кущах! Но это другая книга, дорогой Читатель. Эта книга — НОЖ. Только не теряйте присутствия духа, оно вам еще пригодится!»
О Боже, о Боже, как могла его дочь оказаться во власти такой ядовитой змеи? Мог он догадаться не сегодня, а раньше? Будь на его месте другой, спохватился бы он скорее? Сейчас так ясно, так ужасающе очевидно, что Конфетка сумасшедшая: ее неестественный интеллект, ее сексуальная распущенность, ее чисто мужской интерес к бизнесу, да и кожа у нее — как у рептилии… Господи, а как она ползала по-крабьи, догоняя его и прыская водой из манды! О чем он думал тогда, принимая ее штучки за возбуждающее дурачество, за эротическую забаву — в то время как любой дурак распознал бы в этом скотские проказы монстра?!
С другой стороны, как могло случиться, что Бог счел нужным поместить двух сумасшедших в его дом? Ведь другие мужчины вообще не знают этой беды… За какие грехи? Нет, такие вопросы — проявление жалости к себе, а проблем они не решают. Его дочь похитили, сейчас ее куда-то везут, скорее всего, ее ждет незавидная судьба. Если даже Софи удастся ускользнуть из рук похитительницы, как долго может уцелеть беззащитное, невинное дитя в гнусном лабиринте Лондона? Там же на каждом углу хищники. Недели не проходит, чтобы в «Таймс» не появилось сообщение о хорошо одетом ребенке, которого добрая дама заманила в темный переулок и там раздела — обобрала дочиста и бросила умирать. Хоть бы Конфетка потребовала выкуп за Софи; сколько бы она ни запросила — исключая сумму, полностью разоряющую его, — он с радостью заплатит!
Уильям закрывает глаза, прижимает большими пальцами. Как аляповатая картинка из волшебного фонаря, застряло в его мозгу воспоминание об искаженном горем лице плачущей дочери, когда она упрашивала его не отсылать мисс Конфетт. Ее ручонки (она не смеет вцепиться в него) трогают край письменного стола. Неужели это будет преследовать его до могилы? Фотография Софи, сделанная в студии Сколфилда и Тови, которую он хотел передать полиции для плаката «Разыскивается», так и не нашлась — ее, фотографию, явно украла Конфетка. Он был вынужден пройтись ножницами по «семейному» портрету и вырезать из него лицо Софи, хотя по собственному опыту фотографирования знал, что фото такого мелкого размера, увеличенное и отретушированное небрежными чужими руками, вряд ли сохранит большое сходство с дочерью…
Но опять же: это все второстепенные соображения, просто детали и мелочи, отвлекающие внимание от самого страшного в ситуации. Вчера его дочь была в безопасности; было известно, где она; вчера она неуверенно играла па рояле, делая первые, робкие шаги к тому, чтобы простить его и понять, что, в конечном счете, он больше всего заботится о ее благе; сегодня она исчезла — и у него голова гудит от воспоминаний об ее плаче.
Просто невероятно, с какой легкостью совершила Конфетка это преступление! Неужели действительно ей никто не препятствовал? Он допросил всех домочадцев; готов биться об заклад, что допросил их не менее тщательно, чем полиция. Служанки ничего не знают, ничего не видели, ничего не слышали, каждая клянется, что была занята своими делами и не могла заметить ничего подозрительного. Как им хватает смелости — наглости — утверждать это? В доме никого нет, в то же время он кишит прислугой — чем они занимаются целыми днями, если не бездельничают у кухонного огня — с дешевыми романчиками в руках? Не могла хоть одна из этой банды оторваться от своей якобы напряженной работы и проследить, чтобы последнюю женщину из семьи Рэкхэмов не похитила сумасшедшая?
Мужчины немногим лучше. Садовник подтвердил, что мисс Конфетт не выходила из ворот — премного благодарен, мистер Стриг, за столь важную информацию! Чизман сказал, что видел издалека, как мисс Конфетт и мисс Софи идут на прогулку, но не обратил особого внимания, поскольку они часто ходят гулять в это время. При этих словах Чизмана Уильяму мучительно захотелось отчитать его как следует за тупость, поскольку Чизману, черт его дери, очень хорошо известно, что собой представляет эта гувернантка. Но это и есть камень преткновения: Чизман слишком много знает. Чизман — единственный в Рэкхэмовом доме, кто давно знает, откуда, на самом деле, взялась Конфетка, а потому способен наделать Уильяму уйму неприятностей, — учитывая, что делом занимается полиция. Поэтому, вместо того, чтобы сказать ему, что любой человек, обладающий хоть каплей здравого смысла, задал бы Конфетке парочку острых вопросов, Уильям ограничился тем, что спросил, не заметил ли Чизман, как гувернантка была одета, был ли при ней багаж.
— Я не очень-то приметлив насчет одежек на женщинах, сэр, — ответил Чизман, скребя свой наждачный подбородок. — И багаж…Тоже вроде как ничего она не несла.
Обыск в Конфеткиной спальне подтвердил впечатление кучера: у двери был обнаружен битком набитый чемодан. Содержимое чемодана, которое взбешенный Уильям расшвырял по всему полу, состояло именно из вещей, необходимых женщине, покидающей дом: предметы ухода за собой, ночная сорочка, нижнее белье, туалетные принадлежности и косметика (Рэкхэма, разумеется), зеленое платье, которое было на Конфетке, когда она впервые с ним встретилась. И ничего, что подсказало бы, куда она могла уйти.
Рука Уильяма начинает дрожать; он слышит, как шуршит трепещущая бумага — первая страница Конфеткиной рукописи, все еще зажатая в его пальцах. Он отшвыривает ее и запрокидывает голову на спинку кресла. А вот и еще одно изделие Агнес — салфеточка для мебели, вышитая птичками и орнаментальными «Р» — в честь супруга, сваливается ему на плечо. Он раздраженно сбрасывает салфеточку; она падает на крышку рояля и, не удержавшись, соскальзывает с полированного дерева. Какой прелестный мотивчик только вчера издавал этот рояль, а теперь та, что сидела на этом табурете, оказалась всосанной в ужасный вакуум.
Он скрипит зубами, подавляя отчаяние. Конфетка и Софи где-то там. Если бы только ему было даровано — всего на часик — божественное всевидение, с той точки наблюдения, что находится на уровне городских крыш (но ниже облаков); и если бы Конфетка, того не ведая, несла на себе знак вины, отметину преступности, от которой светилась бы как маяк, он мог бы указать на нее с неба и крикнуть: «Вот она! Вот она идет!»
Но нет, это фантазии; мир устроен не так. Неустановленное число полицейских шатается по улицам, просматривая их не далее перекрестка, отвлекаясь на перебранки между разносчиками и на улепетывающих воришек, вполглаза высматривая даму с ребенком, которую, в отличие от сотен ни в чем не повинных респектабельных дам, гуляющих с детьми в столице, следует арестовать. Так что, это все, что они могут сделать, когда в опасности жизнь дочери Уильяма Рэкхэма?
Он вскакивает на ноги, затягивается сигаретой, вышагивает по комнате. Ярость и смятение усугубляются от понимания того, что он ничем не отличается от любого другого мужчины в подобной ситуации. Он ведет себя совершенно так же, как, наверное, ведут себя все: меряет шагами комнату, курит, ждет, что придут с новостью, которая вряд ли окажется хорошей, сожалеет, что выпил так много бренди.
От кучи мокрых бумаг на ковре начинает подниматься парок. Со стоном отвращения берет он страницу, лежащую сверху; убедившись, что почти все написанное смыто дождем, хватает другую.
«— Но я отец, — попадаются ему на глаза слова, — меня дома ожидают сын и дочь!
— Жаль, ты раньше не подумал об этом, — сказала я, разрезая его рубаху портновскими ножницами, острыми, как бритва. Я сосредоточилась на этой работе, двигая ножницами в разные стороны по его волосатому животу».
Желудок в волосатом животе Уильяма сжимается от ужаса, и дальше читать он уже не может. В его мозгу вспыхивает видение Конфетки, какой она была при их первой встрече, нежно улыбающаяся сторонница наикровавой мести.
— «Тит Андроник» — вот настоящая пьеса, — ворковала она за столиком в «Камельке», а он не сумел расслышать тревожный набат, думая, что она просто занимает его беседой. Плененный ее не по годам развитым интеллектом, он вообразил, будто видит в ней и другое — решил, что ее терзает одиночество, а она искренне жаждет доставлять удовольствие. Полностью ли он заблуждался? Дай Бог, чтобы хоть что-то из увиденного им в Конфетке было подлинным; дай Бог, чтобы была в ней склонность к добру, иначе Софи обречена…
Выпустив из рук страницу, Уильям смотрит на французские окна. Их стекла дребезжат от дождя. Струйка воды затекла через паз в комнату и дрожит на полу. Плотник торжественно поклялся, что такого больше не будет. Сказал, что окна теперь закрываются «плотно, как дамский медальон», черт его дери! Уильям сохранил карточку мерзавца; надо вызвать его и заставить привести в порядок окна.
— С вашего позволения, сэр, — говорит Летти, — внезапно отвлекая его от бессильного гнева. — Вы будете ужинать?
Ужинать? Ужинать? Неужели эта дура может подумать, будто он в состоянии ужинать в такой вечер? Он раскрывает рот, чтобы отругать ее, объяснить, что именно ее тупоумная неспособность уразуметь, что в мире существует кое-что помимо кекса с изюмом и какао, как раз и привела к этой беде. Но видит испуг на лице Летти, чувствует, как искренне, по-собачьи отчаянно, хочет она угодить ему. Бедная девушка: пусть глупа, но зато старается, а порочность таких, как Конфетка, — это не ее вина.
— Спасибо, Летти, — вздыхает он и растирает лицо руками, — Пожалуй, кофе. И хлеб с маслом. Или вот что: спаржа на тосте, если можно.
— Конечно, конечно, мистер Рэкхэм, — щебечет Летти, розовея от благодарности, что нашлось, наконец, дело, которое она в состоянии выполнить.
На другое утро Роза приносит Уильяму почту на серебряном подносе, и он просматривает конверты, ища требование выкупа. В деловой корреспонденции только три письма без обратного адреса на обороте конверта. Его сжигает нетерпение; сейчас не до изысков типа разрезального ножа, он разрывает конверты ногтями.
В одном содержится призыв от имени прокаженных Индии, которые, как пишет миссис Икклз из Пекхем-Рай, могут полностью вылечиться, если каждый бизнесмен в Британии, зарабатывающий свыше тысячи фунтов стерлингов в год, пожертвует лишь один из этих фунтов, отправив средства по нижеуказанному адресу на почтовый ящик. Второе письмо из большого магазина Уильяма Уитли на Бейсуотер; там выражается уверенность, что каждый обитатель Ноттинг-Хилла к настоящему времени уже осведомлен о том, что — в дополнение ко множеству различных отделов — теперь открылся и отдел скобяных товаров, а также о том, что дамы, посещающие магазин без сопровождения лиц мужского пола и желающие перекусить, могут, ничем не рискуя, побывать в заново отделанном буфете. Третье — от джентльмена, живущего в нескольких сотнях ярдов отсюда, в Пембридж-Виллас. В конверте грязный листок бумаги, украшенный эмблемами из шток-розы и элегантным грифом; его и не прочитать. На листке перечень, написанный каллиграфической псевдоготикой:
«Менуэт: 10
Гавот: 9 S
Качуча: 8 S
Мазурка: 10
Тарантелла: 10
Осанка во время исполнения/ухода: 10
Осанка во время перерыва: 9 S
Превосходно, Агнес!»
К этому джентльмен из Пембридж-Виллас добавляет на отдельном чистом листе:
«Моя супруга полагает, что это могло некогда принадлежать Вам».
Принеся вторую почту, Роза приходит в смятение: хозяин рыдает за письменным столом, закрывая лицо руками.
— Где она, Роза? — всхлипывает он. — Где она прячется?
Вопрос застает врасплох служанку, не привыкшую к таким интимностям.
— Не могла она уехать домой, сэр? — предполагает она, нервно двигая пальцами по пустому подносу.
— Домой? — откликается он, отводя руки от лица.
— К матери, сэр.
Он смотрит на нее, разинув рот.
Вспотевший и запыхавшийся Уильям Рэкхэм — он бегом бежал от того места, где бросил Чизмана с каретой, застрявшей на Риджент-стрит, — стучится в дверь дома на Силвер-стрит, дома, который никогда на самой Силвер-стрит и не находился, вопреки утверждениям «Нового лондонского жуира».
После долгой паузы, во время которой он старается отдышаться и унять сердцебиение, дверь чуточку приоткрывается. На него смотрит красивый карий глаз — длинная и узкая вертикальная виньетка, изготовленная из алебастрово-белой кожи, свежей белой сорочки и костюма кофейного цвета.
Вкрадчивый женский голос спрашивает:
— Вы договаривались о приходе?
— Я х-хотел бы видеть миссис Кастауэй.
Глаз прикрывается, демонстрируя роскошные ресницы.
— Увидитесь вы с ней или нет, — отвечает голос с медовой наглостью, — зависит от того, насколько плохим мальчиком Вы были.
— Что такое! — кричит Уильям. — Откройте дверь, мадам!
Странная женщина открывает дверь на длину стальной цепочки. Мужская стрижка, гладко прилизанные намасленные волосы, пиджак с брюками — элегантный как у любого франта — сорочка от Морнингтона с шейным платком заставляют Уильяма передернуться.
— Я х-хочу по-поговорить с миссис Кастауэй, — повторяет он.
— Вы отстали от жизни, сэр, — говорит лесбиянка; в щели мелькает мундштук, она делает затяжку, быструю как поцелуй. — Миссис Кастауэй умерла. Теперь здесь хозяйка мисс Дженнифер Пирс.
— С-собственно, я хотел с-справиться о Конфетке.
— Конфетки больше нет, нет и прочих прошлогодних девушек, — парирует женщина, выпуская дым из ноздрей. — Старое уходит, новое приходит; вот наша философия.
И действительно, часть интерьера, открытая глазу Рэкхэма, обновилась до неузнаваемости. Из двери гостиной выглядывает незнакомое лицо, за ним показывается и тело: изысканное видение в голубом с золотом алжирском костюме.
— Мне чрезвычайно в-важно найти Конфетку, — настаивает он. — Если вы хоть что-то знаете об ее местопребывании, очень прошу вас, скажите мне. Я заплачу, сколько попросите.
Хозяйка заведения неспешно приближается, лениво помахивая сложенным веером, как будто это кнут.
— Есть две вещи, которые я могу вам сообщить, сэр, — заявляет она, — и платить за них не нужно. Во-первых, девушка, которую Вы зовете Конфеткой, отказалась от веселой жизни — насколько нам известно: если хотите, можете поискать ее в приютах «Общества спасения». Во-вторых, по нашему мнению, ваше мыло и мази не улучшились от того, что на этикетках изображено ваше лицо. Дай нам, Господи, найти хоть что-то, на чем не видно мужских лиц. Закрой дверь, Амелия. — и дверь закрывается.
Возмущенный Уильям сначала хочет снова постучать, на этот раз с требованием сатисфакции под угрозой вызова полиции. Затем остерегает себя — мерзкие твари вполне могли сказать правду о Конфетке. В этом доме ее нет, тут все ясно, но если не здесь — то где? Мыслимо ли, чтобы Конфетка прибегла к содействию «Общества спасения»? А как еще объяснить любопытнейшее совпадение — Эммелин Фокс присылает Конфетке посылку всего несколько дней назад? Еще одно свидетельство холодного сговора между двумя трагически заблуждающимися женщинами? Полный решимости не давать гневу туманить его разум, уходит он от дома миссис Кастауэй обратно в толчею Силвер-стрит.
— Ваша миссус играет на пианино, сэр?
После изнурительной поездки в омнибусе лицом к лицу со слащаво улыбающейся гранд-дамой — над ее головой реклама капель «Рэкхэмовы капли „Роза Дамаска Рэкхэма“», над его головой реклама «Одеколон Риммеля» — Уильям выходит в Бейсуотере и шагает прямо к длинному ряду скромных домиков на Кэролайн-плейс. Там он собирается с силами для очередной схватки с натягивающимися путами трагедии.
Не дождавшись ответа на первый стук, Уильям стучит в дверь Эммелин Фокс громче и настойчивее. Окно закрыто шторой, но он уже заметил два венчика — две лампочки, которые светятся сквозь сборки выцветшего тюля. Кот Генри, разбуженный тарарамом, вспрыгнул на подоконник и теперь трется пушистой мордой о запаутиненное перекрестье оконной рамы. Кот, похоже, стал раза в два больше, чем был, когда миссис Фокс уносила его из дома Рэкхэмов.
— Кто там?
Сквозь деревянную преграду слышится голос миссис Фокс, похоже, что сонный, хотя сейчас два часа дня.
— Уильям Рэкхэм. Я могу поговорить с вами?
Пауза. Уильям, такой заметный на улице, корчится от неловкости; он прекрасно понимает, что его визит — визит мужчины к одинокой женщине — есть нарушение всех приличий, но как раз миссис Фокс и должна быть готова отойти от правил хорошего тона. Не так ли?
— Я не одета, — снова слышится ее голос.
Уильям в оцепенении уставился на бронзовый номер на двери. На углу собака весело тявкает на дворняжку, бегущую по другой стороне улицы. Мальчишка в одной рубахе бросает подозрительный взгляд на коренастого бородача с озлобленным лицом.
— Не могу ли я зайти к вам, — продолжает миссис Фокс, — немного позже? Или во второй половине дня?
— Дело не терпит отлагательства! — протестует Уильям.
Опять наступает пауза, во время которой кот поднимается на задние лапы и, опираясь о раму, вытягивается во всю длину, демонстрируя свою впечатляющую мощь и пару пушистых яичек.
— Подождите минутку, пожалуйста, — говорит миссис Фокс. Уильям ждет. Какого черта она там возится? Выпроваживает Конфетку и Софи через заднюю дверь? В шкаф их прячет? После того как он сделал над собой усилие и приехал сюда, подозрение, что миссис Фокс может знать, где находится Конфетка, разбухло до почти маниакальной убежденности в том, что она сама приютила беглянок.
Кажется, проходит век, прежде чем миссис Фокс открывает дверь. Он прошмыгивает в прихожую, не дав ей возможности воспротивиться.
— Чем я могy помочь вам, мистер Рэкхэм?
Он одним взглядом оценивает состояние ее жилища — запах затхлости, тонкий слой пыли, железный остов кровати, прислоненный к стене, горы книг на ступеньках, джутовый мешок с пометкой «ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ИРЛАНДИИ», преграждающий доступ к чулану для метел. Миссис Фокс снисходительно смотрит на него, лишь самую малость смущенная запущенностью дома, ожидая объяснения его неучтивости. Она одета в зимнее пальто по щиколотку с черным меховым воротником и манжетами, застегнутое до груди. Под пальто вместо блузки или лифа она надела мужскую рубашку, не слишком чистую и слишком большую для нее. Башмаки застегнуты лишь настолько, чтобы держаться на ногах, не сваливаясь с голых лодыжек, как черные банановые кожурки.
— Моя дочь похищена, — объявляет он. — Это сделала мисс Конфетт. — У миссис Фокс округляются глаза, но отнюдь не так, как они должны бы округлиться от такой ужасающей новости. Вообще она выглядит полусонной.
— Как это… странно, — выдыхает она.
— Странно! — повторяет он, сбитый с толку ее хладнокровием. Какого черта она не падает в обморок или не валится на колени, прижимая руки к груди, или не вскидывает хлипкий кулачок ко лбу с криком «Боже мой!»
— Она произвела на меня впечатление такой славной девушки, исполненной добрых побуждений.
Безмятежное добродушие миссис Фокс приводит его в бешенство:
— Вы обманулись. Она сумасшедшая, злобная сумасшедшая, и моя дочь оказалась в ее руках.
— Мне показалось, что они очень привязаны друг к другу…
— Миссис Фокс, я не хочу вступать с вами в спор. Я…
Он сглатывает, напряженно соображая, есть ли способ объявить о своем намерении так, чтобы не выглядеть совсем уж варваром.
— Миссис Фокс, я хочу удостовериться, что Конф… мисс Конфетт и моя дочь не находятся в вашем доме.
Эммелин разевает рот от изумления.
— Я не могу дать согласия на это, — бормочет она.
— Пpoшy прощения, — хрипло говорит он, — но я должен.
И быстро, чтобы ее негодующий взгляд не лишил его мужества, проходит на кухню, где с ходу наталкивается на гору составленных стульев Генри. Кухня, тесная сама по себе, беспорядочно загромождена парами всего: парой плит, парой посудных шкафов, парой ведер для льда, парой чайников — и так далее, и так далее. На лавке лежит хлеб, в который воткнут нож, и пятнадцать, двадцать жестянок с лососем и солониной. Лавка чисто вымыта, но на ней видны розовато-желтые следы крови. В кухне негде стоять, уже не говоря о том, чтобы здесь могла спрятаться высокая женщина и упитанный ребенок. Садик, хорошо видный через промытое дождем кухонное окно, зарос запущенной, несъедобной зеленью.
Уильям уже понял, что ошибается, но не в силах остановиться. Он выбирается из кухни и идет осматривать другие помещения. Кот следует за ним по пятам, возбужденный такой бурной физической активностью в доме, где жизнь обыкновенно идет в спокойном ритме. Уильям уворачивается от нагромождений пыльной мебели, изо всех сил стараясь не споткнуться о ящики, о груды книг, об аккуратно надписанные посылки, ждущие только почтовых марок, о бокастые мешки. Гостиная миссис Фокс свидетельствует о трудолюбии — дюжины конвертов, подготовленных к отправке, карта столицы, развернутая на письменном столе, многочисленные сосуды, содержащие клей, чернила, воду, чай и темно-коричневую субстанцию, покрытую молочным налетом.
Он с грохотом взбегает по лестнице, краснея от стыда не меньше, чем от усилия. Картонная коробка у двери в спальню усеяна кошачьим дерьмом. В спальне — неприбранная постель миссис Фокс, на которой валяется пара мужских брюк, облепленных кошачьей шерстью. На вешалке для шляп висит свежий, тщательно отутюженный комплект: корсаж, жакетка и платье в спокойных тонах, которые больше всего идут миссис Фокс.
Больше Уильяму было не выдержать; его фантазии — как он рывком открывает гардероб и с криком победного облегчения выволакивает на свет Божий Конфетку и свою перепуганную дочь — окончательно увяли. Он спускается на первый этаж, где в ожидании его возвращения стоит миссис Фокс; он читает упрек в ее глазах.
— Миссис Фокс, — говорит он, чувствуя себя грязнее содержимого картонной коробки на лестничной площадке. — Я… Я… Как мне… Это вторжение в вашу частную жизнь. Сможете ли Вы простить мне это…
Она скрещивает руки на груди и выставляет вперед подбородок.
— Не мне прощать вас, мистер Рэкхэм, — спокойно говорит она, будто просто напоминая ему, что христианская вера, которую они номинально совместно исповедуют, не католического толка.
— Я был… Я просто потерял голову, — умоляет Уильям, продвигаясь к выходной двери, боясь, как бы — вдобавок ко всему — не наступить на кота Генри, который крутится у него в ногах, покусывая за брюки.
— Неужели я ничего не могу сделать, чтобы искупить свое поведение, вернуть себе ваше уважение?
Миссис Фокс медленно опускает глаза, крепче сжимая руки на груди. Ее длинное лицо, с опозданием замечает Уильям, обладает странной красотой, и — Господи, да возможно ли это? Неужели это улыбка изгибает уголки ее губ?
— Благодарю вас, мистер Рэкхэм, — учтиво говорит она. — Я серьезно обдумаю ваше предложение. В конце концов, человек с вашими средствами идеально соответствует многим достойным задачам, в решении которых нуждается этот мир.
Она делает жест в сторону филантропического беспорядка своего жилья.
— Я взяла на себя больше дел, чем мне по силам — как Вы, без сомнения, заметили. Так что… Да, мистер Рэкхэм, я рассчитываю на ваше содействие в будущем.
И, последовательно неортодоксальная, она — не он — распахивает дверь и желает ему всего хорошего.
— Мяу! — соглашается и кот Генри, с наслаждением растягиваясь у ног хозяйки.
Истерзанный, Уильям возвращается к себе домой. Приходили из полиции? Нет, из полиции не приходили. Желает ли он, чтобы ему разогрели ленч? Нет, он не желает, чтобы разогрели ленч. Кофе, принесите кофе.
Каким бы невыносимым ни было напряжение, ему остается только выносить его и продолжать работать — как обычно. Пришла новая почта, но нет ничего по поводу Конфетки или его дочери. Письмо от Гроувера Панки, эсквайра — его называют грубияном, с ним все стараются порвать отношения. Уильям в таком смятении, что он подумывает, не вызвать ли Панки на дуэль: паршивый старый пес, вероятно, прекрасный стрелок — пыхнет из пистолета и сразу положит конец мучениям. Но нет, он должен владеть собой, надо вступить в переговоры с этим Чидлом из Гламоргана. Чидл производит баночки из слоновой кости, легкие, как морские раковины, но такие прочные, что они не ломаются, даже если сжать в кулаке. Уильям знает, он пробовал.
Открывает конверт с незнакомым именем и адресом: миссис Ф. Де Лусиньян, Фер-стрит 2, Сайденхем.
«Дорогой мистер Рэкхэм, — обращается к нему любезная дама. — Мои волосы поседели от бед и болезни, но один флакон вашего масла „Вороново крыло“ возвратил им великолепный черный цвет, сделал их такими же, как в дни моей молодости. Это отмечают все мои друзья. Вы можете поступить с этим письмом, как пожелаете».
Уильям глупо хлопает глазами, не зная смеяться ли ему — или рыдать. Это же из разряда тех пылких свидетельств, которые они с Конфеткой сочиняли для рэкхэмовской рекламы, и вот — пожалуйста: стопроцентно подлинное свидетельство. Миссис Ф. Де Лусиньян восхищается своими крашеными волосами, сидя перед зеркалом в Сайденхеме; Господь ее благослови! Она заслуживает целой коробки «Воронова крыла»; может быть, она как раз на это и рассчитывает.
Все остальные письма имеют чисто деловой характер, но он заставляет себя пережевывать их; каждое новое письмо все больше изнуряет его, будто он с огромным трудом проглатывает по ложке золы. Но тут, когда он пишет ответ мисс Бейнтон из отдела туалетных принадлежностей «Хэрродса», он внезапно догадывается, в ослепительной вспышке озарения, куда ушла Конфетка и где сейчас находится его дочь, с трепетом ожидающая решения своей судьбы.
К тому времени, как Уильям наконец добирается до дома миссис Лик на Черч-лейн, Сент-Джайлс, солнце уже клонится к закату, заливая неуместным золотым сиянием старые, разваливающиеся строения. Закрученные экзотические скелеты железных водосточных труб блестят, как чудовищные ожерелья; припарки из штукатурного гипса желтеют на стенах, как масло; бельевые веревки хлопают обтрепанной одеждой. Даже треснувшие чердачные оконца, вкривь и вкось расположившиеся под крышами, горят отраженным светом — светом, обреченным померкнуть в несколько минут.
Однако Уильям не склонен любоваться видом. Его безотлагательная задача — удостовериться в том, что адрес, по которому кебмену когда-то было поручено забрать старика в инвалидной коляске, чтобы затем везти на лавандовую плантацию Рэкхэма в Митчеме, есть тот самый адрес; и что здесь та самая дверь, по пузырчатой краске которой он сейчас колотит кулаком. По сути, ему только со слов Конфетки известно, что старик действительно жил здесь, а улица эта не из тех, где хорошо одетый человек может без риска задавать вопросы.
Проходит вечность, прежде чем дверь открывается, и там, щурясь в полумраке через мутное пенсне, сидит полковник Лик.
— Что-то забыли? — сипит он, приняв Уильяма за недавно ушедшего клиента, но потом узнает его. — О, да это Вы.
— Могу я войти? — спрашивает Уильям, озабоченный тем, что в эту минуту Конфетка, возможно, ведет Софи через грязные внутренности дома к задней двери.
— Ну, разумеется, разумеется, — с преувеличенным политесом отзывается старик. — За честь почтем. Такой высокий гость, как Вы, сэр. Мистер Сорок Акров! Замечательно, замечательно…
Он разворачивает свою коляску и едет по ковровой дорожке, чавкающей от сырости.
— 1813: у фермеров наилучшие виды на будущее! 1814, 1815, 1816: морозы, каких еще не бывало, погубили урожай от побережья до побережья, массовые банкротства! Адам Типтон из Южной Каролины, известный в 1863 году как хлопковый король! В 1864-м, после нашествия долгоносика, был найден с пулей в голове.
— Я пришел повидаться с Конфеткой, — выпаливает Уильям, следуя за ним.
Может быть, если без обиняков заявить о цели прихода, в виде жесткого требования, то удастся вытрясти из старого подлеца больше, чем он рассказал бы иначе.
— Она так больше и не приходила за мной, сучка, — насмешливо говорит полковник Лик. — Женщина обещает — это как афганец объявляет перемирие. Так я и не дождался нюхательного табаку, так и не побывал больше на вашей превосходной плантации, сэр.
— А мне показалось, что вам не понравилось там, — замечает Уильям, бросая взгляд наверх, на лестницу, прежде чем переступить порог гостиной. — Помнится, Вы жаловались, что вас… похитили.
— Ох, это была приятная смена обстановки, — блеет старик, не выказывая ни замешательства, ни склонности клюнуть на приманку.
Он устроился в уютном уголке гостиной, втиснув свою неопрятную тушу в комнату, и так загроможденную старомодным фарфором и военным хламом.
— Впервые в жизни видел лавандовую плантацию! Весьма поучительно.
Он обнажает в подхалимской улыбочке темные зубы жвачного животного.
По скрипучим ступенькам спустилась женщина — и теперь заглядывает в гостиную. Миловидное маленькое существо, не первой молодости, но хорошо сохранившееся. У нее веселое, добродушное лицо, стройная фигура, одета в цвета, модные два сезона назад.
— Не по мою ли душу, сэр? — спрашивает она у незнакомца, несколько удивленная тем, что клиент сам пришел, а не она пристала к нему на улице.
— Я Конфетку ищу, — говорит Уильям, — насколько мне известно, она регулярно бывает здесь.
Женщина печально пожимает плечами.
— Так то давненько было, сэр. Конфетка нашла себе богатенького, он теперь заботится о ней.
Уильям Рэкхэм распрямляется и сжимает кулаки.
— Она украла мою дочь.
Каролина задумывается. Может быть, «украла мою дочь» — одно из чудных выражений, которые употребляют образованные люди для обозначения более высоких вещей.
— Вашу дочь, сэр?
— Моя дочь похищена. Уведена вашей подругой Конфеткой.
— А известно ли вам, — вмешивается полковник Лик с мрачным энтузиазмом, — что из каждого десятка утопленников Англии и Уэльса, шестеро — это дети в возрасте десяти лет или моложе?
Каролина видит, как глаза хорошо одетого незнакомца расширяются от обиды — и в ту самую минуту, когда ей приходит в голову, что он удивительно похож на кого-то из знакомых ей людей, до нее доходит, что мужчина — это парфюмер Рэкхэм, брат того кроткого священника. Воспоминание об этом милом мужчине отзывается тайным ударом в низу живота — от неожиданности; воспоминания могут быть жестокими, когда они нежданные. Каролина вздрагивает, прижимает руку к груди, защищаясь от грозного взгляда мужчины, который стоит перед нею.
— Не делайте из меня дурака! — кричит Рэкхэм, — я вижу, что вам известно больше, чем Вы готовы признать!
— Пpoшy вас, сэр, — отворачивается женщина.
Безошибочно, будто с чана крышку сняли, чует Уильям крепкий дух секрета, который больше нельзя утаить. Наконец-то он на верном пути! Наконец-то дело движется к взрывной развязке, которой он так жаждал — разоблачение, разрядка напряжения, которая тряхнет Вселенную в яростной судороге, а потом все расставит по местам, восстановит нормальность! И он решительно отталкивает женщину, выходит из гостиной и топает вверх по лестнице.
— Эй, а семь пенсов! — кричит полковник Лик, протягивая руку вслед Уильяму.
— Осторожнее, сэр! — кричит Каролина, — там такие ступеньки есть… Но поздно.
Ночь опустилась на Сент-Джайлс, на Лондон, на изрядную часть мира. Фонарщики ходят по улицам, как католическое воинство, торжественно зажигая многочисленные благодарственные свечи в пятнадцать футов высотой. Магическое действо для всякого, кто наблюдает его сверху, но таковых, как это ни прискорбно, нет.
Да, ночь опустилась, и работают лишь те, на кого никто не обращает внимания. Оживают забегаловки, где подают похлебку из бычьих щек и картошки замученным продавцам дешевого платья. Кабаки, пивные, джин-бары гудят посетителями. Респектабельные торговцы закрывают свои лавки и магазины, запирают стойки, задвигают засовы, гасят лампы, обрекая нераспроданные товары лежать на полках целую тоскливую ночь — ночь самосозерцания. Более бедные и совсем убогие создания продолжают трудиться дома: клеят спичечные коробки, шьют штаны, делают оловянные игрушки при свечах, катают валиками соседское белье, сидят на корточках над тазами, забросив юбки на плечи. Пускай трудятся, пускай надрываются, пускай исчезают в безвестности, у вас нет времени на дальнейшее разглядывание…
Утонченное общество греется в тепле газа и парафина; слуги поддерживают огонь ради комфорта тех, кто проведет часы, остающиеся до сна, за вышиванием, обедом, приведением в порядок альбомов, писанием писем, чтением романов, комнатными играми, за молитвами. Формальные визиты дружеского характера закончились, когда пробил колокол; прерванные таким образом беседы, какими бы интересными они ни стали, не могут возобновиться до назначенного на завтра времени. Няни приводят хорошо воспитанных детей к матерям, чтобы их поласкали часок-другой — пока хороших детей снова не уведут наверх, к ожидающим их постелям. Холостые джентльмены, такие как Бодли и Эшвелл, ни в малейшей степени не расстроенные отсутствием жен, разворачивают салфетки на коленях в «Кафе Рояль» или попивают шерри, развалясь в креслах своих клубов. В самых знатных домах повара, горничные и лакеи собираются с силами для выполнения сложной задачи — доставить горячие блюда в столовую по длинным, насквозь продуваемым коридорам точно в нужный момент. В домах более скромных маленькие семьи приемлют то, что ставится на стол, и благодарят за это Бога.
На Черч-лейн, в Сент-Джайлсе, где не благодарят никаких богов и не купают никаких детей, где редко встречаются немногочисленные газовые фонари, Уильям Рэкхэм, которого ведут почти во тьме, хромает и оскальзывается на мокрой, грязной мостовой. Держась рукой за женское плечо, он на каждом шагу постанывает от боли и унижения. Одна штанина у него разорвана и пропитана кровью.
— Со мною все в порядке, — кричит он, пятясь от женщины и тут же опять хватаясь за нее, не в состоянии ступить больной ногой.
— Еще чуток, сэр, — задыхается Каролина, — уже почти пришли.
— Кликни мне кеб, — говорит Уильям, делая шаг вслепую, в тумане собственного выдоха, — мне нужен только кеб.
— Кебы сюды не ездят, сэр, еще чуток — и мы пришли.
Резкий порыв ветра с ледяной крупой обжигает щеки Уильяма. У него пульсирует в ушах, уши распухли, будто их надрал рассерженный родитель.
— Отпусти меня, — стонет он, сам держась за женщину.
— Вам доктора надо, сэр, — Каролина не обращает внимания на его раздражительность. — Вы пойдете к доктору, так ведь?
— Да, да, да, — стонет он, с трудом веря, что одна прогнившая ступенька могла довести его до такого состояния.
Впереди сияют огни Нью-Оксфорд-стрит. Приглушенные голоса кружат на ветру: усталое бормотание рабочих с пивоваренного завода, выходящих в ночь. Огородные пугала — их силуэты — мелькают в мороси, когда они пересекают границу между Блумсбери и районом, куда они направляются.