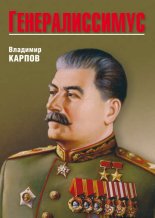Черчилль. Молодой титан Шелден Майкл

Все столики на веранде оказались заняты, за исключением немногих в отдельной зоне, зарезервированной для членов палаты лордов. Но Черчилль даже не обратил на это внимания. Он просто перешагнул невидимую линию, отделявшую две группы, и сел с журналистом за свободный столик. Объятые ужасом от столь грубого нарушения традиций, официанты отказались нести чай. Улыбнувшись, Черчилль перешел на другую сторону и кивнул: «Хорошо, несите чай сюда, а я потом сам переставлю чашки».
После этого никто уже не беспокоил Черчилля и его приятеля. Они обсуждали политические вопросы, но создавалось такое впечатление, что ему не дает покоя какая-то посторонняя мысль, связанная с тем, что происходило на веранде. «Будь моя воля, — сказал он, обводя взглядом столики с многочисленными гостями, которые смеялись и наслаждались своим чаем, — я покончил бы со всей этой чепухой. Палата общин — место для дел, а не для развлечений». Даже сидя на веранде, предназначенной для отдыха, он размышлял о возможных реформах. Перейдя в стан либералов, он думал только о том, как вырвать из рук тори руль управления государством, всматриваясь то в одно, то в другое, производил ревизию, прикидывая, что работает в этой огромной машине, а что нет и что надо отремонтировать, чтобы оно заработало лучше. Ушли те времена, когда он вместе с хулиганами иронизировал над стариками. Теперь он стал восходящей звездой в политике и готовил себя к тому моменту, когда в свете прожекторов, — а в том, что это случится, он не сомневался, — либералы придут к власти на волне неприятия протекционизма.
Карикатуристы уже уделяли ему внимание более, чем другим политикам, хотя слегка расплывчатые черты лица Уинстона не были удобной мишенью для рисовальщиков, которые могли бы зацепиться хоть за какую-то деталь. Из-за чего они лукаво предлагали вставить хотя бы моноколь в глаз, намекая на Чемберлена.
Растущее любопытство к политику достигло такой степени, что мадам Тюссо предложила Уинстону изготовить его восковую фигуру. Это вызвало некоторое возмущение среди критиков Уинстона, полагавших, что он еще не заслужил такой чести. «Он удостоился высочайшей награды», — отметил один автор сатирический статьи в еженедельном журнале. — Его борьба — после всеобщего осуждения — принесла свои плоды. Все обернулось таким образом, что Уинстон достиг не меньшей популярности, чем убийцы или карточные шулеры, миллионеры и коронованные особы. Все приходит к человеку, который умеет подать себя».
Однако не все считали, что его слава раздута и ни на чем не основана. Ветеран викторианской журналистики У.Т. Стед написал в июле: «Уинстон Черчилль находится в центре политической арены. Он наиболее приметный и заслуживающий внимания из всех подающих надежды государственных деятелей». А в августе один из журналистов выразил удовлетворение, что в партии либералов два мощных боксера, которые к тому же наделены бульдожьей хваткой, и теперь они уложат тори на обе лопатки.
Либералы были настолько довольны, что в их ряды влился новый член партии, что не особенно приглядывались к его политическим воззрениям. Является ли он истинным либералом или просто счел нужным покинуть тори из-за расхождений с ними — все, включая и самого Черчилля, откладывали уточнение этих важнейших пунктов до следующих — главных выборов. И чем дальше, тем больше авторитет Бальфура из-за его колебаний падал. Всем стало ясно, что пора создавать новое правительство.
Хотя премьер-министр делал вид, будто его совершенно не волнует то, что Черчилль перешел к либералам, он осознавал — молодой политик послужит плохим примером для остальных, и постоянно беспокоился, как бы не появились новые ренегаты. Несколько месяцев его терзало беспокойство по этому поводу и не без основания: какое-то число консерваторов действительно присоединились к Уинстону, перейдя в стан либералов. Но когда и Хью Сесил нежданно-негаданно заколебался, Бальфур написал встревоженное послание кузену, полное панической тревоги. Премьер-министр чуть ли не умолял его: «Останься в партии!!! Никогда даже не заикайся о том, что покинешь ряды тори».
Как потом выяснилось, Хью просто выпустил пар, когда Джо отпустил какое-то раздраженное замечание. Но Бальфур и в самом деле боялся пережить еще одну постыдную для него потерю. Хватало и одного Черчилля, переметнувшегося на другую сторону. Без сомнения, положение его стало угрожающим. В октябре, выступая перед жителями Уэльса, Уинстон объяснил, что является его конечной целью: «разворошить осиное гнездо, утратившее доверие страны».
В этой октябрьской поездке в Уэльс Черчилль выступал вместе с Ллойд-Джорджем, который объяснял, что новый друг «пробует свои силы в качестве либерала, это его первые шаги на этом поприще». И что же это означало на самом деле? Что Уинстон заполучил наставника по современному либерализму, а цели Ллойд-Джорджа были намного амбициознее, чем у старых викторианцев партии тори. Новое поколение либералов намеревалось использовать власть правительства для переустройства общества, сосредоточив основное внимание на беднейшей части населения, на больных и стариках. Пребывая в пеленках либерализма, Уинстон потихоньку избавлялся от своей привязанности к аристократам, переключая внимание на другие стороны жизни. А по ходу выяснил, чего на самом деле хочет Ллойд-Джордж — не просто добиться неких социальных преобразований, а настоящего переворота — свержения Чемберлена и консерваторов. Выступая перед жителями Уэльса, Черчилль сказал: «Мистер Ллойд-Джордж один из лучших боевых генералов в рядах либералов». Очень многие называли Черчилля его первым именем, но в политическом мире почему-то было не принято называть Ллойд-Джорджа Дэвидом, хотя когда они разговаривали друг с другом без посторонних, Уинстон обычно так и обращался к нему, поскольку их дружба становилась все крепче и глубже.
Планы на будущее — борьба против правления Бальфура — сформировали одно из самых странных содружеств в британской политической истории. До сих пор Уинстон мог похвастаться только одним настоящим другом в сфере политики — Линки Сесилом. И вот теперь у него появился еще один — Ллойд-Джордж, — полная противоположность Сесилу. Унаследованные особняки, связи в высшем обществе, годовой доход, знатный титул — все это было чуждо выходцу из Уэльса, который поднялся с самых низов и стал влиятельнейшей фигурой в либеральной партии. Точно так же как аскетизм был совершенно неприемлем для лорда Хью. Ллойд-Джордж был всего на двенадцать лет старше Черчилля, но в 1904 году он уже был шестнадцать лет как женат, стал отцом пятерых детей. Его мало заботили религиозные вопросы, ровно настолько, насколько это могло иметь отношение к политике. Он был чрезвычайно влюбчивым, и постоянно заводил тайные связи на стороне.
Лишенный лоска типичного эдвардианского джентльмена, Ллойд-Джордж становился удобной мишенью для ядовитых насмешек со стороны тори. На эту удочку попался в свое время и Черчилль, который заявил про Ллойд-Джорджа, что он «вульгарный, болтающий маленький нахал». Но через несколько лет, наблюдая, как тот выступает против Чемберлена, Уинстон перестал заботиться о том, можно ли называть этого борца за либеральные идеи истинным джентльменом или нет. Он с радостью обнаружил в нем те качества, которые пытался взрастить в хулиганах — бесстрашного бойца, который прокладывал путь вперед. Правда, Уинстон рассматривал их дружеские отношения опять сквозь романтическую призму, точно так же, как и в отношениях с лордом Сесилом. Он наивно полагал, что эта дружба пойдет в основном ему на пользу, и умелый борец не уложит в один прекрасный день его на обе лопатки. Но даже если бы он более трезво взглянул на их сотрудничество, то вряд ли бы смог догадаться, как поведет себя в дальнейшем Ллойд-Джордж, — ведь тот уже давно поставил себе за правило — сметать все, что стоит у него на пути вверх, в том числе и дружбу.
«Моя сверхзадача идти вперед, — признался он в чрезвычайно откровенном письме, адресованном жене Маргарет. — И для достижения цели я принесу в жертву все, кроме, как я верю, честности. Я готов швырнуть под колеса Джаггернаута [15] даже любовь, если она преградит мне дорогу».
Те давние друзья, кто знал Ллойд-Джорджа (еще с Уэльса) и восхищались им, не сомневались, что сотрудничество этих двух примечательных людей очень скоро выльется в открытое соперничество. Для одного из таких — хорошо знавших его — Д.Р. Дэниела, было совершенно очевидно, что Черчилль и Ллойд-Джордж вскоре «встретятся лицом к лицу на узкой тропинке, что ведет к вершине славы».
Но, видимо, Уинстон надеялся или убеждал себя, что когда такой момент наступит, победителем выйдет он. Но что произойдет, если они встретятся не лицом к лицу? В таком случае лучше не рисковать и не поворачиваться к Ллойд-Джорджу спиной.
Одно свойство характера их объединяло несомненно. Хотя Ллойд-Джордж никогда не служил в армии и никогда не принимал участия в реальных боях, на полях политических сражений он выказывал себя смелым бойцом. И не только Уинстон воспринимал его как отважного генерала, готового пойти на приступ политической цитадели. Ллойд-Джордж и в самом деле рассматривал оппонентов как солдат, которых надо сбивать с ног, чтобы они не поднялись снова, — безжалостным огнем. И его отличие от Черчилля заключалось только в том, что он был более холодным и более беспощадным в своих преставлениях о том, как вести сражение на воображаемом поле битвы.
«Я припоминаю, — признался он как-то во время встречи в Кардиффе, — что ответил американский солдат на вопрос: «Когда вы смотрите в прицел винтовки на человека по ту сторону, ненавидите ли вы его?..» «Нет, — ответил американец. — Я не стреляю в кого-то конкретного. Я просто стреляю по линии битвы». Именно это я делаю в течение всей моей жизни».
Следующие свои выборы Черчилль должен был проводить в совершенно другом избирательном округе. Но выборное место — среди либералов в Олдеме уже было занято. И он принял предложение выступить от округа недалеко от Манчестера.
Уинстон сознавал, что ему придется приложить вдвое больше усилий, чем он делал раньше, из-за того, что оказался в новом лагере. Это требовало немалых наличных денег, а он уже успел истратить те, что заработал три года назад. И теперь он полагался только на то, что лорд Рэндольф пополнит его банковский счет. Напряженная политическая деятельность в последний год отвлекла Уинстона от работы над книгой. И требовался, по меньшей мере, еще год, чтобы завершить ее.
Он жил, не отказывая себе ни в чем, и легко тратил деньги. Во время поездок по стране он останавливался в лучших гостиницах, заказывал все самое лучшее — устрицы и шампанское. Часто играл в поло, несмотря на всю дороговизну увлечения, объясняя это тем, что физические упражнения хороши для поддержания общего тонуса.
До того, как Этель Бэрримор без всякого предупреждения покинула Лондон, он планировал еще одну поездку в Америку. После того, как закончатся ее выступления, Уинстон собирался в июне отправиться следом за ней в Нью-Йорк. 31 мая, в тот самый день, когда он впервые сел на одной скамье с либералами, Уинстон принял приглашение побывать на съезде Демократический национальный партии (который должен был состояться в июле) как гость давнего друга его матери — нью-йоркского конгрессмена У. Бурк-Кокрэна.
Вполне возможно, что ему бы удалось объединить и деловую часть с приятным, изучить поближе американскую политическую систему, одновременно продолжив ухаживания за Этель. А еще у него была бы возможность, познакомившись поближе с Кокрейном, — человеком, которым он восхищался, — сторонником свободной торговли, получить от него дельные советы, выработать более точную линию поведения.
Но в середине июня, через неделю после отъезда Этель, Уинстон написал Кокрэну, что не сможет приехать. Решение оказалось внезапным, и он объяснял его тем, что вынужден сражаться с «Чемберленом и его братией». Но скорее всего в конце мая и середине июня к нему пришло осознание, что сейчас не самое лучшее время тратить деньги, преследуя Этель. Особенно после того, как та вздумала отправиться в Сан-Франциско.
Уинстон поступил намного благоразумнее: принял предложение необыкновенно щедрого друга сэра Эрнста Касселя провести время в швейцарской части Альп — на роскошной вилле, расположенной высоко в горах.
Он там прожил большую часть августа. Утро Уинстон отводил работе над книгой — биографией отца, после обеда много гулял, а по вечерам читал или играл в бридж.
С погодой очень повезло, на ночь он распахивал окна и спал глубоким сном. Еду готовил повар-француз, и Уинстону она нравилась. Так что он с большой пользой отдохнул, вместо того, чтобы следовать за Этель по Америке. Кассель — весьма проницательный человек — никогда не сомневался, что Уинстон — с его талантами и волей — непременно достигнет успеха в британской политике. Как человек предусмотрительный, Кассель поддерживал теплые приятельские отношения со многими людьми из высших эшелонов власти и — пример тому Уинстон, — с теми, кто еще только должен выйти в те слои.
Их тесные дружеские отношения основывались не на деньгах и влиянии. Они по-настоящему ценили друг друга и получали огромное удовольствие от общения. После смерти Касселя в 1921 году Уинстон сказал внучке банкира — Эдвине, леди Маунтбэттен: «Я знаю, что он тепло относился ко мне и всегда верил в меня, в особенности в плохие времена. И я был глубоко привязан к нему».
За время отдыха Уинстон значительно продвинулся в работе над книгой еще и потому, что вдруг вновь почувствовал прилив уверенности в себе. Такой необыкновенной уверенности, что, вернувшись домой, решился на такой дерзновенный поступок, который был неожиданным даже для него. 22 сентября он приехал к Джо Чемберлену в его бирмингемский особняк и остался там ночевать. Позже Черчилль сам не мог объяснить, как смог отважиться на такой шаг, и признался друзьям только после того, как попросил их хранить случившееся в полной тайне.
Поводом для встречи послужило то, что Черчилль хотел пополнить сведения о лорде Рэндольфе. Уинстон отважился попросить Джо черкнуть несколько слов для книги. Джо поступил еще смелее — он пригласил его в Хайбери с тем, чтобы тот мог остановиться на ночь.
Не часто столь непримиримые противники способны встретиться, особенно после того, как успели попортить друг другу немало крови на полях политических схваток. Но они решили не упустить возможности сесть друг против друга и поговорить перед тем, как начнется окончательная битва. Несмотря на взаимные обвинения, что были ими брошены в лицо во время споров, они все еще сохраняли уважение друг к другу.
Как и в прежние времена, Джо достал дорогой портвейн, и они допоздна говорили о прошлом, почти не касаясь будущего. Они разговаривали так, словно между ними ничего не произошло за прошедшие годы. И все оставалось точно таким, как было, — просторный особняк с прилегающими к нему теплицами, где цвели драгоценные орхидеи, и снова молодой человек внимательно прислушивался к тому, что говорит его умудренный жизнью собеседник. Джо делился воспоминаниями о прошлом с жесткой улыбкой и суховатым смехом.
Не без внутреннего сопротивления Джо вынужден был признать, что Уинстон поступил правильно, перейдя к либералам, но предупредил, что консерваторы никогда ему этого не простят. И ему еще придется долгое время выслушивать оскорбления в свой адрес. Почти двадцать лет назад Джо тоже перешел из одной партии в другую, и знал всю тяжесть бремени ярлыка «хамелеон». Зато он получил бесценный урок и надеялся, что суровые испытания тоже помогут Уинстсону закалить характер. «Такие перипетии для уверенного в себе человека, — говорил он мягким голосом, — только укрепляют его волю, помогают действовать более решительно».
Они распростились на другой день в самых теплых выражениях, но оба знали, что через год только один из них выйдет победителем. Джо намекнул на то, что правительство рано или поздно падет. Пожелав Черчиллю успешного завершения работы над книгой о лорде Рэндольфе, он выразил надежду, что книга появится до того, как сменятся все главные политики в стране. «Публика не выдержит сразу две сенсации в одно и то же время», — пошутил он.
Несмотря на шутки и спокойную вежливость, с которой Джо распрощался с ним, Уинстон вдруг остро ощутил всю ранимость своего противника. Позже он сумеет оформить ощущения, связанные с последними днями Джо и Бальфура — «они перерезали себе горло и оставили партию в полном хаосе». Он пребывал в полной уверенности, что либералы победят на следующих выборах. И не просто победят, а выиграют с сокрушительным отрывом. Такое впечатление, будто встреча, организованная Джо, — стала его жестом, как если бы он снял шляпу перед молодым политиком до того, как тот выиграл.
Итак, беспокойная весна прошла и закончилось лето, полное тяжелого труда. Теперь Черчилль надеялся вкусить плоды — заработать деньги, снова пережить очередной виток славы, — после публикации биографии, а еще он верил, что получит место в новом правительстве после падения Чемберлена.
Конечно, для полноты ощущений не хватало определенности на семейном фронте. Дело уже шло к тридцати, а он все еще искал спутницу жизни. Газетчики даже начали гадать, жениться ли он вообще когда-нибудь и осядет на месте или же останется «убежденным холостяком», как высказался один из светских журналов в конце года. Но Уинстону меньше всего хотелось оставаться холостяком. Два отвергнутых предложения руки и сердца наводили на некоторые сомнения, однако он не принадлежал к той породе людей, что способны махнуть на что-то рукой и отступиться.
Вполне возможно, что Уинстон сохранил оптимистический настрой по той причине, что не считал потери незаменимыми. И в самом деле, вскоре его взгляд остановился на другой женщине — намного богаче его — Мюриэл Уилсон. Они были уже давно знакомы, одного возраста и с симпатией относились друг к другу. Сплетники даже приписывали им романтические отношения, когда они были моложе, что больше похоже на обычные сплетни. Все эти годы Мюриэль в очень мягкой манере отказывалась видеть в нем серьезного претендента на роль супруга. Ее внимание привлекали мужчины совсем другого типа. Но со всеми она рассталась, разочарованная ими. За последние десять лет несколько женихов — привлекательных, из самых влиятельных семей королевства попытались завоевать ее сердце и потерпели неудачу. И вот теперь, когда ей тоже вот-вот должно было исполниться тридцать, Уинстон вновь воспылал надеждой, что она согласится разделить с ним будущее.
А Мюриэль ценила свободу и не собиралась совершать необдуманного поступка. Она жила как принцесса, не испытывая ни малейшего недостатка в деньгах. Ее отец, Артур Уилсон, владел крупнейшей в мире частной пароходной компанией — его флот состоял почти из ста кораблей. В 1909 году — когда он умер, — это был один богатейших людей Британии. Состояние Уилсона приближалось к четырем миллионам фунтов (совершенно умопомрачительная по тем временам сумма, учитывая, что премьер-министр получал только 5000 фунтов в год). Особняк, которым владела семья, располагался недалеко от Букингемского дворца. На юге Франции у них имелась просторная вилла, а в Йоркшире — загородный дом Трэнби Крофт (в этом здании в 1890 году произошел из ряда вон выходящий случай, когда один из гостей смухлевал в карточной игре с принцем Уэльским).
Не только семейные богатства привлекали Уинстона к Мюриэль. Она была удивительно миловидной. Брат Этель Барримор — Лайонел, заявил, что Мюриэль — одна из красивейших женщин, которых он когда-либо встречал в своей жизни. В двадцать лет американские газетчики назвали ее «самой красивой девушкой Великобритании».
Чем-то она напоминала молодую Дженни Черчилль — смуглостью, мягким деликатно очерченным ртом, огромными глазами, и пышной копной густых волнистых волос. Ее платья становились легендарными. Они были сшиты из лучших тканей, и покрой их всегда подчеркивал тонкую талию ее гибкой фигуры. «Необычайно привлекательная, — отозвался «Лондон джорнал», — она не способна пройти незамеченной».
Мюриэл свободно говорила по-французски, обладала тонким чувством юмора, умела нравиться не только мужчинам, но и женщинам. Вообще все, за что бы она ни бралась, Мюриэль делала хорошо: «каталась на коньках, ездила на велосипеде и превосходно танцевала», — восторгался один из светских журналов. Она даже добилась успеха как актриса, регулярно выступая на сцене любительских театров. Ее не интересовал заработок, Мюриэль выступала исключительно для друзей во время отдыха за городом, на лондонских подмостках или на благотворительных вечерах. Костюмы, сшитые для пышных исторических представлений, становилось незабываемым событием, в особенности, когда Мюриэль, облаченная в эти наряды, выходила на сцену, словно олицетворение эпической богини. В тончайшей белой мантии она появлялась как символ «Мира», а в тяжелом вагнеровском облачении как символ «Войны». Наибольшее впечатление она произвела на Уинстона в роли «Музы Истории», когда в очередном волшебном одеянии, размахивая мечом, возводила очи к небесам. Ее фотографии в этом наряде перепечатали в эдвардианском светском журнале, где ее называли «одной из лучших исполнительниц среди любителей».
Так неужели Черчилль упустил бы такую возможность, как поухаживать за «Музой истории»? Когда Мюриэль подарила ему одну из своих фотографий с этим аллегорическим изображением, он прижал ее к сердцу и поклялся всегда носить при себе. Так или иначе, осенью 1904 года Мюриэль давала немало поводов возбудить в нем надежду, что его предложение будет принято. Он поверил, что их долгие дружеские отношения уже созрели для того, чтобы перейти на другой, более серьезный уровень. Но он неправильно истолковал сигналы. Когда он задал самый важный вопрос, она отказала так решительно, что Черчилль ушел совершенно потрясенный.
В письме, написанном в состоянии отчаяния, он умолял ее переменить решение и убеждал, что будет ждать, когда она будет готова к этому. «Наверное, я должен доказать свои чувства, выдержав ожидание, — писал он. — Неужели я вам совершенно безразличен?» Пытаясь найти какие-то веские слова, чтобы убедить молодую женщину, Уинстон высказал предположение и предсказание одновременно. Если она предоставит возможность доказать, что он достоин ее выбора, то она не разочаруется. Не важно, сколько времени на это потребуется, но он заставит ее гордиться выбором. А затем шло предсказание. «Время и обстоятельства, — писал он, — работают на меня». А затем признавался, как любит ее и что ему невыносима мысль о будущем, где не будет Мюриэль.
Похоже, письмо тронуло ее, но не настолько, чтобы она передумала. До конца 1904 года и почти до конца следующего года он продолжал писать ей. Они встречались. Он читал наизусть стихи, советовал, чтобы прояснить их взаимоотношения, прочитать лирическое стихотворение Роберта Бернса «Мэри Морисон», где звучал вопрос: «Могу ли я разбить его сердце только потому, что он влюблен?». Он восхвалял каждый волосок ее прически, уверял, что будет счастлив только с ней, и что она навсегда пленила его сердце. Мюриэль позволяла ему танцевать с ней или сопровождать во время долгих прогулок на закате. «Как бы мне отыскать «ключ» к вашему сердцу, — повторял он. — Увы, вы остаетесь столь же недоступной, как покрытая снегами вершина, и такая же холодная».
С другими она не держалась столь холодно, а Уинстон не понимал, как Мюриэль может проводить столько времени в окружении его соперников — ни один из них не заслуживал внимания настолько, насколько его заслуживал он. Все дело заключалось в том, что Мюриэль еще была не готова выйти замуж. Она была далека от мысли устроить, наконец, более основательно личную жизнь. И она действительно отдавала предпочтение компании плейбоев, вроде Луиша де Соверала — посланника Португалии, одного из ближайших друзей короля Эдуарда.
В светских кругах о нем утвердилась молва как о «величайшем ловеласе» того времени. Он получил прозвище «голубая мартышка» из-за какой-то случившейся давным-давно истории в одном из дамских будуаров.
Через десятки лет после смерти среди его бумаг, вместе с любовными письмами многих эдвардианских красавиц, нашлась и кокетливая записка от Мюриэль, в которой она дерзко предлагала ему провести ночь в лондонском особняке. «Не настолько же Вы заняты, — чтобы не позавтракать со мной завтра? — писала она. — Я совсем одна, и компанию мне составляют только дворецкий и попугай». Это было ее собственное легкомысленное желание провести вечер в обществе Соверала, не слишком щепетильного в вопросах морали. Посланник вызывал отвращение у Черчилля.
Из числа ее сохранившихся записок осталась одна, где Мюриэль отказывалась встретиться с Уинстоном за ланчем, потому что «терпеть их не может». Черчиллю трудно было сносить подобного рода резкие отказы. Нежелание устроить личную жизнь и выйти замуж, считал он, «вызывает сожаление, как рассыпавшийся жемчуг». Но Мюриэль доставляло большее удовольствие играть чувствами Уинстона до тех пор, пока он будет терпеть это.
Молодой женщине не хотелось терять страстного поклонника, поскольку он завораживал ее. Просто у нее не было желания вести с ним совместную жизнь. Политика ее совершенно не привлекала, и она не хотела задерживаться в Лондоне, если ей вдруг очень хотелось провести несколько недель на солнечной вилле Мэриленд — семейном доме на Лазурном Берегу в местечке Кап Ферра.
А он не находил в себе сил отказаться от нее, и в течение нескольких лет продолжал настаивать на том, чтобы перевести отношения на другой уровень. Это упорное ухаживание послужило поводом для многочисленных сплетен в Лондоне и даже в Америке. Кто-то считал, что его привлекает к ней только богатство. «Уинстону надо жениться на деньгах», — написал один анонимный «друг» в светском журнале. Однако не стоит забывать о том, что Уинстон влюбился в нее после долгих лет дружбы, а не вдруг, обнаружив, что она страшно богата.
Он очень много работал, зарабатывая деньги пером, и всегда стремился обеспечить сам себя. Он был бы счастлив жениться на Этель, хотя актриса жила только на гонорары от выступления на сцене — от одного сезона до другого — и назвать ее обеспеченной было нельзя.
В Мюриэль он обнаружил те же самые качества характера, что восхищали его в Этель Барримор. Его привлекала романтическая сторона — она принадлежала к театральному миру, была окружена славой, с ореолом тайны и недоступности. Многие газетчики предсказывали, что Уинстон, в конце концов, добьется своего, и Мюриэль все-таки выйдет за него замуж.
В одной американской газете пошутили над тем, что у Черчилля три всепоглощающие грандиозные цели: добиться успеха с биографией лорда Рэндольфа, жениться на Мюриэль Уилсон и «отрастить усы». Но, как считал репортер, третья цель, пожалуй, самая недостижимая.
IX. Счастливый сын
Черчиллю представлялось, что он очень умело ухаживает за женщинами. За то время, что он так безуспешно добивался руки Мюриэль, он написал новеллу, которая заканчивалась свадьбой героев. Мужчина — привлекательный двадцатилетний аристократ, а женщина — девятнадцатилетняя красавица. Они встречаются на балу в старом курортном городке и безумно влюбляются друг в друга в течение трех дней.
Черчилль писал: «Эта ночь — третья после их первой встречи — была прекрасной, теплой и спокойной, огни на яхтах отражались в воде, а в небе сверкали яркие звезды. После ужина они остались одни в саду, и, несмотря на то, что познакомились все три дня назад, мужчина сделал ей предложение. Она согласилась выйти за него замуж».
В выдуманной истории все происходило легко — само собой. Но это была не выдумка, хотя и выглядела таковой. На самом деле Уинстон описал ту ночь, когда его родители поженились. Об этом ему рассказала мать — Дженни — и он облек историю в романтические одежды. Он чуть-чуть приукрасил события прошлых дней, чтобы утешить себя. Если лорд Рэндольф мог встретить Дженни и без труда завоевать ее сердце в три дня, почему Уинстон не может за три года найти нужную ему женщину и жениться на ней?
Биографы считают, что он всего лишь отдавал дань талантам отца — лорда Рэндольфа, но по этому лекалу Уинстон кроил и свою собственную жизнь. У него никогда не было близких отношений с отцом, хотя Уинстон очень тянулся к нему. Отец был трагической фигурой — честолюбивым и искренним политиком, — но очень неудачливым как государственный деятель; сколько бы он ни привлекал к себе внимания, ему этого всегда было мало; испытывающий гордость за своих предков, он был трудным мужем и отцом. Долгое время Уинстон жил в тени своего отца и не мог не задаваться вопросом: можно ли считать полученное наследие благословением или проклятием.
Может быть, еще слишком рано было искать ответ на этот вопрос, однако Уинстон надеялся, что книга поможет ему разобраться и найти убедительный, правдоподобный ответ. Описывая историю жизни сэра Рэндольфа, он поворачивал ее таким образом, что биография отца становилась интерпретацией его собственной жизни. А у них было много общего, но сплав Уинстона-Рэндольфа, описанный в биографии, выглядел более благородным, стойким, решительным и дальновидным, чем тот Рэндольф, каким он был в действительности. А в нескольких пассажах — отступлениях от главной темы — Уинстон скорее описывал себя, чем отца. «Он добился известности, — писал он о лорде Рэндольфе, — своим бунтарским характером, высмеивая почтенных лидеров, насмехаясь над авторитетами со смесью аристократической надменности и демократической грубости».
На страницах книги Рэндольф выступал непонятым героем, который пытался вдохновить свою партию и страну на достижение великих целей, но был побежден силами реакции и эгоистическими интересами. С поломанными крыльями он упал на землю; еще один аристократ-мечтатель, вроде лорда Байрона, он прожил короткую, но насыщенную жизнь, люди без воображения относились к нему с пренебрежением, но те, кто понимал его, не переставали скорбеть об утрате такой личности. Растянутая на тысячу страниц, книга стала величественным сияющим монументом, своего рода манифестом. Уинстон собрал воедино разрозненные сведения о жизни отца, соорудив романтическую ее версию, которая могла служить путеводителем для его собственной карьеры.
Как-то, еще не завершив работу над книгой, он приехал в гости к поэту Уилфреду Скоуэну Бланту, старинному другу Рэндольфа. Высокий, эксцентричный и искренний Блант все же старался скрыть от взгляда посторонних неудобные стороны характера лорда Рэндольфа. И всегда находил какие-то оправдания для друга, даже если тот и был виноват. Как и Уинстон, Блант был склонен видеть в характере обаятельного и сумасбродного Рэндольфа нечто байроновское. Но вообще-то Блант был помешан на лорде Байроне настолько, что женился на внучке поэта — леди Анабелле — и считал себя «перерождением Байрона».
Слушая рассуждения Уинстона о том, что он выделяет главным в биографии, Блант вдруг осознал, как сын похож на отца. Как многое от отца он может видеть в сыне. И речь шла не о физическом сходстве, не столь уж заметном, но Уинстон каким-то сверхъественным образом воспринял суть отцовского духа. «Он потрясающим образом походил на отца в манерах и том способе мыслить, какой был ему присущ, — записал Блант в августе 1904 года в своем дневнике. — Он только вернулся после игры в поло, невысокий, крепкий с блестящими глазами и вызвал у меня в памяти образ Рэндольфа, каким он был двадцать лет назад. Он достал из папки письма отца, которые я дал ему почитать полтора месяца тому назад, и прочитал их вслух, чтобы я мог объяснить какие-то недомолвки и неясные места, а также подвести итог некоторым политическим событиям начала восьмидесятых годов, с которыми были связаны я и Рэндольф. Было нечто трогательное в том, с какой скрупулезностью верный сын пытался разобраться в перипетиях жизни сэра Рэндольфа».
В лучшие моменты своей жизни лорд Рэндольф был чрезвычайно остроумным, воспитанным, красноречивым и страстным. А в худшие — столь порывистым, опрометчивым и непредсказуемым, что многие современники считали его психически больным. Так, например, лорд Дерби в 1885 году написал: «При всей его замечательной ловкости, он совершенно ненадежен: едва ли джентльмен и, вероятно, более или менее безумен». Даже его лучший друг лорд Роузбери писал, что Рэндольф всегда страдал своего рода «непослушанием», а со временем оно перешло в более сложную форму, когда его разум окончательно сошел с катушек.
Что узнал Уинстон, и что современники его отца вынуждены были признать, это то, что Рэндольф страдал от последствий сифилиса, который и убил его. И хотя кое-кто пытался высказать предположение, что причина скрывалась в растущей опухоли мозга — это всего лишь отговорки. Обсуждение венерических заболеваний в викторианское и даже эвардианское время — было под запретом, поэтому Уинстон вынужден был использовать эвфемизмы для объяснения причин смерти отца. Он писал, что Рэндольф стал жертвой таинственного и «страшного заболевания», что любящие его вынуждены были признать со стыдом и печалью».
Лорд Роузбери выразился более внятно: «тяжкий недуг парализовал и убил его». Даже более того, он пояснял, что Рэндольфу становилось все хуже и хуже, из-за того, что «невидимый яд отравлял его организм». Биограф более позднего времени, Рой Фостер, писал, что специалист по этим вопросам, доктор Руз не сомневался — пациент болен сифилисом и лечил его соответствующим образом. В последние годы жизни лорда Рэндольфа часто посещал член Британского гинекологического общества Джордж Э. Кит, специалист по венерическим заболеваниям, лечивший представителей обоих полов. Его услугами пользовалась и Дженни. За неделю до кончины Рэндольфа ее более всего страшило, что причины болезни мужа станут известны широкому кругу людей.
Она писала своей сестре Леони: «Никто в обществе и даже в нашем светском обществе пока не знает правды… и страшно даже подумать, если это как-то вырвется наружу. Это нанесет непоправимый вред и его политической репутации и его памяти, не говоря уж о последствиях для всех нас». (Где и когда Рэндольф подхватил заразу — неизвестно. Но достаточно долгое время они с Дженни жили на расстоянии друг от друга, и она была погружена в вихрь собственных увлечений. Наверное, болезнь мужа ее не коснулась.) Уинстону правда стала известна, когда его отец был еще жив. В свои двадцать лет он уже умел добиваться, чего хотел. И он убедил доктора Руза показать ему медицинские отчеты и попросил, чтобы тот рассказал ему «все как есть». Признавшись матери в содеянном, он поклялся, что «не сказал об этом ни единой живой душе… Должен признаться тебе, насколько это тревожит меня».
Смерть отца пугала Уинстона. С беспокойством он следил за ухудшением его здоровья. Для семьи и для всех близких, как писал Уинстон в биографии Рэндольфа Чарчилля, — случившееся представлялось «постыдным». А для сына, который преклонялся перед отцом, — это было еще более мучительно. Он никогда не забудет то снежное утро, когда умер лорд Рэндольф. Почти пятьдесят лет спустя, став премьер-министром, он удивил своего врача, заметив: «Бедный отец умер 24 января 1895 года, много лет назад». Это дата впечаталась намертво в его память. Странным образом, его собственная смерть совпадала со днем смерти его отца. Уинстон Черчилль сделал последний вздох в девяносто лет утром 24 января 1965 года — через семьдесят лет после смерти Рэндольфа.
Летом 1905 года Черчилль завершил жизнеописание отца. Процесс написания истощил его и в эмоциональном и в физическом отношении. Его изможденный вид поразил даже тех, кто видел его и в худшие времена. Явно преувеличивая увиденное, один из журналистов даже набросал что-то вроде некролога: «Ничего не осталось от того «парня». Его лицо осунулось, посерело… Он даже говорил как пятидесятилетний человек, медленно выдавливая слово за словом. Руки едва удерживали шляпу, Уинстон то отодвигал ее на затылок, то снова натягивал на лоб, чтобы прикрыть усталые глаза».
Но физический склад Уинстона был весьма своеобразным: накануне он мог выглядеть полностью истощенным, а уже на следующий день его переполняла жизненная энергия. Он мог пойти играть в поло или отправиться в поездку в двух милях от дома на выступление и произнести две речи подряд. Эти глубинные силы порой поражали его современников. В данном смысле он сильно отличался от других детей аристократов, считавших, что это вульгарно — проявлять слишком много энергии. Это отличало его и от отца, который делал вид, что усердно работает, но на самом деле не знал, что это такое. «Мистер Черчилль превосходит своего отца, — писал А.Г. Гардинер, редактор лондонской газеты «Дейли Ньюс». — Но к унаследованным способностям, воодушевлению и умению увлекаться он прибавил знания и прилежание, которых был лишен его отец. Он работал столь же яростно, как и играл, обрушиваясь на тот или иной предмет с такой же страстью, с какой он обрушивался на своих противников в палате».
Это помогало ему обрести и нужное в новом времени качество, которое он сам называл «американской гибкостью». Отчасти ему помогла в этом американка, которая занималась «лечением массажем». Она настоящий мастер своего дела, — убеждал Уинстон друзей и советовал Хью непременно обратиться к ней. Женщина вполне заслуживает уважения — «это почтенная набожная старая леди», и она просто сотворит чудеса, ей будет под силу избавить Линки от хронической немощи. После четырех сеансов массажа, как убедился сам Уинстон, у него полностью восстановилось кровообращение и даже сердце стало биться сильнее и ровнее. Поддразнивая друга, он говорил, что «она заставит твою кровь быстрее бежать по венам и поставит тебя на ноги. И ты сразу превратишься в Джо».
Уинстон вложил много сил и отдал много времени составлению биографии, но не просто из сентиментальности, чтобы отдать дань прошлому. Он выполнил работу, которая постоянно сверлила его ум, изложив историю на бумаге. А теперь ему не терпелось узнать, сколько же заплатят за это издатели. Многие весьма уважаемые писатели довольствовались несколькими сотнями фунтов за новую книгу, но Черчилль намеревался потребовать несколько тысяч. И один из издателей уже согласился заплатить четыре тысячи, однако Черчилль надеялся получить еще больше. Чтобы правильнее вести переговоры и заключить выгодную сделку, он обратился за помощью к человеку, которого не очень хорошо знал. Собственно говоря, тот человек не годился на роль литературного агента, о нем даже поговаривали, что он не очень удачно обращается с деньгами, причем как со своими, так и с чужими. Однако он был полон энтузиазма. «Если как следует поработать, — писал автор и издатель Фрэнк Харрис, — это книга принесет вам десять тысяч фунтов, или я простофиля».
Фрэнк Харрис — достаточно противоречивая фигура в литературном мире Лондона. В 1900 году он прервал неудачную издательскую карьеру (Фрэнк издавал журнал) и открыл отель в Монако. Но и с этим предприятием он потерпел банкротство и вынужден был вернуться в столицу Англии, сосредоточив все силы на том, чтобы добиться успеха пером. И вот именно тогда в его жизни появился Уинстон. Фрэнку исполнилось пятьдесят. Темные волосы, разделенные пробором посередине, подкрученные вверх усики и вечная суетливость, — он более всего напоминал бармена. Тогда Фрэнк еще не написал своих эротических мемуаров «Моя жизнь и мои увлечения», принесших автору широкую известность. Он закончит ее в 1920 году, уже на склоне лет, когда будет отчаянно нуждаться в деньгах.
Как и Уилфред Блант, Харрис был давним другом лорда Рэндольфа. Он был в числе компаньонов Рэндольфа в том, что составляло три неизменных удовольствия для джентльменов: вино, женщины и песни. Харрис никогда не пользовался уважением, а в тот момент, когда закончилась его эра как издателя викторианских времен, в литературных кругах о нем отзывались как о распущенном человеке. Бернард Шоу писал, что «он никогда не был первосортным человеком, даже второсортным или даже десятисортным… он был до отвращения неповторимым — сам по себе».
Но имелся весьма важный довод, почему Уитнстон намеревался рискнуть и сделать Харриса литературным агентом. В свои лучшие времена, когда Харрисон издавал «Сэтердэй Ревью», он написал 26 января 1895 года один из лучших некрологов о Рэндольфе. И в этой статье именно он впервые представил лорда Рэндольфа как человека, продолжившего традиции лорда Байрона в политической сфере поздневикторианской эпохи. Этот образ долгие годы будил воображение Уитнстона, и теперь ему хотелось отдать дань Харрису и предоставить ему возможность поучаствовать в выходе книги о Рэндольфе.
О том, кратком периоде сотрудничества, Харрис писал: «Судя по всему, он знал меня только по той статье, что я написал в газете по случаю смерти его отца. Он был настолько любезен, что отозвался о ней как о самой лучшей из тех, что были написаны, и добавил, что герцогиня Мальборо, мать Рэндольфа, вполне разделяла мнение о гениальности своего сына».
Что бы другие ни думали о Харрисе, Уинстон верил, что давний друг его отца по-настоящему понимает значимость биографической книги и постарается продать ее за ту цену, которую она заслуживает. Чутье не подвело его, когда он сделал ставку на этого человека. К всеобщему удивлению, Харрис сумел подать книгу и убедить издателей. Он сыграл верной картой, подчеркивая известность Уинстона, тот интерес, который испытывали к нему, уверял, что книга открывает многие скрытые стороны политической жизни, подчеркивал ту симпатию, что проявил сын, рассказывая о бурной и трагической карьере отца. Он не скупился на похвалы, объясняя, о том, что Уинстон цитирует многих прославленных деятелей викторианской эпохи (включая и его самого). Харрис все же не добился получения желаемых десяти тысяч, но подошел вплотную к этой цифре. В конце октября престижная фирма Макмиллана согласилась купить права за восемь тысяч!
Уинстон был очень рад и сказал Харрису: «Это даст мне независимость, ты даже не представляешь, как много это значит для меня, это гарантирует мне успех. Я чрезвычайно обязан тебе».
Он заплатил Харрису 400 фунтов по существующей договоренности еще до выхода книги. (В итоге «агент» Черчилля получил десять процентов с той суммы, что превысила намеченные вначале 4000 фунтов.) Завершив это дело, каждый пошел своим путем. Так что Уинстон стал одним из немногих, кто ускользнул от неудачливого издателя, ничего не потеряв при этом. Всю свою жизнь Харрис оставался недальновидным и расточительным и умер без гроша в кармане. Неудивительно, что ему как-то пришлось, судя по его воспоминаниям, даже выслушать наставления Уинстона о важности быть более дальновидным: «Живи так, чтобы ничего не просить у кого-либо, — советовал Уинстон. — Это первое условие успеха, или живи скромно, — другое необходимое условие. Не требуй ничего, пока не достиг желаемого сам. После чего можно позволить жить в свое удовольствие — пусть это станет главным правилом твоей жизни».
Харрис пропустил наставления мимо ушей, однако сам Уинстон доказал, что придерживается сказанного. Он зарабатывал на жизнь собственным трудом, как платный лектор и автор, следуя правилу: «получай столько, сколько требуется для жизни, и ничего не проси ни у кого». Лорд Рэндольф умер, не позаботившись о том, как и на что будет жить его семья, но он оставил Уинстону более ценное, чем деньги, наследство. Он оставил пример собственной жизни и способность формировать собственные цели.
Несмотря на то, что Уинстон в 1905 году был чрезвычайно занят — дописывал биографию отца и искал нужное издательство — он не отказался от своего обещания нападать на правительство при каждом удобном случае. В марте он предупредил Бальфура и его сторонников, что те столкнутся «лицом к лицу с вердиктом, который вынесет им страна» на предстоящих выборах. Если премьер-министр все еще стоит у кормила власти, то только по той причине, что руль ему в наследство передал дядя и не более того. Но в самое ближайшее время этот руль вырвут избиратели — «высший суд». Такой вот приговор выносил Черчилль премьер-министру Бальфуру — как человеку наделенному властью, но лишенному какого-либо уважения.
К середине лета Бальфур так часто подвергался выпадам со стороны Черчилля, что, похоже, утратил чувствительность к дальнейшим атакам. Анализируя сложившуюся ситуацию, Черчилль высказал предположение, что премьер-министр и его сторонники впали в полнейший ступор, и их поведение напоминает рассказ Эдгара По «Правда о том, что случилось с мистером Вальдемаром». Глядя на их неуверенные и неуклюжие движения, люди невольно начали гадать: «Жив человек или уже находится при смерти».
Выпады Черчилля были столь едкими и жестким, что даже его новые друзья по партии стали уговаривать его чуть умерить пыл. «Мне очень нравятся отдельные моменты Ваших выступлений», — писал ему весьма благонамеренный представитель либералов, но предупреждал, что многие их сторонники, «более чувствительные», испытывают неудобства из-за того, как безжалостно бичует Черчилль лидеров тори. А в конце октября даже король был вынужден сделать Черчиллю предупреждение.
Это произошло во время ужина, на котором король укорил Черчилля в том, что тот слишком едок в своих нападках на Бальфура. Уинстон ушел, чувствуя себе как школьник, покинувший директора школы после сурового выговора. Это было для него достаточно болезненно. Но я «выслушал наставление со смиренным видом», — написал он впоследствии. Чтобы убедиться, что Черчилль внял его замечаниям, король даже прислал ему газету со статьей самого обычного журналиста, который повторял эти укоры и увещевания. Похоже, его величество считал, что Уинстон еще не проникся сказанным и ему нужно напомнить о том, как следует себя вести воспитанному человеку.
«Было бы полезнее, — говорил журналист, — если бы Черчилль осознал, что несдержанная грубость в выражениях — это не те качества, какие ожидают видеть в государственном деятеле. Население надеется видеть в том, кто стремится управлять страной, хотя бы признаки того, что он умеет владеть самим собой».
Нет сомнений, что Черчилль и не подумывал бы сдерживать себя, если бы Бальфур и далее продолжал цепляться за власть. Но события к концу года повернулись самым неожиданным образом. В рядах сторонников премьер-министра начался разброд, они разделились на отдельные группы. Да и Чемберлен устал от неопределенной позиции, которую занял Бальфур, и потребовал от него решительных действий. «Распусти парламент, — твердил Джо, — или ты приведешь партию к полному краху».
Но премьер-министр предпочитал скорее уйти в отставку, чем объявлять выборы. Ему была невыносима сама мысль о том, что на следующих выборах либералы возьмут управление страной в свои руки. В первый понедельник декабря он подал королю прошение об отставке. Он долго обдумывал свой шаг, но страна уже была готова к этому.
Когда он прибыл в Букингемский дворец, его не встречала толпа народа. Король только что вернулся с выставки крупного рогатого скота — грандиозное зрелище, и пребывал в наилучшем расположении духа. Потребовалось всего двадцать минут, чтобы Эдуард VII принял отставку, и Бальфур покинул дворец. Его отказ приняли и без восторга, но и без особых сожалений. Он слишком долго тянул и уже успел нанести изрядный урон единству своей партии. С точки зрения критиков это был бесславный конец безынициативной администрации. «Манчестер Гардиан» подвел убийственный итог, процитировав строки Шекспира из «Юлия Цезаря»: «Когда умирают нищие, никто этого не замечает».
Король направил главе либералов — сэру Генри Кэмпбелл-Баннерману просьбу о формировании нового правительства. Все газеты строили догадки, кто из существующих заметных деятелей может войти в новый кабинет либеральной партии. Имя Черчилля почти все забывали упомянуть. Только «Дейли Миррор» высказала предположение, что его могут назначить министром связи. После всех усилий, которые он предпринял, чтобы свалить Бальфура, это было не то место, о котором он мог мечтать. Но Уинстон не выказывал никакого нетерпения и терпеливо ждал предстоящего решения. «Я хладнокровно жду, что будет, — писал он матери в начале декабря. — Лучшее или худшее — в руках фортуны». Но Дженни не была столь спокойной. Уайтло Рид, американский посол в Лондоне, слышал, как она сказала кому-то из друзей: «Черчилль должен войти в новый кабинет правительства. А если не возьмут, то пусть надеются только на Бога».
Часть II. 1906–1910 гг
X. Победители и проигравшие
Человек, который неумолимо выплывал к тому, чтобы занять место премьера, — медлительный, ничем не примечательная личность — с хорошим характером, но очень поверхностным умом. Над ним подшучивали, называя «тетушка Джейн». Один из самых придирчивых интеллектуалов того времени — Ричард Холдейн, имевший привычку цитировать немецких философов, в мемуарах, написанных позже, скажет, что сэр Генри в общественном мнении не выглядел человеком, способным высказывать свежие идеи, — он таковых и не имел».
А к концу карьеры — Си Би [16] — как его часто именовали — оказался под прицелом всех критически настроенных людей. Асквит стал министром финансов, Грей — главой министерства иностранных дел, Холдейн — министром обороны. Ллойд-Джорджа также ввели в кабинет как председателя правления профсоюзов.
Хотя очень многие в партии не считали, что Черчилль готов занять важную должность, Си-Би, в отличие от лорда Бальфура, осознавал, что будет величайшей ошибкой не принимать во внимание Черчилля, который нуждался в награде и одобрении. Поэтому новый премьер-министр нашел способ наградить его и в то же время не вводить в кабинет. Секретарь по финансам в казначействе — весьма уважаемое место с приличной оплатой — 2000 фунтов. Это означало, что Уинстон будет служить под началом Асквита с огромными, необъятными обязанностями и ответственностью. Это было необыкновенно почетное предложение для молодого человека, которому исполнился тридцать один год и который числился в рядах либералов всего полтора года.
Но Черчилль неожиданно для всех отказался. И попросил другую должность — менее впечатляющую и с намного меньшей оплатой — всего лишь 1500 фунтов. Но в этом рискованном шаге был резон. Во-первых, у Черчилля совершенно отсутствовал опыт работы в сфере финансов. А во-вторых, ему не хотелось оставаться в тени лорда Асквита. И он выбрал должность заместителя министра по делам колоний, в чем он разбирался намного лучше, чем в финансах.
Премьер-министр согласился. Черчилль вошел в департамент, которым более восьми лет заведовал Чемберлен и который считался его вотчиной — разве Уинстон не мог испытывать чувство удовлетворения? Но, кроме того, раз уж либеральная партия приложила столько сил для смещения Чемберлена, то, естественно, Уинстону хотелось найти применение своим способностям именно в министерстве иностранных дел. К тому же новый глава министерства должен был войти в палату лордов, а это означало для Черчилля возможность выступать там в роли спикера. То есть он должен был делать то, что некогда делал Чемберлен.
Новый министр по делам колоний — девятый граф Элгин, чей дед скандально прославился тем, что в начале девятнадцатого века вывез мраморные скульптуры из Парфенона. («Будь проклят тот день и час, когда он покинул свой остров», — писал лорд Байрон, назвавший седьмого графа Элгина вандалом.) Уинстон не сомневался, что у него возникнут какие-то сложности с начальником-аристократом, который был способным администратором, но не питал особого интереса к политике. Лорд Элгин не любил выступать с речами или участвовать в парламентских прениях. Таким образом, это ложилось на плечи Черчилля. А еще молодой политик надеялся, что если он надо, он сумеет обвести вокруг пальца лорда Элгина. Вначале его решение войти в министерство иностранных дел казалось непонятным для членов его партии, но те, кто был более проницательным, сообразили, в чем суть.
Так, например, журнал «Панч» почти сразу разгадал его далеко идущие планы и открыл карты, как только Черчилль пришел в министерство. Один из самых видных карикатуристов изобразил Черчилля в виде греческого воина с развевающимся плащом верхом на скачущем коне, символизирующем «Колониэл оффис» (Colonial Office, Министерство по делам колоний). А позади него в тоге и греческих сандалиях с жезлом в руке стоял бородатый граф Элгин, пытаясь схватить за уздечку коня Уинстона. Это изображение, выглядевшее как один из фризов Парфенона, было опубликовано с подписью «Мрамор Элгина» и шутливым примечанием, что его автором будто бы являлся сам Черчилль.
Только Черчилль и мог сотрудничать с графом и общаться с ним, делая вид, что именно тот выступает главой министерства. Как написали в одном из популярных журналов: «Считаясь заместитетелем, он явно выдается вперед, выбиваясь из рядов». Черчилль получил массу поздравительных телеграмм от друзей, узнавших, что он вошел в члены правительства. Прислал поздравление и Хью Сесил, выразивший надежду, что теперь Уинстон не будет бросать слов на ветер в прениях, а сосредоточит все свое внимание на умелом управлении делами. Черчилль отнесся с юмором к предостережениям друга и пообещал приложить все свои силы, исполняя новые обязанности в министерстве.
Что касается Мюриэль Уилсон, то на нее, кажется, новое назначение не произвело большого впечатления и нисколько не помогло Уинстону в ее выборе будущего мужа. Зато пламя прежней страсти вдруг вспыхнуло вновь, вернувшись в его жизнь. Это была Памела — теперь леди Литтон. Отношения с ней постепенно наладились, прежние обиды и враждебность отступили в сторону. Они то и дело встречались на той или иной вечеринке, а вскоре она и ее муж пригласили Уинстона в свой особняк Небуорт-Хаус. Впечатленная достижениями Уинстона, Памела сочла, что следует возобновить их дружеские отношения. Она проявила внимание и заинтересованность и была рада, что он ответил взаимностью. Их переписка возобновилась, и Памела обращалась к нему теперь не иначе, как «мой Уинстон». Однако память о том, сколько он пережил после того, как был отвергнут Памелой, все еще ранила Уинстона. Ему очень хотелось показать, как много она значила для него.
Через несколько дней после того, как Черчилль стал заместителем министра, лучшая подруга Памелы — леди Грэнби — давала прием в лондонском особняке, и пригласила на этот вечер и Уинстона. Памела тоже была в числе приглашенных, как и ее друг Эдвард Марш, личный секретарь Чемберлена в министерстве по делам колоний. Марш все еще продолжал работать секретарем в восточноафриканском отделе того же министерства. Именно Памеле принадлежала идея пригласить его на прием леди Грэнби. Он был на два года старше Уинстона, но тот внушал ему такой трепет, что Марш едва смог вымолвить пару слов и обращался с Уинстоном более чем почтительно. Они пару раз встречались прежде в министерстве, и Черчилль никак не мог понять, почему Марш с таким трепетом взирает на него. В ответ на его прямой вопрос Марш ответил: «Потому что вы мой начальник в министерстве». Прежний его начальник — Чемберлен не внушал ему тех чувств, что Черчилль. «Я немного боялся его», — признавался впоследствии чувствительный и чрезвычайно впечатлительный Марш. Секретарь производил впечатление человека, готового спрятаться в тени Уинстона.
Он был на пару дюймов выше Уинстона, тонкий, с мрачноватым неясным обаянием, и густыми кустистыми бровями, которые загибались на кончиках к вискам его высокого и широкого лба. При этом голос его был неожиданно высоким и скрипучим, а характер довольно упрямый. При первой встрече на него вполне можно было не обратить особого внимания.
Каково же было удивление Марша, когда на следующий день он узнал, что Уинстон хочет взять его к себе личным секретарем. Он не мог поверить своим ушам, а когда узнал, что это не шутка, впал в ужас. Марш неоднократно сам был свидетелем безжалостных нападок Уинстона на Чемберлена и решил, что теперь тот хочет взять его на роль мальчика для битья и, воспользовавшись своим положением, заклюет до смерти. Покинув министерство, он бросился за советом к Эдит, вдовствующей графине Литтон — свекрови Памелы.
Эдди, как называли его друзья, был, можно сказать, приемным членом семьи Литтонов. Единственный сын известного врача, он стал близким другом Виктора — лорда Литтона, когда они оба учились в Кембридже. Позже он снимал комнату на двоих с Невиллом, братом Виктора. Невилл, художник и типичный представитель лондонской богемы, был женат на Джудит, прелестной дочери Уилфреда Скоуэна Бланта. И когда Памела вошла в семью Литтонов, она подружилась и с Эдди. Тот впоследствии писал: «Небуорт стал для меня вторым домом». Именно Памеле пришло в голову, что он должен работать у Уинстона. Но ничего не говорила ему о своих планах.
Марш в полном отчаянии спросил вдовствующую графиню как ему быть. Она знала Уинстона и Дженни много лет, но не была им близким другом, они виделись только на светских вечерах. Но в свое время она была знакома и с лордом Рэндольфом. Прекрасно понимая чувства и переживания Эдди, она высказала очень важную мысль: «При первой встрече с Уинстоном ты увидишь только одни его недостатки, — сказала она. — А потом, всю оставшуюся жизнь будешь открывать его достоинства».
Ободренный ее поддержкой, Марш согласился поужинать с Уинстоном. Вечер, проведенный вместе с будущим начальником, успокоил Марша. Требования, которые предъявлял Черчилль к своему работнику, выглядели вполне резонными. К концу ужина он принял предложение. Уинстона обрадовало то, что он будет править в княжестве Чемберлена, а его правой рукой станет бывший помощник Джо.
По возвращении домой Эдди тотчас написал письмо Памеле, сообщив ей о своем решении. «Мне кажется, я должен признаться, насколько меня восхитил Черчилль. Я готов сделать все, что в моих силах. Молись за меня».
Вот каким образом Эдди стал личным секретарем Уинстона. И оставался его личным секретарем в течение двадцати пять лет, следуя за Черчиллем из одного кабинета в другой. Он стал не просто доверенным лицом, но и другом. Нельзя сказать, что эта работа была легкой, но он вскоре научился ставить громоотводы, когда над его головой разыгрывалась буря. «Меня не беспокоило то, что он откусит мне голову, — писал Марш в своей автобиографии, — потому что знал, через несколько минут Уинстон опомнится, снова выудит ее из корзины для бумаг и заботливо, даже с церемониями, водрузит на шею».
Уинстон и Эдди смотрелись как два абсолютно неподходящих друг другу человека. Однако, как и в том, что касалось самого Уинстона, лучшие качества Эдди проявлялись не сразу, для этого потребовалось время. Он любил поэзию, любил все, что имело отношение к искусству, вел чрезвычайно скромный образ жизни, зато тратил все свободные деньги на поддержку любимых писателей или на покупку живописных полотен. Он стал первым собирателем картин художника Дункана Гранта, входившего в «кружок Блумсбери».
Эдди Марш стал близким другом и покровителем поэта Руперта Брука, и после смерти поэта в 1915 году выступил в роли его литературного душеприказчика. Столь же щедро он помогал писать песни, пользующиеся большой известностью, своему другу Айвору Новелло. Мелодия песни «Страна, которая может быть» принадлежит Новелло, но слова написал Эдди. Ходили слухи, что Памела — давняя поклонница — любила Марша, его лирические стихи проникали в душу, трогая самые чувствительные струны сердца. Он написал лучшие строки об ускользающем видении: «На пути сомнений, страха нам вдруг ночью удавалось обнаружить свет надежды».
Страстный поклонник английской грамматики, Эдди — это было самым любимым делом, — правил тексты, которые ему давали, выискивая в них неточные выражения и ошибки. Его начальники — в том числе и Черчилль — ценили это качество. Ценили этот дар и друзья Эдди, многими своими успехами в литературе они были обязаны именно ему. Так, например, Сомерсет Моэм был в числе тех друзей и тех писателей, для кого в последние годы уже вошло в привычку отдавать Эдди свою рукопись для чтения и правки. Они могли часами спорить: следует ли принять за норму английского языка уменьшительную форму от слова «ланч». Эдди настаивал на том, что слово может существовать только в неизменной форме. Моэм, не всегда соглашавшийся с ним, написал: «Думаю, что ты знаешь английскую грамматику лучше кого бы то ни было в Англии».
Эдди открыл секрет, как можно выдерживать долгие годы, целыми днями занимаясь чисто бюрократической деятельностью. Еще в молодости он освоил способ засыпать минут на тридцать во время рабочего дня так, что со стороны этого никто не замечал. Он стал засыпать в церкви, и никто не замечал, что он вдруг цепенел. И у себя на работе, в министерстве, он каждый день пользовался своей способностью спать послеобеденным сном, сидя совершенно прямо с видом человека, просто погруженного в мысли. Если кто-нибудь обращался к нему в эту минуту, он тотчас включался и мог выслушать с полным вниманием, но как только оказывался в одиночестве — опять погружался в дремоту. Эдди обучил этому приему и Черчилля, называя состояние послеобеденной «комой».
Однако из-за бесчисленного количества дел и новый министр, и его помощник не могли позволить себе много спать. После того, как формирование кабинета завершилось, новый премьер-министр Кэмпбелл-Баннерман счел, что страна готова к проведению всеобщих выборов в январе. Времени на освоение новых обязанностей у Уинстона было очень мало. Третьего января 1906 года он приехал в Манчестер, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на выборы — чего не мог сделать лорд Элгин как член верхней палаты парламента.
Помогая ему, Эдди развил бурную деятельность. Он отправился вместе с Уинстоном, в Манчестере они сняли комнаты недалеко от центрального вокзала в Мидленд-отеле — новеньком «мастодонте» (как называл его Черчилль), «символизировавшем здоровье и силу тогдашнего Ланкашира».
Бальфур, чей избирательный округ также находился в городе, остановился по соседству — в Королевском отеле. Пик сражений приходился на самые последние дни перед выборами, и представители двух партий осыпали друг друга насмешками в эти влажные зимние сумерки.
Противник Черчилля — тори Уильям Джойнсон-Хикс, адвокат, уделял много внимания религиозным вопросам, писал статьи об умеренности и воздержании, искоренении пороков и борьбе за то, чтобы на дорогах было как можно больше новых машин. Его перу принадлежал труд «Закон о тяжелом и легком механическом транспорте на шоссейных дорогах Соединенного Королевства», снабженный умопомрачительным количеством ссылок. Выборы в 1900 году он проиграл, и хотя некоторые либералы не считали его важным противником, Черчилль отнесся к его кандидатуре со всей серьезностью.
Вскоре после приезда Черчилля в Манчестере появились огромные плакаты со слоганом «Голосуйте за Уинстона Черчилля и свободную торговлю». Его имя было написано огромными буквами. Идея свободной торговли родилась именно в Манчестере в 1840 году — ее выдвинули тогда давние борцы за это дело — Ричард Коббен и Джон Брайт. Не желая уступать противнику, Джойнсон-Хикс распорядился напечатать плакаты с его именем намного больше — размером в пять футов высотой. Но слоган не читался, идея выглядела непонятной, и он звучал не столь ритмично: «Поддерживайте Джойнсон— Хикса и постоянство». Чтобы прочитать такой огромный плакат, людям приходилось высоко задирать голову. Предусмотрительно немного иронизируя над собой за то, что перешел из рядов тори в ряды консерваторов, Уинстон таким образом заранее обезоружил нападающих. «Будучи в партии консерваторов, я высказал немало глупых утверждений, — признался Черчилль собравшимся на встречу. — И я покинул их, потому мне больше не хотелось повторять эти глупости».
Такая линия поведения вызывала дружелюбный смех и настроила публику соответствующим образом. Во время предвыборной кампании Черчилль пребывал в приподнятом настроении и не скрывал этого. Энергичный настрой не покидал его ни на минуту. С самого раннего утра до поздней ночи он выступал перед своими сторонниками. Его выступления — не менее четырех раз в день — проходили и в переполненных залах для специальных собраний и в театре. Ему случалось подниматься на шаткие платформы, наскоро сколоченные на открытом воздухе, а за его спиной развевались плакаты. Вечером он планировал следующий день, а Эдди должен был два или три часа отвечать на письма и телеграммы. И где бы он ни появлялся, его встречали столь же восторженно, как потом стали встречать поп-звезд. В один из дней собралось такое количество людей, которые шли за ним, что нескольких человек затоптали, а четверых отправили в Королевский госпиталь для оказания им помощи, в том числе и мужчину, который «пробил головой оконное стекло».
Когда стало известно, что Черчилль остановился в Мидленд-отеле, толпы людей собирались в вестибюле и вокруг здания, чтобы только взглянуть на него, когда он выходил оттуда. «Проходя по коридору … он раздавал автографы тем, кто охотился за ними, и всем, кто восхищался им». Изливая свои чувства, они называли его «Уинстон» и каждый мечтал пожать ему руку, словно они были старыми друзьями». Что касается Джойнсон-Хикса, то он появлялся вместе с Бальфуром в большом экипаже и мог привлечь довольно большую толпу, правда, ему все же пришлось уклониться от некоторого количества камней, брошенных в сторону его машины после какой-то встречи. Газетчики писали, что еще никогда выборы не достигали такого высокого «накала страстей».
Казалось, что все работает на Черчилля. Пресса давала вполне объективные репортажи по ходу предвыборной кампании, одновременно шел бесконечный поток хвалебных отзывов о его книге — биографии лорда Рэндольфа, — она появилась под громкий звук фанфар как раз в середине выборной баталии. Все рецензии были полны восторгов, а некоторые даже поражались тому, что столь молодой политик смог написать ее с таким знанием дела. Некоторые обозреватели, даже те, кто не соглашался с утверждениями биографа о значительной роли Рэндольфа в политике, наслаждались стилем и манерой изложения, а также тем, как автору удалось развить сюжетную сторону. Критик из «Спектейтора», известный своим беспристрастием, отмечал, что Рэндольф был «способен поразить, но не повести за собой», и обращал внимание читателей на то, что в политическом мире «редко встретишь столь же романтическую карьеру, как у этого государственного деятеля, который стал известен в тридцать, по существу вышел в лидеры в тридцать семь, потерял все и умер в сорок лет».
Конечно, Уинстон многим рисковал, когда соглашался выпустить книгу в самый разгар ожесточенной борьбы с противником — ведь тот мог воспользоваться кое-какими параллелями в судьбе сына и отца. Однако автор так умело переплел свои взгляды с историей жизни отца, что попытка сравнивать его карьеру в тридцать с карьерой лорда Рэндольфа могла только повредить самим противникам. Даже в момент пика противостояния никто не воспользовался книгой как оружием против Черчилля. Во многих отношениях драматический взлет сына производил намного более сильное впечатление, чем аналогичный взлет его отца. Черчилль добился большего с меньшими потерями. Он не унаследовал магического влияния титула, красавицы жены, безмерного кошелька, зато Уинстон был более храбрым, блестящим и сильным человеком, чем лорд Рэндольф.
В тот субботний день, когда проводился подсчет голосов — 13 января — Черчилль, похоже, не сомневался в победе. Он пользовался популярностью, энергично вел кампанию, в то время как тори постоянно оправдывались, пытаясь объяснить прежние ошибки и только нащупывая, что они могут предложить на будущее. И когда результаты огласили, Бальфур потерпел сокрушительное поражение. А вот Уинстон вышел вперед с несомненным преимуществом, как и остальные представители либеральной партии в районе Манчестера. Консерваторы полностью проиграли, а либералы триумфально шагнули вперед. Сторонники вынесли на руках сияющего Черчилля, чтобы отпраздновать победу в ресторане Мидленд-отеля. В конечном итоге либералы выиграли 377 мест в парламенте, в то время как тори с огромным трудом набрали чуть больше ста пятидесяти мест. Это было именно то полное крушение Чемберлена, Бальфура и их партии, которое предсказывал Черчилль.
В бирмингемском избирательном округе протестная волна выборщиков не коснулась Чемберлена, как это сказалась на других членах партии, однако он не мог не слышать звона погребального колокола, с каждым ударом которого забивались гвозди в его империалистические амбиции. Он не мог отменить вердикта, который вынесли избиратели. Его карьере пришел конец. Но он все еще надеялся выбраться наверх.
Откладывать реванш на более отдаленное время Чемберлен не мог. Его здоровье ухудшалось. Долгие годы он утверждал, что сигары, которые он непрерывно курил, никак не сказываются на здоровье, и что ему нет необходимости заниматься физическими упражнениями. Но через полгода после выборов он упал в своей спальне как раз после ужина, когда отмечалось его семидесятилетие. Жена застала его в тот момент, когда он полз по полу. Это был сильнейший инсульт, всю его правую сторону парализовало.
В какой-то степени ему удалось оправиться. Однако Джозеф Чемберлен уже никогда не мог произносить такие зажигательные речи, как прежде, и движения его оставались скованными. Хотя близкие уверяли всех, что в самые ближайшие месяцы он вновь начнет вести активную деятельность, однако он все реже показывался в общественных местах, и мало кто мог видеть его скукоженную фигуру в инвалидном кресле. Лицо его было перекошенным и бледным. От блистательного политика осталась только тень. В таком виде он протянул до 1914 года. Бальфуру удалось отвоевать себе место, он удачно вернулся к политической жизни. Но для Чемберлена все закончилось на выборах 1906 года. Взгляды Черчилля на Чемберлена заметно смягчились с годами, и он уже не был к нему так строг и придирчив. Все плохое постепенно стерлось из памяти, и Уинстон чаще вспоминал только самые лучшие моменты их взаимоотношений.
Перед отъездом из Манчестера Уинстон и Эдди совершили долгую прогулку по трущобам города. Они шли по темным улочкам мимо корявых домишек. И вдруг Уинстон, не выдержав, проговорил: «Представляю, каково это — прожить всю жизнь в таком месте, никогда не видя ничего прекрасного, никогда не отведав хорошей еды, никогда не услышав ни одной умной фразы!» Много лет спустя Марш процитирует эти слова в своей автобиографии, и многие потом будут использовать их против Черчилля, чтобы подчеркнуть его снобизм. К сожалению, как правило, эти люди упускали вторую часть фразы, приведенную Эдди, ведь он писал: «Уинстон произносил ее с симпатией и сочувствием».
Черчилль никогда не смотрел ни на кого сверху вниз. Он просто пытался осознать, что представляет собой жизнь простых тружеников. Люди, подобные Бальфуру, даже не давали себе труда задуматься об этом. Их больше заботила собственная карьера. Уинстон не мог перестать быть Уинстоном. Он знал, что он любит и что приносит ему счастье. Но он обладал способностью оторваться от привычных дел, оглядеться и осмыслить, что происходит вокруг, и задаться вопросом, как это можно изменить к лучшему. Он очень много сделал с тех пор, как перешел из одной партии в другую, и сделает еще очень много со временем, изучая новые идеи, которые он разделил со своими соратниками.
XI. Мир у его ног
Ранним февральским утром 1906 года Флора Лугард — журналист, автор колонки в «Таймс», настроившись на боевой лад, направлялась к министерству по делам колоний, чтобы поговорить с Уинстоном. Встреча обещала быть трудной. Пылкая сторонница империализма, Флора побывала во многих местах Африки — ее муж, сэр Фредерик Лугард, был верховным комиссаром в Северной Нигерии[17], и ее возмущала сама мысль о том, что молодой противник Джозефа Чемберлена, не менее страстного поборника империализма, — теперь стал вторым человеком в министерстве иностранных дел. А у нее были далеко идущие планы относительно себя и своего мужа, который усердно трудился за тысячу миль от родины. И ее тревожило, что Черчилль может встать поперек дороги. Флора намеревалась показать выскочке, что с ней шутки плохи. С полной самоотдачей и без всяких уступок она получала огромное удовольствие от своей журналистской деятельности, весьма редкой для женщин того времени. Характер у нее был сильный, и если она чего-то хотела очень сильно, то, как правило, добивалась своего. Флоре удалось стать первой женщиной с постоянным окладом в «Таймс». Писательница и исследовательница Африки Мэри Кингсли описывала ее как «прекрасно сложенную, изящную женщину … [но] крепкую как гвозди».
Когда Флора Лугард прибыла в министерство по делам колоний на Даунинг-стрит, она попросила разрешения увидеть нового замминистра и была отправлена по длинным коридорам к комнате Черчилля. Она не имела приглашения, но с присущим ей самоуверенным видом вручила Маршу свою визитную карточку и, попросив о встрече, села на стул дожидаться ответа. Она не рассчитывала на теплый прием. Правительство консерваторов ради пробы согласилось удовлетворить просьбу ее мужа и разрешить ему в течение полугода управлять нигерийскими делами из Лондона. Флора слышала, что Черчилль противился этой договоренности. Если ее информация была верна, она надеялась изменить его мнение, доказав, что работа на самом деле не требовала постоянного присутствия сэра Фредерика в Африке, и что его имперская экспертиза была необходима в министерстве по делам колоний, откуда он мог руководить операциями во всей Западной Африке.
С ее стороны это был дерзкий поступок — настаивать на таком соглашении. Но это бы дало возможность Лугардам, — которые поженились в достаточно зрелом возрасте, — рассматривать Африку как свое королевство, куда они могут ездить время от времени, когда им захочется. С их точки зрения идея не выглядела столь уж неубедительной. Это просто был подходящий путь, чтобы усовершенствовать систему и получить вполне заслуженную награду за примерную службу.
Но имелось одно весьма серьезное препятствие — серьезные просчеты сэра Фредерика, которым даже его новая жена Флора не могла бы найти оправдания. Дело в том, что во время своей деятельности в Африке он выказывал склонность вырезать племена, не подчинившиеся его воле. Еще недавно состоявший под его командованием хорошо вооруженный отряд истребил 1200 человек, разнеся артиллерийским и пулеметным огнем глиняные стены и покрытые воловьей кожей ворота примитивной крепости. Другая экспедиция истребила две тысячи человек, включая женщин и детей. [18]
С точки зрения жителей Западной Африки, сэра Фредерика следовало отозвать в Англию. Но Лугард считал, что предназначением империи является улучшение жизни каждого, кто признает британское правление, и ради этого доброго дела нужно быть готовым пролить много крови.
Черчилль не стал отказывать Флоре. Он действительно пригласил ее к себе в кабинет и встретил весьма вежливо. Молодость заместителя министра поразила ее. Позже она напишет мужу: «Совершенно непонятно, как мальчик в таком возрасте и с таким небольшим жизненным опытом получил в руки такую власть и такое влияние». Стол Черчилля был завален огромным количеством бумаг и документов, свидетельствующих о том, как сильно он занят. Тем не менее, он счел нужным уделить ей внимание. Какое-то время они рассматривали друг друга. Она решила для начала польстить Черчиллю, сказав, что прочла все репортажи о нем. Там говорилось много хорошего, но из отчетов она поняла, что есть моменты, которые имеют отношение к ней и к ее мужу. Вот почему она пришла.
Правда ли то, что он выступает против намерений сэра Фредерика? Да, ответил Черчилль прямо. Но это еще не все. Он намеревается произвести еще более серьезные перестановки и вообще изменить политику управления Нигерией.
«Существует очень многое, чего новая палата общин не может принять, — объяснил он. — Все это требует перемен».
Она не могла знать доподлинно, только догадывалась по тому количеству документов, что лежали на его столе, — насколько Черчилль погрузился в работу министерства по делам колоний и насколько глубоко он копает. Он успел прочитать все, что имело отношение к Лугарду, и представить, насколько это жесткий и безжалостный человек. Более того, лорд Элгин уже отправил распоряжение Лугарду воздержаться от каких-либо рейдов против местных племен. Черчилль поддержал это распоряжение, саркастически заметив: «Хронические кровопускания в Западной Африке — явление гнусное и отвратительное. До каких пор наши представители будут считать, что имперская политика должна проходить под маркой убийства людей и захвата их земель?!»
А что касается самого сэра Фредерика, то Черчилль пришел к выводу, что верховный комиссар строит планы выступить в роли имперского царя, для которого Нигерия будет представлять собой вариант угнетенной России.
Лугарды представляли собой темную сторону имперских мечтаний Чемберлена. Именно с легкой руки Джо сэр Фредерик сформировал нечто вроде личной армии — Западноафриканские пограничные силы, с помощью которых он подчинял все новые и новые регионы. [19]. Элгин и Черчилль намеревались положить конец начинаниям Лугарда, о чем Флора еще не знала.
Какое-то время «мальчик» слушал Флору достаточно терпеливо, никак не выказывая своего действительного отношения к предмету беседы, хотя сам считал абсурдом любую договоренность о привилегированном положении ее мужа. Ранее он уже вполне недвусмысленно заявил Элгину, что «мы не можем превращать министерство по делам колоний в пантеон живых проконсулов — по типу римских предшественников». Флора Лугард покинула кабинет Черчилля в полной уверенности, что она произвела на него впечатление своими знаниями и доводами. Но когда Элгин официально отверг прошение о предоставлении ее мужу права на равные периоды несения службы в Нигерии и в Лондоне, Флора знала, кого следует винить. В письме, отправленном мужу, она старалась сохранить хорошую мину при плохой игре, выглядеть более оптимистичной, советуя сэру Фредерику не терять присутствия духа и не принимать отказ так серьезно. Это всего лишь злобный выпад, характерный для выскочек, — писала она.
«Благодаря таким людям, как ты, исполняющим свой долг… и строилась наша великая империя, — писала она. — А потом в министерстве по делам колоний появляются выскочки вроде Уинстона Черчилля и в самые критические моменты, когда требуется нанести мощный удар, останавливают занесенный кулак».
Новым руководителям министерства по делам колоний не потребовалось много времени для того, чтобы вызвать Лугарда из Нигерии и сообщить ему, что его возвращение туда было бы нежелательно. А на следующий год Лугарда отправили губернатором в Гонконг, где он не мог причинить большого вреда. Но после того как Черчилль и Элгин покинули министерство по делам колоний, Лугард снова добился своего возвращения в Нигерию и пустил там еще больше крови. Он приказал публично вешать захваченных в плен мятежников в назидание другим, и подавлял беспорядки, посылая многочисленные отряды войск с разрешением открывать огонь по протестующим туземцам. В 1918 году в Абеокуте его солдаты убьют тысячу человек. [20].
«Весь цивилизованный мир, — доказывала Флора в разговоре с Уинстоном, — опирается на порядок, который поддерживают вооруженные силы. Уверяю вас, что в мире трудно найти человека, менее склонного к военным операциям, чем мой муж. Он отдает предпочтение мирным методам управления, но кому как не ему знать, что требуется для устранения беспорядков?!»
Уинстон отнесся с уважением к ее чувствам и проявил максимум сердечности, тем более, что личный вклад сэра Фредерика и его самоотверженный труд на благо империи и в самом деле заслуживали признания. Но он решительно отказывался поддерживать методы и способы подавления сопротивления, которые практиковал Лугард. Флора поиронизировала над его морально-этическими принципами при встрече в Бленхейме, куда ее пригласил Санни. Она заявила, что «манчестерские избиратели, обеспечившие победу на выборах», не имеют ни малейшего представления об Африке. Уинстон ответил ей просто: «Нам надо отказаться от большей части Нигерии — она слишком велика, чтобы мы могли удержать ее в руках! Надо положить конец карательным экспедициям и довольствовать той частью страны, которая в целом поддерживает с нами мирные отношения». Флора с удивлением посмотрела на него: «И вы надеетесь, что при ваших методах управления империя будет процветать?»
Черчилль и в самом деле искал новые способы, при которых имперская машина будет работать без использования жестких методов насилия и подавления. Он и сам не мог избавиться от многих предубеждений, свойственных его времени, и сам наделал немало ошибок из-за них. Но в основном, его деятельность в министерстве по делам колоний была дальновидной и перспективной. Она также была относительно свободной от бессмыслицы, за редким исключением тех происшествий в палате, когда он был вынужден защищать правительство, прибегая к «терминологически неточным» определениям.
Имея за плечами столь огромный опыт в литературе, он легко мог обнаружить ловкие приемы, используемые авторами, которые хотели придать остроту самому обычному делу. Даже Джонатан Свифт не смог бы найти более язвительных острот, которые отпускал Черчилль в отношении бюрократичного настроя ума, который царил в таком департаменте, как министерство по делам колоний.
Пример тому — длинный комментарий относительно рекомендации по поводу ссылки одного африканского вождя из протектората Бечуаналенд [21]. Племя настаивало на удалении своего вождя, и министерство по делам колоний предложило заключить Секгому на отдаленном острове. Возмущенный столь явной несправедливостью, Черчилль издевательски спросил: «А почему мы должны ограничиться только этим? Если правительство считает возможным посадить человека в тюрьму без суда и следствия, может быть проще убить его и сразу покончить с этим делом. А можно прибегнуть и к другому способу — отравить его, напоив каким-нибудь лекарством? Уж если мы используем средневековые способы, почему бы нам не набраться средневековой храбрости и безжалостности? Мы на этом сможем сильно сэкономить. Порция лауданума стоит всего лишь пять шиллингов — вот и все, что нам потребуется на расходы».
Но лорда Элгина такие моменты в их деятельности не поражали. Он провел немало лет, имея дело со сложной машиной британской бюрократии, и не считал, что в таких вопросах, как тот, что связан с Секгомой, следует придерживаться буквы закона. Более того, он был убежден, что депортация и тюремное заключение являются необходимой административной мерой. Уинстон не согласился с ним, продолжая настаивать на том, что Секгома обладает всеми правами. И вот тут Элгин потерял терпение, — что с ним случалось крайне редко. «Этот человек — дикарь, — воскликнул он. — И соблюдение законности по отношению к нему приведет к нарушению мира и спокойствия в регионе».
Когда страсти немного постыли, Элгин согласился вычеркнуть строчку о депортации, но оставил предложение, где речь шла о тюремном заключении. Что чрезвычайно важно, он согласился с тем, что эту меру следует признать из ряда вон выходящей и утвержденной только ради сохранения мира. Черчилль настаивал на своем не только из гуманных соображений. Он старался убедить Элгина в своей правоте, чтобы и в дальнейшем добиваться от него большей уступчивости.
Элгин приложил немало сил для достижения влияния, каким он обладал. Как-то Уинстон написал по одному поводу: «Я не могу взять на себя ответственность за это». Элгин ему ответил коротко: «Я могу». В другой раз Черчилль, заканчивая докладную записку, напишет: «На мой взгляд». Элгин ответил: «Но не на мой».
То отступая, то наступая, Черчилль частенько хватался за перо, подчеркивая вызывающие неодобрение строки в текущих документах, требуя как можно более быстрых перемен в министерстве. Уравновешенный и спокойный Элгин решал эти сложные вопросы, используя корректорские значки. Когда Черчилль настаивал на каких-то переменах, переходя за грань возможного, Элгин ставил на полях корректорский знак «оставить все как есть».
Однако при всех их расхождениях, они оба разделяли точку зрения, что пора притормозить локомотив империализма. Хотя бы для начала в Африке. Черчилль, например, не видел возможности, каким способом они и дальше могут притязать на власть в тех областях, которые остаются неподконтрольными. И настаивал на том, что сказал Флоре Лугард: «Нам следует отказаться от попыток удерживать такую огромную территорию, которую мы оккупировали номинально, но на самом деле не в состоянии управлять ею. Поэтому следует сосредоточить все силы на тех регионах, где наше положение намного более устойчиво, и развивать их в экономическом отношении».
Элгин соглашался, признавая тот факт, что из-за Чемберлена и непомерного аппетита таких же, как он, деятелей, Британия, не прожевывая, заглотила такие жесткие куски африканского континента, что недолго и подавиться.
Черчилль — дитя имперской эпохи — мечтал о том, чтобы империя процветала, но чтобы Британия при этом не теряла того лучшего, что ей было присуще. Незачем тратить людские жизни и деньги, чтобы выставить развевающийся флаг на новом участке земли, если это приносит только одни траты, и не приносит никакой выгоды и к тому же ухудшает жизнь населения этих районов. Вместо того чтобы удерживать империю пошлинами, Черчилль мечтал управлять на основе доброй воли, деля ответственность, справедливые законы и заботясь об общей безопасности. Вполне возможно, что изначально это были абсолютно нереалистические планы, но до тех пор, пока дух империи сохранял аромат романтизма, Черчилль верил в нее всеми фибрами души. По крайней мере, ему хотелось удержать империю хотя бы от того, чтобы она утверждала цивилизованность пулями или пушечными снарядами.
Как вскоре выяснилось, не только один Фредерик Лугард был из числа тех, кто утверждал свою волю путем полного насильственного уничтожения оппозиционеров. Когда выяснилось, что в Восточной Африке жертвами британских колониальных войск стали 160 человек, Уинстон в гневе воскликнул «кровавая бойня!» и сокрушенно спросил с долей свойственного ему сарказма: «Вряд ли требовалось использовать такие силы, чтобы убить безоружных людей».
Большая часть работы в министерстве по делам колоний состояла из нудных бюрократических обязанностей. Но каждый раз Черчилль применял всю данную ему власть, чтобы защитить жизнь обычных людей в таких отдаленных уголках империи, что в большинстве случаев, он только смутно представлял, в какой цвет окрашен этот кусок на карте. И он старался всякий раз не забывать о том, что в каждой колонии — сколь бы удаленной она ни была — живут личности со своими проблемами и заботами, заслуживающие внимания со стороны Лондона. Говорят, что первые слова, которые он произнес, войдя в кабинет, были: «Давайте посмотрим на карте, где же расположены эти страны».
Под началом Черчилля находилось не так уж много людей. Основной штат государственных чиновников был на удивление мал. Только тридцать пять клерков, двенадцать ассистентов, личные и временные секретари, плюс некоторое число посыльных и машинисток. Дел было невпроворот, однако Уинстон частенько взваливал на себя и ту работу, от которой прежний заместитель министра отказывался, считая ее ниже своего достоинства. Если кто-либо задерживался с ответом какому-то незначительному англичанину в Британской Гвинее, Черчилль выговаривал служащим: «Не будьте такими заносчивыми и невнимательными, не считайте, что можете пренебрегать каким-то обычным гражданином. В будущем он может стать сторонником, а вы превращаете его в нашего злостного противника».
Из-за загруженности в министерстве и обязанностями в палате общин у него почти не оставалось времени для себя. В январе он переехал из квартиры на Маунт-стрит на улицу Болтон-стрит 12, неподалеку от Грин-парка и отеля «Ритц». Оттуда он мог легко добираться пешком в министерство. Рано утром он спешил в Уайтхолл, а возвращался домой поздно ночью. Аренда жилья обходилась ему в 1000 фунтов. Оставшиеся 200 он тратил на жизнь. Квартира, которую он снимал, находилась в доме, выстроенном частично из красного кирпича. Для семьи эта квартирка была бы весьма тесной, но для одинокого холостяка — вполне просторной и удобной.
Постоянная зарплата, а также деньги, полученные за биографию отца, давали ему возможность жить, не задумываясь о тратах, однако без особой роскоши. Он не так много находился у себя, потому что большую часть времени проводил, погруженный в дела. Но ему нужно было иметь свою комнату, где бы он мог полностью расслабиться.
Наиболее важная часть обязанностей — что уже можно было заранее предугадать, — имела отношение к Южной Африке. Кэмпбелл-Баннерман хотел ускорить мирные переговоры с бурами, пообещав автономию их трансваальскому оплоту. Ему представлялось, что они воспримут это как щедрый дар и достойное вознаграждение за отвратительную войну. Консерваторы видели в этом предательство национальных интересов, полагая, что те, кто сражался с бурами, не простят такой измены. Черчилль поддерживал премьер-министра в смелом решении, и на его плечи легла вся работа по детальной и подробной разработке всех пунктов, чтобы нейтрализовать оппозицию.
С бурами — своими бывшими врагами, — он легко находил общий язык. А вот тори — его бывшие друзья — атаковали его с яростью. Что бы он ни предлагал относительно Южной Африки, все вызывало бурю гневных протестов со стороны оппонентов. В марте, когда в палате шло обсуждение деятельности лорда Милнера — главного комиссара в Южной Африке, разделявшего воззрения Чемберлена на имперские традиции, — консерваторы взорвались гневными криками возмущения. Они сочли, что оценка деятельности вернувшегося недавно чиновника умаляет его достоинство и уничижительна. А Черчилль высказался следующим образом: «Лорд Милнер вернулся из Южной Африки, и, судя по всему, навсегда. Он уже не будет заниматься государственной службой, лишится всех тех полномочий, которые имел. Он останется не у дел. Человек, управлявший событиями, которые имели историческое значение, теперь не сможет оказать ни малейшего влияния на самые незначительные явления в политике»… Это был тот случай, когда высокомерные риторические приемы подвели Черчилля.
Он ставил перед собой задачу — сделать выговор Милнеру за превышение служебных полномочий во время управления Южной Африкой, а затем — медленно и величественно, — Черчилль хотел заявить, что нет необходимости в данном случае укорять человека, пусть и лишенного власти и былого авторитета — в прошлых проступках. Он хотел указать, что Милнер злоупотреблял своим положением, однако — так Черчилль строил систему выводов, — было бы ошибкой «преследовать и возлагать вину на одного человека за старые ошибки» — давайте «похороним их в прошлом».
Но суть «ошибок» была очень серьезной. Владельцы шахт в Южной Африке помыкали своими работниками-китайцами, обращаясь с ними как с рабами, и служащие Милнера смотрели на происходившее насилие сквозь пальцы, не предпринимая ничего против порки и других телесных наказаний. Когда в палате лордов Милнеру задали вопрос, правда ли это, он ответил, что да. Он одобрял телесные наказания для поддержания порядка, но очень сожалеет об этом и считает, что был неправ.
Черчилль и другие лидеры либеральной партии хотели избежать в дальнейшем случаев насилия. Им совсем не хотелось втягиваться в длинные пререкания с тори относительно прошлого, в особенности, когда они были связаны с деятелем, прослужившим в колонии достаточно долго и пользовавшимся известностью в стране. Но в своем стремлении двигаться вперед и похоронить прошлое лорда Милнера, Черчилль проявил слишком много воодушевления. Тори не успели до конца понять, что он имеет в виду, и принялись кричать «Позор!». Для них не имело значения, злоупотреблял ли Милнер своим положением, был ли он виновен или нет. Консерваторы считали, что Черчилль — теперь оказавшийся на стороне победителей — теперь пытается унизить прежних чиновников и правительство, выставляя их мощи на посмешище.
Чем красноречивее выступал Черчилль, тем большую ненависть он вызывал у оппозиционеров. В ритмических повторах им слышалась заносчивость и самонадеянность. Сам звук его голоса, минуя доводы рассудка, раздражал их. Будучи побежденными, они не хотели видеть проявления великодушия с его стороны, и находили утешение, не давая ему говорить. В его словах они слышали только то, что хотели слышать, а его призыв урегулировать разногласия воспринимали как еще один оскорбительный выпад со стороны юного перебежчика.
Слишком ли густо положил краски Черчилль или нет, — трудно сказать, но тори покинули палату, кипя от гнева. Они и до того мечтали снять с него скальп, а теперь, почувствовав, что удобный момент настал, решили не откладывать возмездие. В первый раз он совершил промах, в первый раз открыл уязвимое место, и они тотчас запустили в него когти, чтобы он уже никогда не забыл про этот день.
Все же Уинстону под конец удалось высказать то, что он намеревался сказать: отказаться от каких-либо санкций против Милнера и оставить его прежние ошибки в прошлом. Но «в интересах мира и согласия в Южной Африке, в дальнейшем воздерживаться от насилия по отношению к отдельным людям». Заключительные слова поддержали его сторонники, представители других партий, но не тори.
Консерваторам предоставили возможность высказать все, что они хотели. Хладнокровие Черчилля, с которым он выдержал их нападки, вызывало большое уважение премьер-министра. Когда в начале лета Кэмпбелл-Баннерман не имел возможности из-за болезни жены присутствовать на окончательных дебатах по предоставлению автономии Трансваалю, он поручил Черчиллю заменить его.
Как и предполагалось, либералы легко одержали победу, подавив противников численным превосходством, но что особенно порадовало премьер-министра, это то, как спокойно, уверенно и в какой выдержанной манере Черчилль вел эти дебаты. Его поведение произвело большое впечатление даже на короля. Он признал, что Уинстон продемонстрировал полную зрелость, и счел нужным подбодрить молодого деятеля. «Его Величество, — уведомили Уинстона, — рад видеть в Вашем лице заслуживающего уважения деятеля министерства и более того — серьезного политика».
Изучая дела, связанные с Южной Африкой, Черчилль получил письмо от одного американского военного корреспондента, хорошо знакомого ему по Бурской войне. Ричард Хардинг Дэвис — один из самых почитаемых журналистов в Америке — мужественный, с квадратным подбородком, — побывал не только в Южной Африке. Он отправлял репортажи с театров боевых действий Испанско-американской и Русско-японской войн, описал несколько сенсационных преступлений, наводнение в Джонстауне, и сотни других историй, которые становились злобой дня. В тот момент, когда Уинстон получил от него письмо, Ричард уже не был военным корреспондентом. Он писал документальные книги, рассказывал о своих путешествиях, брал интервью у Уолта Уитмена и состоял почетным членом «Мужественных всадников» Рузвельта [22].
В юности, когда ржавчина цинизма еще не проела его, Генри Луис Менкен, известнейший американский журналист, бесконечно восхищался Дэвисом, считая его «героем нашей мечты».
Однако в 1906 году сам Дэвис решил выставить героем своей очередной книги Уинстона Черчилля. «Сейчас я пишу книгу под названием «Настоящие солдаты удачи», — признавался он в письме, отправленном с его фермы, расположенной в Маунт-Киско, штат Нью-Йорк. — Их будет шесть человек. И мне хочется включить и тебя в их число. Юноша, который успел принять участие в четырех войнах, дитя удачи и солдат удачи, надеюсь, он получится достаточно ярким и выразительным».
Если бы о том зашла речь год или два тому назад, Уинстон только порадовался бы такому предложению. Но сейчас он прилагал все усилия для того, чтобы к нему относились со всей серьезностью как к государственному человеку, как к поборнику мира и человеку, понимающему все проблемы империи. И в такой момент оживление образа бесшабашного Уинстона, в особенности с титулом «солдат удачи», как именовали наемников, выглядело весьма некстати. Ему и без того хватало критиканов, которые при всяком удобном случае попрекали его, называя «бессовестным перебежчиком», не способным хранить верность партии.
Однако у Черчилля не было рычагов власти, которые могли бы приостановить публикацию книги. Глава о нем «уже была наполовину закончена, — как сообщал Дэвис, — оставалось только добыть нужные сведения, порывшись в старых подшивках нью-йоркских газет. — Бьюсь об заклад, что я знаю о раннем периоде твоей жизни намного больше тебя самого».
Подобное заявление способно вызвать нервную дрожь у любого политика, не только у Черчилля, которого весьма тревожило, что Дэвис раскопал много моментов из его личной жизни, о встречах и знакомствах в Южной Африке, а потом в Лондоне. К тому же Дэвис был другом Этель Барримор с юности, можно сказать, стал ей почти братом. В письме от 4 мая он сообщил Уинстону, что «мисс Бэрримор была очень больна. Она с трудом пришла в себя после операции по удалению аппендицита, но после того, как пожила у нас на ферме, заметно окрепла». Итак, с одной стороны, известный американский журналист за своим письменным столом описывает жизнь Черчилля, а в нескольких шагах от него одна из женщин, в которую он был влюблен, приходит в себя после операции. Что ему оставалось? Только надеяться на то, что и Этель, и столь неожиданно явившийся биограф расскажут о нем только хорошее. Внушала надежду и одна строчка Дэвиса: «Надеюсь, ты не забудешь меня, когда станешь премьер-министром».
XII. Частная жизнь
В начале августа 1906 года, после нескольких месяцев напряженной деятельности, когда ему приходилось выдерживать нападки тори, Черчилль позволил себе отдохнуть и немного похулиганить. Он принял приглашение друга детства, и провел у него первую неделю в роскошном курортном местечке — на северном берегу Нормандии — в Довиле. Его друг — барон де Фореста, — весьма удачно женился на прелестной и весьма состоятельной женщине. Их яхта с паровым двигателем была одной из самых крупных яхт такого типа. Уинстон плавал на ней, играл в поло, но вечера проводил в большом казино, где играл каждую ночь до пяти утра. Ему везло. И в конечном итоге он выиграл 260 фунтов — сумму, почти равную его двухмесячной зарплате в министерстве по делам колоний.
С этим выигрышем в руках он отправился в Париж, чтобы там окунуться в ночную жизнь и купить несколько французских книг. Затем он отправился в уединенное шале сэра Эрнеста Касселя в Швейцарских Альпах, где насладился от души вкуснейшей и изысканнейшей едой, какую готовят во Франции, взобрался на Эггисхорн — вершину высотой почти десять тысяч футов. «Изнуряющий подъем, — писал он Дженни, — без помощи мула мне бы не удалось дотемна вернуться домой».
В середине сентября, чтобы напитаться солнцем, он приехал в Венецию, где встретил Мюриэль Уилсон, которая любезно согласилась провести неделю вместе с заместителем министра по делам колоний. Присоединившись еще к одной паре, они отправились попутешествовать по Тоскане, рассекая эти сельскохозяйственные районы на легковом автомобиле с невероятной скоростью — сорок миль в час. Их отношения с Мюриэль были теплыми и нежными, если не считать одного момента. В их путешествии присутствовали все романтические ингредиенты — изумительные виды, спящие деревушки, вино, красивые закаты и рассветы — однако настоящая романтика при этом отсутствовала.
Мюриэл была такой же красивой и обаятельной, как всегда, но по-прежнему оставалась недоступной. Черчиллю отводилось лишь роль друга. Впрочем, он особенно и не сетовал. Он жил как принц, полностью наслаждаясь заслуженным отдыхом. Но он не только развлекался. В середине отпуска он приехал в Силезию, чтобы понаблюдать за военными маневрами немецкой армии. Это была возможность поближе увидеть военную машину, которая представляла серьезную угрозу миру в Европе, хотя кайзер Вильгельм II убеждал, что не хочет ввязываться ни в какую войну, особенно в войну с Британией, где правил король Эдуард VII, его дядя. «Мы воинственный народ, но мы не любим воевать, — дипломатично заявил Вильгельм британским газетчикам. — А вот вы любите воевать, не будучи воинственным народом».
Идея посетить военные маневры принадлежала Уинстону, но немцы восприняли благожелательно его интерес, и германский посол в Лондоне все устроил наилучшим образом. Кайзер подписал официальное приглашение, Уинстон становился на всю неделю его личным гостем. В посольстве ему посоветовали по такому случаю облачиться в военную форму британской армии.
И вот в течение недели на полях и в лесах Силезии, а затем на южной границе Германии, майор Уинстон Черчилль, восседая на лошади, наблюдал за тем, как проводятся тактические учения — в них принимало участие пятьдесят тысяч немецких пехотинцев, артиллеристов и кавалеристов. Несколько лет он поддерживал свои военные связи через добровольческую конницу территориального резерва, участвуя летом в коротких тренировочных занятиях с Собственным Королевы Оксфордширским гусарским полком [23] в Бленхейме и других лагерях, расположенных поблизости. Это выглядело забавно, однако полк гордился собой, и считал себя серьезной военной силой. Данной точки зрения придерживался и Уинстон. Он выглядел весьма внушительно, когда 6 сентября шагнул на платформу вокзала в Бреслау, демонстрируя свою военную форму: кавалерийские сапоги, саблю, темные брюки и китель, белую фуражку с черным козырьком.
Визит Уинстона беспокоил короля Эдуарда, и он попросил премьер-министра написать письмо с наставлениями. Что тот и сделал: «К. просил меня предупредить тебя перед маневрами, — писал Кэмпбелл-Баннерман, — чтобы ты был более сдержанным и не слишком доверял его племяннику». Вовремя данный совет, поскольку Вильгельм как раз намеревался добиться от Черчилля доверительности. Так что он получил весьма поучительный тактический урок в Силезии, столкнувшись с обаятельной агрессивностью, направленной на него.
По распоряжению Вильгельма Черчиллю выделили отличную комнату в комфортабельном старомодном отеле в Бреслау. В качестве почетного эскорта ему в распоряжение выделили армейского капитана, каждый вечер его обильно потчевали на офицерских банкетах. Кайзер выписал специальный пропуск, позволявший Уинстону осматривать новейшие образцы германского артиллерийского вооружения, и приглашал его присутствовать на полевых совещаниях вместе с генералами своей армии. Облаченный в парадную форму и украшенный всеми регалиями, Вильгельм приглашал Черчилля встать рядом с ним, чтобы понаблюдать за учениями. Указав своим палашом в нужное место, он встал вместе с Черчиллем, чтобы фотографы смогли запечатлеть их таким образом, словно они совместно обсуждают план сражения.
Со своим начальственным видом и торчащими вверх усами он выглядел очень грозным. Однако с Черчиллем кайзер вел себя дружелюбно, почти по-отечески благодушно. «Как вам нравится наша прекрасная Силезия?» — спросил он на беглом английском. А затем принялся описывать все значительные сражения, что происходили в том ареале. Он преподал серьезный урок истории, ясно давая понять, сколько крови прольется вновь, если кто-то покусится выступить против Германии. «Здесь есть ради чего сражаться, — сказал он, обводя рукой окружающее пространство, — и ради чего стоит побеждать». Эти поля, говорил он Черчиллю, уже по щиколотку пропитаны кровью. А затем, наклонив голову, произнес еще более доверительным тоном: «Германия готова к войне и будет воевать, если ее толкнут на это».
Черчиллю пока не удавалось вставить ни слова. Кайзер обрывал его в самом начале, едва только тот начинал: «Давайте без громких слов, будем говорить начистоту». В конце концов, Черчиллю оставалось только стоять прямо и издавать одобрительные звуки. Вильгельм вел разговор сам.
Фотография, где они стояли рядом, обошла весь мир. «Дейли Миррор» перепечатала ее на половину газетного листа на первой странице. Кайзер был бы более доволен, если бы рядом с ним стоял его племянник — король Великобритании. Правда, в этом случае фотография выглядела бы менее драматичной — просто как времяпровождение во время отдыха.
Подобно многим другим опытным политикам, кайзер видел, как быстро продвигается молодой политик, занимая все более важные позиции, и что молодой майор в ближайшее время, если не завтра, может стать самым сильным противником немцев. И пока этот день не настал, будет весьма предусмотрительно произвести на Уинстона сильное впечатление о силе, боеспособности и духе германской армии. У некоторых британцев эта фотография вызвала только смех. Его снова восприняли как выскочку, который теперь делает вид, что встал на одну ступень с монархами, не подозревая, насколько мелким и ничтожным он выглядит рядом с кайзером, внушающим почтение своим отполированным шлемом, долгополым плащом с пелериной и длинным императорским палашом.
«Панч» не мог упустить такой возможности и пройти мимо. Через неделю или позже появилась неизбежная карикатура — с мальчишеским видом Уинстон указывал пальцем на Вильгельма и давал ему указания, как вести военные операции: «Подумайте, Ваше Величество, — эти слова Уинстона были обведены кружком, — если вы упустите какой-то важный момент на маневрах, — немедля обращайтесь ко мне!»
Если бы Черчилль осмелился высказать то, что он думает на самом деле, кайзер вряд ли был бы доволен. Но, как показалось Уинстону, войска, разодетые в разноцветные мундиры, играли в войну так, словно это было театральное представление, а не военное действие. Кавалерийские эскадроны, атаковавшие во весь опор со своими пиками, сверкающими на солнце, представляли собой красивое зрелище. Но Черчилль на собственном опыте знал, что современные виды оружия разнесут эти стройные ряды за несколько минут, нарушив порядок. Его личное участие в конной атаке под Омдурманом, позволило ему понять, насколько устарели подобные штурмы. «В мире больше никому не захочется быть такими дураками», — думал он, покидая поле битвы в Судане. И вот теперь германские войска демонстрировали ту же самую тактику, которой они придерживались в 1870-х годах, словно и слыхом не слыхивали о том, что уже наступил двадцатый век.
Смутный ропот из рядов офицеров все же доносился до его ушей, находились те, кто осознавал, насколько устарели эти методы, и что пора вносить новшества. Прошло несколько дней, но Черчилль так и не обнаружил ничего такого, что могло бы вызвать у него тревогу. И хотя ему было приятно внимание, которое выказывал кайзер, он все-таки счел, что пора отправляться дальше. Пребывание на учениях оказалось достаточно утомительным. Его измучила прусская точность и педантичность. Ни одной свободной минуты, с одного мероприятия на другое, с самого раннего утра до самой поздней ночи он был постоянно занят: «Мне с трудом удавалось немного поспать», — признавался он потом.
В своем докладе лорду Элгину он отмечал слабые места кайзера — любовь к театральным жестам и недооценка того эффекта, что производили современные виды огнестрельного оружия. Но он отдавал немцам должное за их превосходство в «численности, качестве, дисциплине и организованности». По его утверждению, это были «четыре верных пути к победе».
Почти два месяца ушло у Черчилля на путешествие по Европе, и когда он вернулся, вдруг оказалось, что семье угрожает скандал. Герцог и герцогиня Мальборо после одиннадцати лет семейной жизни выяснили, что терпеть не могут друг друга, и даже не пытались скрыть эту неприязнь. Санни слыл человеком, который не умеет держать себя в руках, а Консуэло — гордая американка — думала только о том, как бы бросить в лицо мужу побольше оскорблений, прежде чем повернуться к нему спиной. Оба обвиняли друга в эгоизме и неверности, и, наверное, оба были правы, хотя ревнивцу Санни мерещились любовники Консуэло уже под каждым стулом и диваном.
В Бленхейме бушевали буря, одна сцена следовала за другой. Проведя там неделю, писательница Перл Крейги — одна из подруг Дженни — сочла, что тамошняя атмосфера больше напоминала тюрьму, чем дворец. «Я бы не смогла там жить, — писала она, — я бы лучше умерла с голоду в мансарде, сохранив идеалы. В атмосфере дворца нет ни малейшего признака привязанности: бедный герцог выглядит больным, и сердце его разбито». В октябре они разъехались. Консуэло получила лондонский дом и укатила с отцом в Париж. Новость о семейных неурядицах тотчас разошлась кругами в светском обществе. А вскоре тема вышла в заголовки американских газет, которые с ликующим видом обвиняли вялого английского герцога, женившегося на невинной американке только ради денег.
Санни вполне мог закрыть глаза и пропустить мимо ушей эти обвинения, но они чернили все семейство и особенно могли сказаться на Черчилле. Тем более что отец Консуэло — Уильям Вандербильд — угрожал устроить судебное разбирательство. В этом случае отношения герцога и герцогини стали бы предметом обсуждения широкой общественности и отразились бы не лучшим образом на политической карьере Уинстона. С помощью матери он начал вести переговоры, убеждая их найти компромиссное решение.
К сожалению, Дженни не могла особенно помочь в этом. Со всей прямотой и честностью, она заявила, что Консуэло выбрала неверный путь, что вызвало ожесточение герцогини. Дженни писала ей резкие письма: «Я покинула твой дом с раной в душе, сколько раз я пыталась убедить тебя взять себя в руки, чтобы миновать опасные рифы семейной жизни, но ты отвернулась от меня — той, которая всегда была не только твоим верным другом, но и сестрой, принявшей тебя всем сердцем, и я никак не ожидала, что ты будешь вести себя подобным образом».
У Дженни и самой в это время хватало хлопот, связанных не только с женой Санни. Ее собственное замужество с Джорджем Корнуоллис-Уэстом, который был много младше ее, тоже дало трещину. Джордж все больше и больше времени проводил вдали от нее, то ссылаясь на дела, то отправляясь на долгую рыбалку или в загородную поездку. Он тоже потерял массу денег, сделав неудачное вложение, поскольку вообще очень плохо умел управлять финансами. «За то время, что мы прожили вместе, — писала он потом, — серьезные размолвки были связаны только с деньгами». Он считал, что траты вызваны стремлением Дженни выделиться, из-за ее «экстравагантности». Но в 1906 году он потерял 8000 фунтов исключительно по своей вине, и только обширные родственные связи не дали ему рухнуть на самое дно в ту же минуту.
Осложнения в собственной семье сделали Дженни менее терпимой и более мрачной. Она даже нападала на Уинстона, о чем потом сильно сожалела. Однажды, после очередной ссоры с ним, она не легла в постель, пока не отправила ему записку с просьбой о прощении. «Дорогой Уинстон, — писала она. — Не могу уснуть, не признавшись тебе, как я жалею о том, что обидела тебя, и что высказала то, чего не должна была говорить сегодня вечером. Я так устала и стала такой нетерпеливой. Ты всегда был так внимателен ко мне. Люблю тебя, мой дорогой!»
При таком положении вещей отношения матери и Консуэло даже ухудшились. Но Уинстон намного лучше понимал состояние молодой женщины и легко добился ее доверия. Консуэло говорила ему все, что думала, прислушивалась к его советам, а потом сама призналась, как она была признательна ему за помощь и поддержку: «Все, что ты говорил, было таким разумным».
Но никому не удавалось найти общий язык с Санни. В полном отчаянии, Уинстон обратился за помощью к Хью Сесилу, чтобы тот посоветовал, как найти подход к герцогу. Хотя Линки втайне гордился тем, что Уинстон просит его совета, он мало чем мог помочь, поскольку Санни, кажется, готов был идти до конца, лишь бы причинить как можно больше вреда репутации Консуэло, пусть даже при этом пострадает его собственная.
В конце концов Уинстону удалось добиться своего, и в начале 1907 года муж и жена пришли к более-менее мирному соглашению. Санни и Консуэло решили не обращаться в суд за разводом, а просто спокойно вести раздельную жизнь, не мешая друг другу. Они поделили опеку над детьми и только в 1921 году — когда оба сына выросли — герцог и герцогиня, наконец, развелись официально. Каждый из них потом вторично вступил в брак. Слухи об их взаимоотношениях продолжали витать в воздухе все то время, что они жили раздельно, но, к счастью, удалось избежать самого страшного, чего так боялся Уинстон в 1906 году — «катастрофы» в виде публичной разборки в суде.
Когда Консуэло взялась писать автобиографию в 1950 году, она, оглядываясь назад, видела Уинстона уже в роли премьер-министра, но ничего из того, что ей запомнилось в нем, не свидетельствовало о будущем государственном деятеле. Его отличие от Санни бросалось в глаза. Герцог сразу получил все то, ради чего Уинстону приходилось тяжело работать, но именно Санни выглядел обиженным и полным горечи — полной противоположностью того прозвища, которое получил. Конечно, Консуэло была пристрастна, но по ее мнению, в Санни проявился вырождавшийся дух старой аристократической линии, а Уинстон ее возрождал.