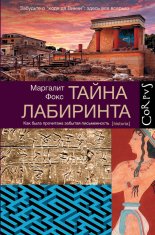Альберт Эйнштейн. Во времени и пространстве Сушко Юрий
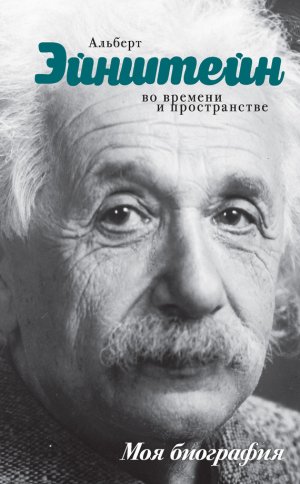
Однако же еще ничего не потеряно! Так почему бы не избрать Альберта Эйнштейна почетным академиком Белорусской академии наук? Покажем всему миру, что Минск ничем не хуже Оксфорда или Мадрида!
Настырность Громмера не знала границ. В конце концов, Академия наук БССР направила в ЦК родной партии ходатайство: «Фракцыя Прэзідыуму Бел. АН просіць даць згоду на выбар проф. Альберта Эйнштэйна до лік ганаровых акадэміків Бел. АН. Проф. А. Эйнштэйн зьявляецца самым выдатным міравым вучоным… Проф. А. Эйнштэйн дав таксама сваю прынцыпову згоду… Выбар проф. А. Эйнштэйна будзе мець буйное палітычнае і науковае значєньня для БССР…»
Но, увы. У Николая Федоровича Гикало была очень хорошая память. Но у товарища Сталина лучше.
«Убить Эйнштейна!»
– …Лекция окончена, – буднично и сухо объявил Эйнштейн и покинул аудиторию.
Студенты потянулись к выходу, еще не подозревая, что сегодня, 20 октября 1932 года, они в последний раз слушали своего профессора. Но для себя он уже принял окончательное решение. Домашним отвел месяц на сборы. Марго должна была, не привлекая лишнего внимания, максимально скрытно переправить весь архив отчима во французское посольство. С руководством миссии Эйнштейн уже договорился, что все бумаги уйдут в Европу дипломатической почтой. Эльза и Элен Дюкас собирали только самые необходимые домашние пожитки. Никакого барахла не брать, проявляя характер, требовал хозяин:
– Эльза, зачем тебе этот старый кофейник?! Неужели в Америке я не смогу купить тебе новый?..
Но, отправляясь на железнодорожную станцию в Потсдам, он все же посоветовал жене:
– Оглянись. Посмотри вокруг хорошенько. Запомни.
– Ты «Капут» имеешь в виду? Зачем? Почему?
– А потому, что этого ты больше никогда не увидишь…
– И Берлин тоже? И Германию?..
– Скорее всего, да.
В начале декабря из Бремена отчалил трансатлантический лайнер, следующий к берегам Соединенных Штатов. Эйнштейн, кутаясь в длинный теплый плащ, вышагивал по палубе, попыхивая сигарой. Эльза, слава Богу, оставалась в каюте.
Он не хотел вспоминать события последних месяцев, но ничего не мог с собой поделать. Один за другим покидали страну лучшие умы. Некоторые просто бесследно исчезали. Из учебников вымарывались фамилии ученых «неарийского» происхождения: не было, дескать, таковых, забудьте. Кое-кто уже называл теории Альберта Эйнштейна «еврейско-коммунистическим заговором в физике». Надежды на то, что все происходящее лишь временные симптомы дурной болезни, улетучивались с каждым днем.
Как вовремя подоспело изысканно вежливое напоминание калифорнийских коллег из технологического института о том, что мистер Эйнштейн, согласно контракту, заключенному еще осенью 1930 года, обязуется в качестве visiting professor вычитать в Пасадене двухгодичный цикл лекций. Для него, как для гражданина Швейцарии, открыта гостевая виза.
На этот раз Эйнштейну было не до познавательно-увеселительных поездок по Соединенным Штатам. Во-первых, строгий график лекций, который утвердил для себя «приглашенный профессор», а во-вторых, и это было определяющим, – события, происходящие в мире, вовсе не располагали к легкомысленным прогулкам. Зато на душу ложился покой при мысли, что его домочадцы будут безмятежно нежиться на солнечном берегу Атлантического океана.
Назначение нового рейхсканцлера Германии не стало для Эйнштейна неожиданностью. Он уже был готов к такому повороту событий и всем последствиям.
Уже через два дня после воцарения Гитлера на имперском троне Эйнштейн, поддавшись уговорам жены, обратился к руководству Прусской академии наук с просьбой выплатить ему полугодовую зарплату сразу, а не к началу апреля, как было оговорено ранее. Жизнь показала, что такая неожиданная предусмотрительность ученого была нелишней.
Анонимный доброжелатель угодливо переслал на дом ученому роскошно изданный альбом, посвященный врагам рейха. На одной из страниц был опубликован портрет нобелевского лауреата с красноречивой текстовкой-приговором: «Эйнштейн. Еще не повешен».
«А могли бы и сжечь, как Джордано Бруно, – невесело усмехнулся кандидат в висельники. – Все же как-то благородней, покрасивее… А так – язык набок, штаны насквозь мокрые. Неэстетично…»
А позже, просматривая свежую почту, вздохнул и ругнул себя: вот и накликал. В американских газетах публиковались снимки из ночного Берлина, где на площади Оперы, рядом со зданием университета, полыхал гигантский костер из книг. В огне гибли тома Вольтера, Спинозы, Маркса, Эйнштейна, сообщали репортеры. Хорошая компания, утешался великий физик. И думал: если какие-то книги запрещены и становятся недоступными потому, что политическая ориентация или национальность их автора неугодна правящим кругам, любой человек, а ученый-исследователь прежде всего, не сможет отыскать достаточно прочное основание, на которое он мог бы опереться. А как может стоять здание, если оно лишено прочного фундамента? Чушь!
Фашисты, конечно, не собирались ограничиваться словесными угрозами и кострами из книг. Толпа вооруженных людей ночью 20 марта 1933 года ворвалась в летний дом Эйнштейна в Капуте и объявила его конфискованным. Та же участь постигла и яхту «Морская свинка». Штурмовики СА разгромили и ограбили берлинскую квартиру ученого. Искали оружие. Но довольствоваться пришлось только двумя ржавыми тупыми кухонными ножами.
Бедная Эльза, вся в слезах, требовала от всемогущего мужа выступить с протестом, поднять мировую общественность и т. д., и т. п., и пр. Эйнштейн с улыбкой слушал причитания сварливой жены, и, как мог, утешал:
– Дорогая, там у меня оставались лишь яхта и подруги. Гитлер забрал только мою «свинку», что для последних, полагаю, явно оскорбительно…
Помолчав, добавил: «Пойми, это не наше бегство, а освобождение».
– Но, Альберт, ты же так радовался своей работе в Берлине, сам говорил, что такого количества выдающихся физиков нигде в мире больше не найти…
– Да, говорил. С чисто научной точки зрения жизнь там часто бывала приятной. Тем не менее, меня не оставляло ощущение, будто на меня что-то давит, и всегда было предчувствие, что добром все это не кончится.
27 февраля 1933 года своей сердечной подруге Маргарет Лебах он сообщил: «Из-за Гитлера я решил не ступать больше на немецкую землю… От доклада в Прусской академии я уже отказался». А вослед вчерашней гордости немецкой науки неслись торжествующие вопли оракулов из объединения «Немецкая физика»: «Релятивистский еврей, чья лоскутная математическая теория начинает мало-помалу разваливаться на куски, покинул Германию!»
В нью-йоркском консульстве Германии Эйнштейн долго наедине беседовал с высокопоставленным немецким дипломатом.
– Герр Эйнштейн, если вы не чувствуете за собой вины, с вами на родине ничего дурного не случится, – заверял германский консул. – Вас по-прежнему ждут.
Но когда официальная часть закончилась, дипломат, опустив глаза, тихо добавил:
– Теперь, когда мы можем поговорить по-человечески и я могу вам сказать, что вы поступаете именно так, как и следует поступать.
И поднес указательный палец к губам.
Потом пригласил в свои апартаменты, где жена уже накрыла столик для чаепития. Грация Шварц, обслуживая гостя мужа, обратила внимание: «Как будто что-то умерло в нем. Он сидел у нас в кресле, накручивал на палец белые пряди своих волос, говорил задумчиво о различных предметах… Не смеялся…»
При расставании консул, почти как заговорщик, вручил Эйнштейну один из последних номеров «Vlkischr Beobachter»: «Дома почитаете…»
Развернув газету, Эйнштейн тут же обнаружил знакомую фамилию своего вечного оппонента профессора Филиппа Ленарда. Наконец-то пробил и его звездный час! Ну что, мой старый друг, чем порадуете?
«Наиболее важный пример опасного влияния еврейских кругов на изучение природы представляет Эйнштейн со своими теориями и математической болтовней, составленной из старых сведений и произвольных дополнений. Сейчас его теория разбита вдребезги – такова судьба всех поделок, далеких от природы. Солидным ученым не избежать упрека: они допустили, чтобы теория относительности могла найти место в Германии. Они не видели или не хотели видеть, как можно выдавать Эйнштейна – в науке и в равной степени вне ее – за добропорядочного немца…»
На развороте – снова Ленард во всей красе. Открывая новый физический институт, глашатай «арийской физики» говорит: «Я надеюсь, что институт станет оплотом против азиатского духа в науке. Наш фюрер изгоняет этот дух из политики и политической экономии, где он называется марксизмом. Но в результате коммерческих махинаций Эйнштейна этот дух еще сохраняет свои позиции в естествознании. Мы должны понять, что недостойно немца быть духовным последователем еврея. Науки о природе в собственном смысле имеют целиком арийское происхождение, и немцы должны сегодня снова находить собственную дорогу в неизведанное».
Разумеется, отвечать Ленарду, комментировать это бред было бессмысленно. Тем более, вряд ли они там напечатают то, что хотелось бы сказать… А вот давнему другу Максу Планку изложить свои соображения давным-давно пора:
«Настало такое время, когда порядочный человек в Германии должен стыдиться того, как низко со мной здесь поступают… Объявленная война на уничтожение против моих беззащитных еврейских братьев вынуждает меня бросить на чашу весов все мое влияние, которое есть у меня в мире…
Чтобы Вы лучше меня поняли, я прошу Вас на минуту представить себе такую картину – Вы профессор в Пражском университете. И там приходит к власти правительство, которое лишает чешских немцев средств к существованию, одновременно путем насилия запрещает им покидать страну. Вдоль границы устанавливаются посты, которые стреляют в тех людей, кто хочет уехать без разрешении из страны, чье правительство ведет против них необъявленную войну на уничтожение. Считали ли Вы тогда правильным все это молчаливо принимать, не вступаясь за них? И разве уничтожение немецких евреев взятием их на измор не является официальной программой сегодняшнего немецкого правительства?»
Что мог возразить коллеге почтенный Планк, сам запертый в клетке, увенчанной свастикой? Ни-че-го. Впрочем, в мае 1933 года он как президент общества имени кайзера Вильгельма все же добился приема у рейхсканцлера и попытался убедить Адольфа Гитлера, что такие люди, как Габер или Эйнштейн, могут быть бесконечно полезны для страны. Он мягко настаивал, что, мол, существуют разные евреи, не стоит ко всем подходить огульно, что встречаются патриархальные евреи, которые свято чтут лучшие немецкие традиции, являются верными носителями ценностей истинно немецкой культуры. Вот, например…
– Все это чепуха! – Резко перебил ученого Гитлер. – Жид есть жид. Где есть один жид, там сразу собираются евреи всех мастей. И вы меня не переубедите! Мы обойдемся без ваших евреев!
На прощание Гитлер великодушно сообщил ученому мужу, что его самого от концентрационного лагеря спасает лишь преклонный возраст…
Берлинские власти, правда, не торопились удовлетворить прошение Эйнштейна о лишении гражданства. Добровольно отказаться от немецкого гражданства? Ну уж нет! Рейхстагом был спешно принят закон, согласно которому гражданство Германии отбиралось в порядке наказания всех «врагов рейха и немецкого народа». С лета 1933 года стали публиковаться особые «проскрипционные списки» тех, кто лишался гражданства великой Германии; Лион Фейхтвангер, Генрих Манн, Йоханнес Бехер, Альберт Эйнштейн…
Это мы лишаем вас гражданства, герр профессор! Вы его недостойны!
В Штатах Эйнштейн с готовностью откликнулся на предложение бойкой корреспондентки газеты «Нью-Йорк Уорлдтелеграм» Эвелин Сили прокомментировать события в Германии:
«Пока у меня есть возможность, я буду пребывать только в такой стране, в которой господствуют политическая свобода, толерантность и равенство всех перед законом. Политическая свобода означает возможность устного и письменного изложения своих убеждений, толерантность – внимание к убеждениям каждого индивидуума. В настоящее время эти условия в Германии не соблюдаются. Там как раз преследуются те, кто в международном понимании имеет самые высокие заслуги, в том числе ведущие деятели культуры и искусства. Как любой индивидуум, психически заболеть может каждая общественная организация, особенно когда жизнь в стране становится невыносимой. Другие народы должны помогать выстоять, противостоять такой болезни. Я надеюсь, что и в Германию скоро вернется здоровая атмосфера, и великих немцев, таких, как Кант и Гете, люди будут не только чествовать в дни редких праздников и юбилеев, но в общественную жизнь и сознание каждого гражданина проникнут основополагающие идеи этих гениев».
Нью-йоркское интервью было перепечатано ведущими мировыми изданиями. Эйнштейна напрасно считали наивным гением. Он гораздо быстрее многих политиков понял, что ожидает Веймарскую республику в будущем. Да и весь мир тоже.
А пока друг Чаплин с киноэкранов еще беззаботно потешался над Гитлером. Он говорил: «Его приветственный жест откинутой назад от плеча рукой с повернутой кверху ладонью всегда вызывал у меня желание положить на эту длань поднос с грязными тарелками. «Да он полоумный», – думал я…»
Но вот и Чарли прозрел: «Когда Эйнштейн и Томас Манн были вынуждены покинуть Германию, лицо Гитлера уже казалось мне не комичным, а страшным…»
Нацистов выводили из себя антифашистские заявления Эйнштейна. Геббельс развернул широкую кампанию с прямым призывом «Убить Эйнштейна!». За голову ученого была объявлена награда: пятьдесят тысяч марок. Эйнштейн, посмеиваясь, говорил друзьям: «А я и не подозревал, что моя голова стоит так дорого». В Германии его имя уже сделали синонимом предательства.
Прусской академии был предъявлен ультиматум: немедленно исключить Эйнштейна из своего состава. Однако академик умудрился всех перехитрить и загодя отправил свое заявление о выходе из академии:
«Господствующие в Германии в настоящее время порядки вынуждают меня сложить с себя обязанности члена Прусской академии наук. Академия в течение 19 лет давала мне возможность быть свободным от любых профессиональных обязанностей и целиком посвятить себя научной работе. Я знаю, насколько велика должна быть моя благодарность за это. С сожалением покидаю ваш круг творческих и прекрасных человеческих отношений, которыми я, будучи вашим членом, столь долгое время наслаждался».
Одновременно Эйнштейн обратился с открытым письмом в Международную лигу борьбы с антисемитизмом, в котором подчеркивал: «Акты грубого насилия и подавления, направленные против всех людей, свободных духом, а также против евреев, эти акты, которые происходили и происходят в Германии, разбудили, к счастью, совесть тех, кто остался верен идеям гуманизма и политической свободы».
Тут же последовал ответный ход. Рейхсминистр народного просвещения и пропаганды Геббельс объявил о начале общегерманской антиеврейской акции: «Мы часто поступали в отношении мирового еврейства милостиво, чего они вовсе не заслуживали. И какова же благодарность евреев? У нас в стране они каются, а за границей раздувают лживую пропаганду о «немецких зверствах», которая даже превосходит антинемецкую кампанию во время мировой войны. Евреи в Германии могут благодарить таких перебежчиков, как Эйнштейн, за то, что они теперь полностью законно и легально призваны к ответу!»
Закончив курс лекций в Калифорнии, Эйнштейн вернулся в Европу. Решил передохнуть, оглядеться и все-таки понять, что же ему делать дальше. В раздумьях о своей будущей судьбе Эйнштейн отправился в турне по городам Европы. Выступил с лекциями в Брюсселе, Цюрихе, Глазго. В английском порту, заполняя иммиграционную карточку, в графе «профессия», Эйнштейн, недолго думая, черкнул – «профессор», в в графе «национальность» скромно указал – «швейцарец».
(Напомню, еще в 1896 году 17-летний Эйнштейн решил перестать быть немцем, перебравшись в Швейцарию. Тогда ему удалось решить все вопросы за пять минут и три марки. Все годы учебы в политехникуме он обходился без всякого гражданства. В 1901-м, уплатив 1000 марок, стал швейцарским гражданином. Позже ученому пришлось некоторое время побыть австрийцем. Полтора года – с апреля 1911-го по октябрь 1912 года – Эйнштейн работал профессором в Немецком университете Праги. Чтобы выполнить формальности, на этот период он получил гражданство Австро-Венгерской империи. После переселения в Берлин и получения звания академика Прусской академии наук ученому вновь вернулось «почетное немецкое гражданство», и с ним он без проблем путешествовал по миру. Даже Нобелевскую премию Эйнштейну вручали именно как немецкому физику.
Стало быть, Альберт Эйнштейн был австрийцем полтора года, американцем – 15 лет, немцем – 36 лет и швейцарцем 54 года. И всю сознательную жизнь он ощущал себя евреем. Но в то же время утверждал: «Я никогда по-настоящему не принадлежал ни к какой общности, будь то страна, государство, круг моих друзей и даже моя семья. Я всегда воспринимал эти связи как нечто не вполне мое, как постороннее, и мое желание уйти в себя с возрастом все усиливалось».)
Он обожал малые, уютные страны – Голландию, Бельгию, Швейцарию, которые, казалось, Богом были созданы для безмятежной жизни. Взвесив различные варианты, он принял приглашение бельгийской королевской четы провести какое-то время на живописном фламандском побережье. С королем Альбертом и его супругой Элизабет Эйнштейна связывали весьма добрые и неформальные отношения.
Впервые он побывал в их дворце еще в 1931-м. И после сообщил Эльзе: «Меня приняли с трогательной теплотой. Это люди на редкость чистосердечные и добрые. Около часа мы провели в беседе. Затем королева и я играли квартеты и трио (с английской дамой-любительницей и с преподавательницей музыки). Так промелькнули несколько приятных часов. Потом все ушли, а я остался один обедать с королями – вегетарианский стол, без прислуги. Шпинат и после небольшой паузы – жареный картофель с яйцом (они не знали заранее, что я останусь). Мне очень понравилось у них, и я уверен, что это чувство взаимное».
Кстати, после импровизированного домашнего концерта Эйнштейн торжественно заявил королеве: «Ваше величество, вы играли превосходно! Скажите, пожалуйста, для чего вам еще и должность королевы?..» Ученица блистательного маэстро Изаи смутилась, польщенная столь неожиданным комплиментом. Со своим венценосным тезкой – королем Альбертом, страстным альпинистом, Эйнштейн тоже быстро нашел общий язык, обсуждая особенности восхождений на швейцарские горные вершины.
Между царствующей особой Элизабет и ученым позже завязалась оживленная переписка. Королева со сдержанным восторгом вспоминала об их встрече, прогулках по парку и благодарила Эйнштейна за совершенно внятные объяснения своих физических теорий. Вскоре они стали обмениваться и стихотворными посвящениями друг другу. Вложив в конверт с письмом королеве некий прутик, Эйнштейн сопроводил послание четверостишием:
- В монастырском саду стоит деревце,
- Посаженное Вашею рукой.
- Оно посылает Вам с приветом свою веточку,
- Потому что не может двинуться с места.
Элизабет тут же откликнулась не менее лирично:
- Веточка принесла мне привет
- От деревца, которое должно оставаться на месте,
- Пот друга, который ее сорвал
- И доставил мне этим такое счастье!
- Тысячу раз кричу: «Спасибо!»,
- Меня слышат горы, море и небо…
- И молюсь сейчас, когда все камни пошатнулись,
- Чтобы один камень[1] таки остался невредим.
Королевская семья предоставила своему желанному гостю вблизи маленького фламандского городка Ле-Кок-Сюр-мер небольшую виллу «Савояр», которая сразу стала своего рода интеллектуальным приютом для беженцев из Германии. Его обитатели любовались серебристыми дюнами, которые, казалось, были подметены резким ветром, и свинцовыми морскими волнами, которые размашисто накатывали на берег. А домик отзывался, как раковина, на все звуки: скрип шагов, звон посуды, перестук пишущей машинки и, конечно же, шелест волн… Ну а охранники, приставленные заботливым бельгийским правительством для безопасности Эйнштейна, старались быть совершенно незаметными.
Ведь случались и гости-сюрпризы. Нежданно-негаданно из самой Вены прикатила навестить Эйнштейна неугомонная госпожа Лебах. Правда, на сей раз Маргарет обошлась без традиционных ванильных булочек для Эльзы. Тем не менее было так приятно провести с этой энергичной блондинкой несколько дней, поболтать, побродить по теплому песку.
Встречая друзей из Германии, Швейцарии, Чехии, Голландии (куда только не заносила «вечного странника» судьба), Эйнштейн на правах «старожила» на все лады расхваливал Ле-Кок-Сюр-мер:
– Это самое чудесное местечко на всем побережье Фландрии. Вам здесь непременно понравится. Улочки городка располагают к неторопливым прогулкам и размышлениям. И знаете почему? Тут их называют только именами великих людей. Вы сами в этом убедитесь, когда с улицы Данте свернете на улицу самого Шекспира, а потом пересечете улицу Рембрандта. Зато, как ни старайтесь, не отыщете улиц Тенистых или Антенных, или имени господина Ломбертса…
– А это еще кто?
– Не знаю. Но, кажется, был здесь когда-то такой мэр. Или штангист, или судья. Не имеет значения. В их честь тут улицы, слава Богу, не называют…
Много позже, в рождественские дни 1951 года, Эйнштейн с грустью писал королеве Элизабет: «Велико мое желание вновь увидеть Брюссель, но скорее всего, такой возможности мне уже больше не представится. Из-за моей специфической популярности кажется, что все, что я ни делаю, превращается в нелепую комедию, что вынуждает меня держаться поближе к дому и редко покидать Принстон.
Я больше не играю на скрипке. С годами становится все более невыносимым слушать собственную игру. Надеюсь, Вас не постигла та же участь. Что еще остается мне – это бесконечная работа над сложными научными проблемами. Волшебное очарование этой работы останется со мной до последнего вздоха…»
Но тогда умом и сердцем Эйнштейн чувствовал приближающуюся опасность. Нацисты были уже совсем рядом, на пороге. Голландского коллегу, господина де Хасса он предупреждал: «Положение в Германии страшное, и не видно никаких изменений. Из надежных источников я слышал, что изо всех сил изготавливаются военные материалы. Если этим людям дать еще три года, с Европой произойдет нечто чудовищное, что сейчас еще можно было бы энергичными экономическими акциями предотвратить. Но мир, к сожалению, ничему не учится у истории».
Пристально наблюдая за событиями, которые разворачивались в Европе, Эйнштейн уже не верил, что один лишь отказ от воинской службы способен принести ощутимую пользу человечеству. Он видел: нацистское зло можно победить только силой.
– И как это можно примирить с вашим пацифизмом, господин Эйнштейн? – атаковали его вчерашние сторонники.
Эйнштейн пытался объяснить:
– Мои убеждения принципиально ничуть не изменились. Но в сегодняшних условиях, будь я бельгийцем, я бы не отказывался от воинской службы, а, напротив, охотно принял бы ее с чувством, что защищаю европейскую цивилизацию. Когда речь идет о жизни и смерти – надо бороться!
Даже известный бельгийский пацифист Альфред Нахон под влиянием идей Эйнштейна публично объявил, что добровольно записался на воинскую службы.
Правда, некоторые вчерашние соратники восприняли новую позицию своего духовного собрата почти как измену. Тот же Ромен Роллан с сожалением писал Стефану Цвейгу: «Эйнштейн как друг в некоторых вещах опаснее, чем враг. Он гениален только в своей науке. В других областях он глупец. Верить самому и убеждать молодых людей поверить, что их отказ от воинской службы может остановить войну, было преступной опасностью, так как очевидно, что война все равно придет, хоть по трупам мучеников. Теперь он делает крутой разворот и предает военных отказников с тем же легкомыслием, с которым их раньше поддерживал».
Но как же наука? Перебирая заманчивые предложения из Иерусалима, Мадрида, Лейдена, Парижа, Эйнштейн делился сомнениями с другом юности Соловиным: «Мне уже предложили столько профессорских мест – у меня столько разумных идей в голове не наберется».
Напрасно скромничал гений. Ведь сам же повторял не раз: Бог не играет в кости. Есть случайность и есть неизбежность.
Альберта Эйнштейна ждала Америка.
Но он продолжал подначивать Макса Борна: «Я очень хорошо понимаю, почему вы считаете меня «упрямым старым грешником», но ясно чувствую, что вы не понимаете, как я оказался в одиночестве на своем пути. Это вас, конечно, позабавит, хотя навряд ли вы способны верно оценить мое поведение. Мне доставит большое удовольствие изорвать в клочья вашу позитивистско-философскую точку зрения».
«Мой муж – гений! Он умеет делать все, кроме денег…»
«Мой муж – гений! Он умеет делать все, кроме денег…» – назубок вызубрив эту хлесткую фразу, миссис Эльза любила щегольнуть ею в светском обществе, выдавая за свое умозаключение.
Еще в начале 1932 года в Америке у Эйнштейна состоялась встреча с Абрахамом Флекснером, который вынашивал идею создания в Принстоне уникального научно-исследовательского центра – Institute for Advanced Study – Института высших (стратегических) исследований. Финансовые вопросы брали на себя амбициозные мультимиллионеры Эдгар Бамбергер и Феликс Фульд. Требования меценатов были просты: в институте должны быть собраны звезды первой величины.
Обладая карт-бланшем, Флекснер не скупился, сулил поистине королевские условия: профессор Эйнштейн (в случае его согласия) назначался на должность руководителя исследовательской группы с пожизненным жалованьем и безоговорочным правом приглашать ассистентов только по своему усмотрению. И никакой лекционной, преподавательской нагрузки. Исключительно чистая наука.
Подумаю, обещал Эйнштейн при первой встрече, обязательно подумаю.
Подстегиваемый попечителями Абрахам Флекснер летом 1932 года вновь напомнил Эйнштейну о Принстоне.
– Как вы, профессор?
– Я принимаю ваше предложение. Но при одном условии.
– Пожалуйста.
– Я беру с собой своего ассистента Вальтера Майера.
– Какие могут быть вопросы?! Ведь мы же оговорили, что вы набираете себе тех помощников, которые вам необходимы.
– Хорошо, спасибо. – Эйнштейн замялся. – И еще один вопрос… Могу ли я рассчитывать на жалованье в три тысячи долларов в год? Или… Как вы считаете, может быть, я смогу прожить там у вас, в Америке, и на меньшую сумму?..
Услышав слова Эйнштейна, Флекснер от души расхохотался и объяснил, что названная сумма не обеспечит даже прожиточного минимума в Штатах. В общем, все финансовые проблемы мистер Флекснер предпочел обсуждать с куда более практичной миссис Эльзой. В результате ставка профессора увеличилась втрое – до 15 тысяч долларов.
Правда, сам Эйнштейн по-прежнему чувствовал некую неловкость. По его глубокому убеждению, безнравственно получать деньги только за свою исследовательскую работу, которая и без того приносит громадное моральное удовлетворение, является естественной потребностью каждого нормального ученого. И эти часы научного творчества должны обеспечиваться именно неустанными преподавательскими трудами: лекциями, семинарами, коллоквиумами, собеседованиями и консультациями со студентами, приемом экзаменов, участием в кафедральных заседаниях и пр. Однако, как обнаружилось, подходы американских работодателей были куда рациональнее…
Встречавшие на таможенном посту в Нью-Йорке представители Принстона вручили Эйнштейну письмо Флекснера со строгими рекомендациями: «…B нашей стране существуют организованные банды безответственных нацистов. Я советовался с местными властями и с правительственными чиновниками в Вашингтоне, и все они убедили меня, что для Вашей безопасности в Америке Вам следует хранить молчание и воздерживаться от публичных выступлений… Вас и Вашу жену с нетерпением ждут в Принстоне, но, в конечном счете, Ваша безопасность будет зависеть от Вашей собственной осторожности».
Флекснер не преувеличивал. Конечно же, далеко не вся Америка, как бывало прежде, с восторгом воспринимала весть о прибытии в страну великого ученого. Экстремистская организация «Дочери американской революции» жестко потребовала запретить Альберту Эйнштейну въезд в США: «Безбожникам и коммунистическим смутьянам не место в Штатах!», «Даже Сталин не связан с таким множеством анархо-коммунистических группировок, как Эйнштейн!». Бостонский кардинал О'Коннел аплодировал экзальтированным «дочерям», попутно предавая анафеме теорию относительности как «ложное, аморальное и атеистическое учение».
Впрочем, Эйнштейн на все выпады реагировал спокойно, а к истерике феминисток даже с юмором: «Прислушайтесь к тому, что вещают эти глубокомысленные, уважаемые, патриотические леди! Вспомните, что столицу могущественного Рима некогда спасло гоготанье гусынь… Никогда еще прежде мои попытки приблизиться к прекрасному полу не встречали такого яростного отпора!.. Но, может быть, они правы, эти бдительные гражданки? Может быть, и впрямь нельзя допустить присутствия в Соединенных Штатах того, кто пожирает полупрожаренных капиталистов с таким же аппетитом, с каким ужасный Минотавр на острове Крит некогда пожирал прелестных греческих девушек? Ведь он, этот опасный человек, в дополнение ко всему прочему, противится любой войне, за исключением неизбежной войны с собственной женой…»
Именно под жестким нажимом «собственной жены» профессор обзавелся недвижимостью в Принстоне, купив дом № 112 по Мерсер-стрит, который, в итоге, и стал для него последним пристанищем.
Своей корреспондентке – королеве Бельгии Элизабет, которая проявляла беспокойство о том, как он устроился на новом месте, Эйнштейн сообщал: «Принстон – замечательное местечко, забавный и церемонный поселок маленьких полубогов на ходулях. Игнорируя некоторые условности, я смог создать для себя атмосферу, позволяющую работать и избегать того, что отвлекает от работы. Люди, составляющие здесь то, что называется обществом, пользуются меньшей свободой, чем их европейские двойники. Впрочем, они, как мне кажется, не чувствуют ограничений, потому что их обычный образ жизни уже с детства приводит к подавлению индивидуальности».
Стремительно взлетел официальный статус ученого. В начале 1934 года Эйнштейна с супругой пригласил в Белый дом президент США Франклин Рузвельт. Когда неформальное, задушевное общение затянулось, выйдя далеко за рамки протокольной встречи, гостеприимные хозяева запросто предложили супругам остаться на ночлег в их резиденции. С той поры Эйнштейн получил негласное право на непосредственные контакты с лидером страны.
Видеть у себя в доме самого Альберта Эйнштейна почитали за честь весь свет Америки.
Вернувшаяся после сказочного путешествия с Рабиндранатом Тагором в Советскую Россию Марго все уши прожужжала домашним о своих московских впечатлениях. Среди тамошних «чудес света» она называла оригинальные работы «русского Родена» – скульптора Сергея Коненкова. Ей даже удалось познакомиться с мастером. Она демонстрировала репродукции его скульптур, говоря, что музой Коненкова является его супруга, несравненная Маргарита. Мы – тезки, смеялась Марго, и скульптор даже загадал желание, когда они, фотографируясь в его мастерской, оказались рядом.
И вот оказывается – Коненковы сейчас здесь, в Нью-Йорке!
Их появление на американском континенте имело занимательную предысторию. В 20-е годы минувшего века, «на заре туманной юности» советской власти западные «друзья Кремля» и прагматичные PR-менеджеры, знающие толк в «продвижении товара на рынок», настоятельно рекомендовали молодым лидерам молодой республики смелее заявлять о себе в Старом и Новом Свете, но не «достижениями народного хозяйства» (коих не было), а искусством. Вывозите за кордон свой балет, театры, устройте вернисажи современных живописцев и скульпторов, организуйте гастроли музыкальных исполнителей. Капиталовложения? Копеечные! Зато эффект – стопроцентный. Красную Россию станут узнавать. Учитесь, пока мы живы.
Успех выставки современного искусства Советской России в Нью-Йорке превзошел все ожидания Кремля. Широкая поддержка прессы была обеспечена. «Русское искусство – это ошеломляющее впечатление» – цитата из «New York Times». «Эти 1200 работ производят шок, представ перед глазами зрителя» – «New York American». «Выставка – потрясающее событие. Мы можем почувствовать настоящую русскую душу. Такой выставки в Америке еще не было» – вторили коллегам критики «Art News».
В составе делегации, сопровождавшей экспозицию, был и Сергей Коненков со своей Маргаритой. Когда через несколько месяцев срок их заокеанского путешествия подошел к концу, желания возвращаться домой у них почему-то не возникло. Используя завязавшиеся полезные знакомства в нью-йоркском генконсульстве СССР, Маргарита деликатно обсуждала варианты возможного продления «временного» пребывания в Штатах уже после закрытия выставки. Решение проблемы было найдено. В обмен, разумеется, на взаимные неафишируемые услуги. Обратная дорога в СССР для Коненковых растянулось на два с лишним десятилетия. Однажды скульптор туманно обмолвился: «Дорогой ценой я заплатил за несерьезное отношение к возвращению на родину…»
Но, обосновавшись в Нью-Йорке, «русский Роден» довольно быстро обзавелся прекрасной мастерской, усилиями Маргариты превращенный в экзотический светский салон. Сергей Тимофеевич соорудил там резной деревянный бар, виртуозно играл для гостей на гармошке. Статный, импозантный красавец с окладистой бородой, вскоре он стал одним из самых популярных портретистов-скульпторов Нью-Йорка. Конечно, во многом благодаря Маргарите, ее таланту общения, знанию английского, взявшей на себя функции менеджера, обеспечивающего получение престижных заказов для мужа. Для американской публики Коненков своей манерой работы был чрезвычайно интересен как яркий представитель русской скульптурной школы, носитель старых традиций. Работы мастера в дереве и вовсе стали сенсацией, названной скульптурной музыкой дерева.
Мастеру с удовольствием позировали многие знаменитости – ученые Лебб, Флекснер, Дюбуа, Ногуччи, Майер, члены Верховного суда США Холмс, Кардадо, Стоун, выдающийся дирижер Артуро Тосканини, легендарный авиатор Чарльз Линдберг, голливудская звезда Айно Клер, русские эмигранты – Шаляпин, Рахманинов…
В 1935 году порог нью-йоркской мастерской Коненкова впервые (и вовсе не по своей инициативе) переступил Альберт Эйнштейн. Администрация Принстонского университета заказала русскому мастеру бронзовый бюст своего самого выдающегося профессора, нобелевского лауреата.
К тому времени Маргарите уже удалось непринужденно выйти из тени мужа и оказаться в центре внимания светской публики. В немалой степени тому способствовали откровенные работы Коненкова «Струя воды», «Вакханка», «Бабочка» и другие, для которых грациозная «дворяночка из Сарапула» позировала обнаженной. Работы имели колоссальный успех, а главное – были легко узнаваемы. Глядя на Маргариту, мужчины вспоминали скульптуры, млели, таяли, теряли головы и бесстыдно раздевали хозяйку глазами. Но, Боже, как же хотелось и руками…
Конечно, уговорить Эйнштейна потратить драгоценные часы, а то и дни! – на сеансы позирования было крайне непросто. Лишь однажды ученый согласился на подобную «экзекуцию», и лишь потому, что какой-то несчастный безвестный художник взмолился: портрет знаменитого ученого с натуры помог бы ему избавиться от нищеты.
В случае с Коненковым сработали другие факторы. Во-первых, официальный заказ администрации Принстона. Во-вторых, высочайшее искусство скульптора, в чем ученый убедился, осмотрев работы в его мастерской. И, наконец, в-третьих, неземной красоты женщина, с которой можно было непринужденно общаться во время этих чертовых многочасовых сеансов. Позже Альберт признался, что в ее глазах увидел «отблеск Бога». А Маргарита своей природной женской интуицией сразу ощутила, что этот Эйнштейн – далеко не бесполый ангел, витающий где-то в своих заоблачных высях, и в его глазах прочла не «отблески», а желание.
«Когда Сергей Тимофеевич работал над портретом Эйнштейна, – вспоминала Маргарита, – тот был очень оживлен, увлеченно рассказывал о своей теории относительности. Я очень внимательно слушала, но многого понять не могла. Мое внимание поощряло его, он брал лист бумаги и, стараясь объяснить свою мысль, делал для большей наглядности рисунки и схемы. Иногда объяснения меняли свой характер, приобретали шутливую форму – в такую минуту был исполнен наш совместный рисунок – портрет Эйнштейна, – и он тут же придумал ему имя: Альмар, то есть Альберт и Маргарита».
Работа в мастерской действительно занимала немало времени. Для скульптора особенно важно было уловить по-детски искреннее изумление, которым время от времени озарялось лицо ученого. Эйнштейн же изнемогал под цепким, изучающим взглядом Коненкова, чувствуя себя какой-то подопытной особью. Маргарита то появлялась в мастерской, то вновь на время куда-то исчезала, но скоро возвращалась – уже с чайными чашками и пирожками на подносе.
– Прошу вас, господа. Передохните.
Мастер и натурщик присаживались к накрытому столу. Марго устраивалась рядом. Коненков, потирая руки, хитро поглядывая на Эйнштейна, однажды предложил: «Ну что, по пять капель?» Ученый поднял бровь. С появлением на столе огромной бутылки виски Эйнштейн вспомнил историю, некогда случившуюся с ним в бернском ведомстве духовной собственности, громко расхохотался и поведал своим новым друзьям о забавном крестьянине с его чудной пробкой-дозатором.
– Так что, по пять капель?!
– Да по такому случаю можно и по семь!..
Потом, за чаепитием, Эйнштейн живо расспрашивал Сергея и Маргариту об их далекой загадочной России, куда он так до сих пор еще и не добрался. Говорили, естественно, о политике, о тех ужасах, которые происходили в Германии.
– Крупные политические свершения нашего времени вызывают чувство беспросветности, в нашем поколении ощущаешь себя совершенно одиноким, – грустно констатировал Эйнштейн. – Мне кажется, люди утратили стремление к справедливости и достоинству, перестали уважать то, что ценой огромных жертв сумели завоевать прежние, лучшие поколения… В конечном счете, основой всех человеческих ценностей служит нравственность. Ясное осознание этого в примитивную эпоху свидетельствует о беспримерном величии Моисея…
Отношения Коненкова и Эйнштейна складывались достаточно ровными, уважительными. Каждый знал себе цену и с почтением относился к работе друг друга. Лишь однажды между ними едва не произошел конфликт на религиозной почве. Они втроем спускались в лифте, когда Коненков в лоб спросил Эйнштейна:
– А вы верите в Бога?
– Нет, – ответил физик.
– Ну и дурак, – не менее лаконичен был художник.
Хотя Маргарита не стала переводить последнюю фразу, но Эйнштейн ее и без того понял. И не забыл. Когда по его приглашению Коненковы гостили в Принстоне, он подробно изложил свои взгляды на религию и науку, их взаимоотношения.
– Я не верю в Бога как в личность и никогда не скрывал этого… Если во мне есть нечто религиозное, это, несомненно, беспредельное восхищение строением вселенной в той мере, в какой наука раскрывает его… Научные исследования исходят из того, что все на свете подчиняется законам природы. Это относится и к действиям людей. Поэтому ученый-исследователь не склонен верить, что на события может повлиять молитва, то есть пожелание, обращение к сверхъестественному Существу. Однако признаю, что наши действительные знания об этих законах несовершенны и отрывочны, поэтому убежденность в существовании основных всеобъемлющих законов природы также зиждется на вере. Дело не меняется от того, что эта вера до сих пор оправдывалась успехами научных исследований…
С другой стороны, каждый, кто серьезно занимается наукой, приходит к убеждению, что в законах природы проявляется дух, значительно превосходящий наш, человеческий. Перед лицом этого высшего духа мы, с нашими скромными силами, должны ощущать смирение. Занятия наукой приводят к благоговейному чувству особого рода, которое в корне отличается от наивной религиозности.
Я не могу представить себе персонифицированного Бога, прямо воздействующего на поступки людей и осуждающего тех, кого сам сотворил. Не могу. Не могу сделать этого, несмотря на то, что современная наука ставит под сомнение – в известных пределах – механическую причинность. Моя религиозность состоит в смиренном восхищении безмерно величественным духом, который приоткрывается нам в том немногом, что мы, с нашей слабой и скоропроходящей способностью понимания, постигаем в окружающей действительности. Нравственность имеет громадное значение – для нас, а не для Бога…
Знаете, друзья, я как-то давным-давно, лет пятнадцать назад, получил телеграмму от нью-йоркского раввина Герберта Гольдштейна с таким же вопросом: «Верите ли вы в Бога?» Там еще была смешная приписка: «Оплаченный ответ – 50 слов». Как сейчас помню, слов мне понадобилось вдвое меньше: «Ребе, я верю в Бога Спинозы, который проявляет себя в закономерной гармонии бытия, но вовсе не в Бога, который хлопочет о судьбах и делах людей». Мои взгляды, поверьте, ничуть не изменились.
Наука может создаваться только теми, кого обуревает жадное стремление к истине. Однако именно религия является источником этого чувства. Наука без религии хрома, а религия без науки слепа…
Внимавшему монологу Эйнштейна скульптору особенно пришлась по душе последняя фраза ученого. Инцидент был исчерпан. После этой встречи, вспоминал Коненков, нас на долгие годы связали теплые дружеские отношения.
Зоркий глаз и верная рука мастера Коненкова точно поймали основные черты облика гениального ученого. Дело было даже не во внешнем сходстве. «В портрете Альберта Эйнштейна удивительным образом смешались черты вдохновенной мудрости и наивного, чуть ли не детского простодушия, – отмечал тонкий критик Каменский. – Этот портрет в самом высоком смысле слова светоносен – искрятся широко раскрытые, думающие глаза, над которыми взлетели ломкие, тонкие брови; ласковостью солнечного полдня веет от теплой милой улыбки и даже небрежно разметавшиеся волосы над огромным, морщинистым лбом – будто лучи, несущие потоки радостного света. Живое, безостановочное движение великой мысли и доверчиво-вопрошающее изумление перед раскрывающимися тайнами гармонии бытия запечатлелись на этом потрясающем своей проникновенной выразительностью лице, таком добром, мягком, простом и в то же время озаренном силой и красотой пророческого ясновидения…»
Принстон, Мерсер-стрит, 112. 1936-й и другие годы
Осиротевший вдовец (Эльза умерла в конце 36-го года), Эйнштейн остался на попечении трех женщин, его верных ангелов-храпнительниц: сестры Майи, падчерицы Марго и, конечно же, Элен Дюкас.
Альберту Эйнштейну стоило немалых трудов уговорить Майю все же перебраться к нему в Америку. Она опасалась стать обузой для брата. А с другой стороны, самолюбие не позволяло пребывать в качестве неизбежного приложения к знаменитому Эйнштейну. Но напрасно. Альберт ценил ее интеллект, аналитический склад ума, гордился ее докторской диссертацией по проблемам романской филологии, и нередко именно младшей сестре, прекрасной слушательнице, он первой излагал свои новые идеи.
Марго… Он говорил о ней: «Я люблю ее так сильно, как будто она – моя родная дочь, может, даже сильнее». Что касается, мисс Дюкас, то стоит ли далее множить заслуженные комплименты?..
Благодаря стараниям женщин, которые его окружали заботой и чутким вниманием, Эйнштейн с уходом Эльзы не впал в уныние, и уже в декабре сообщал давнему другу и коллеге Максу Борну: «Я здесь прекрасно устроился, зимую, как медведь в берлоге, и, судя по опыту моей пестрой жизни, такой уклад мне больше всего подходит. Моя нелюдимость еще усилилась со смертью жены, которая была привязана к человеческому сообществу сильнее, чем я».
И как бы подводя итог своему солидному супружескому опыту, иронизировал: «…жить долгие годы не только в мире, но в подлинном согласии с женщиной – эту задачу я дважды пытался решить и оба раза с позором провалил».
В зрелом возрасте у него сложился более-менее устойчивый и щадящий распорядок дня. Около девяти спускался к завтраку, затем читал свежую прессу. В половине одиннадцатого неспешным шагом отправлялся в институт, где работал, как правило, до часа дня. После домашнего обеда обычно отдыхал. Далее следовало традиционное чаепитие, снова работа, почта или прием посетителей. Ужинал около семи. Затем в зависимости от состояния души и здоровья работал или слушал радио. Телевизор в доме отсутствовал. Общался с гостями. Иногда посещал кинотеатр, по-прежнему оставаясь поклонником картин Чаплина. Между одиннадцатью и полуночью ложился спать. По воскресеньям изредка совершал автомобильные прогулки с друзьями. Но с появлением Марго…
Неожиданно приехав на Мерсер-стрит, Маргарита остановилась на пороге кабинета:
– О, простите. Я, кажется, помешала…
– Вы?! Да это невозможно! – Эйнштейн учтиво встал из-за стола, целомудренно поцеловал даме руку и поспешил представить своему гостю. – Это – журналист из Колорадо, дорогая. Присядьте, пожалуйста, мы уже заканчиваем нашу беседу… Итак, вы спросили меня: «Какой самый главный вопрос может задать ученый?» Верно?
Журналист кивнул и приготовился записывать.
– Ну что ж… – Эйнштейн помолчал, а потом очень медленно произнес: – Главный вопрос может и должен быть таким: является ли Вселенная дружественной?
– То есть как? Вы полагаете это главным?
– Да! – Эйнштейн даже хлопнул ладонью по столу. – Потому что ответ на этот вопрос определяет то, что мы будем делать со своей жизнью. Если Вселенная является дружественной, то мы проведем свою жизнь, строя мосты. Если враждебной, будем строить стены. Вы удовлетворены, мой друг?
Журналист поспешно откланялся. Когда дверь за ним закрылась, Марго лукаво посмотрела на Альберта: «А я пока нет. Будем строить мосты?..»
Великий Эйнштейн был весьма изобретателен не только в научных изысканиях, но и в делах житейских, любовных хитростях и играх. Целых три года возлюбленные встречались лишь урывками, тайком. Чтобы получить легальную возможность проводить с Маргаритой летние месяцы и долго-долго оставаться с ней наедине, автор теории относительности сочинил Сергею Коненкову, по его мнению, убедительное письмо, в котором ставил его в известность о якобы серьезном недуге Маргариты. К письму прилагалось заключение врача – приятеля Эйнштейна, с рекомендацией для опасно больной женщины подольше времени проводить в местах с благоприятным климатом. Например, на берегу благодатного Саранак-Лейк. А то, что там постоянно снимал коттедж № 6 их добрый знакомый Эйнштейн, только облегчало возможность поскорее поставить на ноги прекрасную Маргариту. Регулярные прогулки по озеру на яхте всего того же отзывчивого господина Эйнштейна также пойдут на пользу занемогшей женщине…
Поверил ли Коненков увещеваниям ученого-физика и его приятеля-медика, неизвестно. Может быть, поверил. А возможно, и нет. Или же внял рекомендациям некой третьей, более авторитетной силы. Во всяком случае, никаких препятствий своей супруге на пути в Принстон Коненков не чинил.
Разумная Маргарита, щадя самолюбие мужа и одновременно остерегаясь его гнева, во время своих отлучек регулярно сообщала Сергею Тимофеевичу: «Дорогуся! Вчера я приехала к Маргоше и думаю побыть здесь до субботы. Вид у Марго ужасный. Она потеряла фунта. Эйнштейн сказал мне, что доктора подозревают у нее туберкулез гланд. Это прямо ужасно! Ведь они абсолютно в панике из-за европейских событий. Ожидают, что здесь тоже будет нацизм, и Марго собирается продать свой дм и бежать в Калифорнию. Штат Нью-Джерси и штат Нью-Йорк они считают самыми опасными в случае вспышки здесь национализма… Наши мышки воюют. «Крошка» и «Snow Boli» два раза сидели в карцере, но ничего не помогает. «Серая тучка», как всегда, мечтает, сидя на крыше… В среду я была у Сиппреля. Она лишь сообщила невероятную историю: жена «Собачкина» влюбилась в Узумова, и он в нее! Целую крепко. Маргарита.
P.S. Эйнштейн шлет тебе привет».
– Угу, – прочитав Маргошино послание, хмыкнул в седые усищи Коненков. – И ему – наше с кисточкой!
…Управляя яхтой, Эйнштейн чувствовал себе счастливым. Судно плавно скользило по глади озера Саранак, были послушны паруса, яркое солнце ласкало непокрытые плечи. А главное – рядом, в шезлонге, сидела очаровательная, самая замечательная спутница, и легкий ветерок шалил с ее волосами. Только ей, Марго, он мог доверить свои самые сокровенные мысли. А как же она умела слушать…
– Тебя не укачивает? – спросил он ее, когда они впервые оказались на берегу Саранакского озера.
– Вроде бы нет. А тебя?
Эйнштейн рассмеялся: «Морскую болезнь у меня вызывают не волны, а люди. Только боюсь, наша наука еще не нашла лекарства от этого недуга».
– А почему ты опять без спасательного жилета? – Марго знала, что Эйнштейн так и не научился толком плавать, и всякий раз старалась проверять его экипировку.
Но он был верен себе, оставаясь на борту в неизменном застиранном свитерке с пузырями на локтях, мятых холщовых брюках, подпоясанный обрывком веревки, и шлепанцах на босу ногу. Маргарита называла его «скрипачом под парусом».
– Дорогая, я же говорил тебе, коли мне суждено утонуть, то я это сделаю с честью, без всяких этих дурацких жилетов!
Ей нравилось терзать его вопросами. А ему разыгрывать роль умудренного вековым опытом старца:
– Знаешь, Марго, я еще юнцом, правда, не по летам развитым юнцом, прекрасно понял тщету и бесполезность того, на что большинство людей транжирят всю свою жизнь в глупой погоне за мирским, материальным благополучием. Это – не цель жизни. Это просто амбиции свиньи. Простите меня, люди. – Он посмотрел по сторонам, но берега озера были пустынны. – Подлинное счастье охватывает тебя, когда ты совершаешь открытие… И здесь важны не только знания, сколько твое воображение. Знания всегда ограниченны, а вот воображение способно охватить целый мир. Представь, тебе с детства внушают: то-то – невозможно. И не пытайся! Но находится невежда, которого этому не учили. Вот он-то и совершает открытия. Потому что знать не знает преград…
«Аль» представлял, как мучается его «Мар» в своих метаниях между ним и мужем; она знала, что нужна им обоим. Он понимал, что к нему Маргарита испытывает любовь-нежность, а к Коненкову – любовь-благодарность. Ведь тот был ее Пигмалионом, создавший из нее Женщину, превратив девочку-дворяночку в Личность. А он? Альберт пытался утешить, растолковывая свое понимание деликатности ситуации:
– Ты, наверное, знаешь, что большинство мужчин, как и большинство женщин, не являются моногамными по своей природе. И чем больше препятствий для удовлетворения этих желаний ставится на пути, тем с большей энергией люди их преодолевают. Заставлять человека соблюдать верность – это тягостно для всех участвующих в принуждении…
– Хочу курить, – тоном капризной девочки сказала Марго.
– У меня только трубка. Правда, где-то есть и сигары, – смутился Альберт. – Но для тебя они слишком крепки.
– Дай, – потребовала женщина.
Но ее партнер понял все по-своему. Опрокинул ее на спину и, как ребенок, жадно впился губами в ее грудь. Марго тихонько засмеялась, положила руки на его загорелые плечи и, уже не в силах сдерживаться, вонзила в них свои острые коготки, окрашенные сегодня в алый цвет.
– Еще!..
Потом, когда они отдыхали в шезлонгах на палубе легкокрылого ботика «Tinef»[2], Эйнштейн озадачил Маргариту неожиданным вопросом.
– Марго, ты ведь гораздо лучше меня ориентируешься в московской политической элите… Как ты считаешь, к кому я могу обратиться по одному щекотливому, очень важному вопросу?
– А что за проблема?
– Надо помочь одному достойному человеку. Его арестовали там у вас, в России. Он бежал из Германии, работал в университете в Томске, и вот такое недоразумение, заподозрили, что он немецкий шпион. Это чушь собачья, ручаюсь.
– Раз он беженец, иностранец, значит, я думаю, надо ходатайствовать перед Литвиновым.
– А кто это?
– Нарком иностранных дел. Максим Максимович. Если хочешь, я передам твое письмо через советское посольство. Так оно быстрее поступит в Москву, к самому наркому…
Господину Народному Комиссару
Литвинову М.М.
Москва, СССР
28 апреля 1938 г.
Глубокоуважаемый господин Литвинов!
Обращаясь к Вам с этим письмом, я выполняю тем самым свой долг человека в попытке спасти драгоценную человеческую жизнь. Речь идет о математике, профессоре Фрице Нетере, который в 1934 г. был назначен профессором Томского университета. 22 ноября 1937 г. он был арестован и препровожден в Новосибирск в связи с обвинением в шпионаже в пользу Германии. Два его сына были 20 марта 1938 г. высланы из России.
Я очень хорошо знаю Фрица Нетера как прекрасного математика и безукоризненного человека, не способного на какое-либо двурушничество.
По моему убеждению, выдвинутое против него обвинение не может иметь под собой оснований. Моя просьба состоит в том, чтобы Правительство особенно обстоятельно расследовало его дело, дабы предотвратить несправедливость по отношению к исключительно достойному человеку; который посвятил всю свою жизнь напряженной и успешной работе.
Если его невиновность подтвердится, я прошу Вас поспособствовать тому; чтобы и оба его сына смогли вернуться в Россию, чего они хотят более всего. Эти люди заслуживают особого к ним внимания.
С глубоким уважением Профессор А. Эйнштейн».
Кого, когда и о ком просил сталинского наркома наивный профессор? «Прекрасный математик и безукоризненный человек» Фриц Нетер к тому времени уже был казнен и покоился где-то в полуметровой могилке в колымской вечной мерзлоте. Сыновьям его, слава Богу, повезло больше: «особого внимания» Кремля они, к счастью, избежали. Им удалось добраться до Америки.
Как к последней надежде, к высшей инстанции, как к оракулу или пророку, обращались люди к Эйнштейну с мольбой о помощи. Когда все прочие возможности были испробованы, когда сильные мира сего капитулянтски поднимали руки, признавая свою беспомощность перед безжалостной мощью государственной машины любой страны, и Советского Союза в том числе.
И он не имел права никому отказать. Писал, надеялся, верил.
«Господину Иосифу Сталину,
Москва, СССР, 18 мая 1938 г.
Глубокоуважаемый господин Сталин!
За последнее время мне стали известны несколько случаев, когда ученые, приглашенные на работу в Россию, обвиняются там в тяжких проступках – речь идет о людях, которые в человеческом плане пользуются полным доверием у своих коллег за границей. Я понимаю, что в кризисные и неспокойные времена случается так, что подозрение может пасть на невинных и достойных людей. Но я убежден в том, что как с общечеловеческой точки зрения, так и в интересах успешного развития строительства новой России чрезвычайно важно, чтобы по отношению к людям редкостных способностей и редкостных же творческих сил обращались с исключительной осторожностью.
В этом плане я очень прошу Вас обратить внимание на дело, возбуженное против доктора Александра Вайссберга (Харьков). Господин Вайссберг – австрийский подданный, инженер-физик, работавший в Украинском Физико-техническом институте в Харькове. Очень прошу, чтобы в его случае был бы учтен отзыв о деятельности Вайссберга профессора Мартина Руэманна, руководителя лаборатории низких температур, который был передан в Наркомтяжпром весной 1937 г.
С глубоким уважением Профессор Альберт Эйнштейн».
Ответов из Москвы не последовало.
Но Эйнштейн продолжал надеяться. И внушал эту надежду другим.
В конце 30-х группу веселых нью-йоркских энтузиастов посетила шальная идея – отправить в 6939 год «бомбу времени» – своеобразное послание потомкам, замурованное в пустотелом стальном снаряде. «Бомбу» они собирались зарыть на 15-метровой глубине на окраине города, а на поверхности установить обелиск: извлечь послание через пять тысяч лет.
Кому доверить написать заветные сто слов потомкам? Дискуссий не возникло: Эйнштейну!