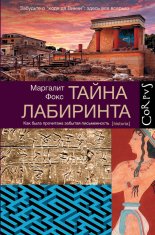Альберт Эйнштейн. Во времени и пространстве Сушко Юрий
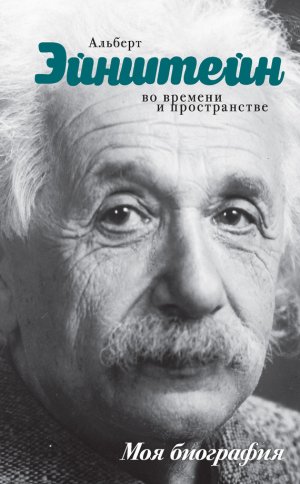
Довести свои планы до логического завершения чете Зарубиных помешали непредвиденные обстоятельства. В 1944 году супруги были срочно отозваны в Москву. Коненкова недоумевала: «Как же так, даже не попрощавшись, укатили неизвестно куда?..»
Куратором Маргариты в Нью-Йорке стал вице-консул советского представительства Павел Петрович Михайлов. Настоящая фамилия резидента Главного разведуправления Генштаба Красной Армии была Мелкишев. По странной прихоти начальства оперативным псевдонимом ему избрали фамилию великого французского драматурга – Мольер. Большие шутники служили на Лубянке. Или Михайлов вызывал ассоциации на тему «Мещанин во дворянстве»?..
Внезапно приехавший в Принстон Лео Сцилард не скрывал эмоций:
– Простите, профессор, я просто не знаю, но мне нужен совет… Формально я не имею права обсуждать с кем-либо, с вами в том числе, то, что собираюсь сейчас вам сказать. Формально, это так. Но по существу…
– Так говорите же, Лео, не тяните. Или не говорите вообще. И пойдем пить чай.
– Помните то письмо, которое вы в августе 39-го направляли Рузвельту?
– Ну, конечно. Я такие вещи не забываю, дорогой Сцилард.
– Так вот, я должен вам сообщить, что работы по созданию атомной бомбы уже находятся в завершающей стадии.
– Поздравляю.
– Но теперь возникает резонный вопрос: что делать с этой бомбой дальше? Гитлер практически на коленях, и по всему выходит, что наша «игрушка» вроде бы уже ни к чему И даже опасна. Ведь тогда, в 39-м, мы требовали ускорить работы по атомной бомбе, чтобы опередить немцев…
– У вас хорошая память, Лео. Так вот, тогда я говорил вам о возможности возникновения подобной патовой ситуации, – улыбнулся Эйнштейн.
– Конечно, помню. Но тогда мы все так были увлечены идеей создания нового сверхоружия против Гитлера, что никто не мог даже представить себе, что, в конце концов, мы упремся в трагический тупик.
– Не стоит говорить обо всех, Лео, – упрекнул молодого коллегу Эйнштейн.
– Да, простите. Тот самый Александр Сакс (ну, банкир с Уолл-стрит, который передавал тогда Рузвельту наше письмо) в конце прошлого года по просьбе «Манхэттенской» группы беседовал с президентом. Сакс изложил ему наши предложения, которые, скажем так, встретили сочувственное отношение.
В частности, физики предложили после окончательных испытаний провести публичную демонстрацию нового оружия в присутствии представителей союзных держав и нейтральных государств, затем они опубликуют от своего имени или от имени правительства краткое коммюнике с изложением сути открытия. И если к тому времени война еще не будет закончена, то тогда правительство США обратиться к правительствам Германии и Японии с требованием капитуляции. В случае отказа немцы и японцы будут оповещены о предстоящей бомбардировке с указанием ее места и времени. Противнику нужно будет предоставить время для эвакуации людей и скота.
– Шесть лет назад мы просили вас повлиять на президента с целью ускорить работы по созданию бомбы, – продолжил Сциллард. – А теперь я хочу, чтобы вы подписали наш меморандум Трумэну с просьбой воздержаться от поспешных действий. Вы согласны, мэтр? – Он протянул лист бумаги и авторучку.
Эйнштейн быстро пробежал текст и, не раздумывая, поставил свою подпись.
(Ученые так и не узнали, что новый президент США Трумэн не удосужился прочитать их послание. Конверт остался нераспечатанным на его рабочем столе.)
Перед отъездом Сциллард попросил разрешения повидаться с госпожой Коненковой. Когда Марго вошла в кабинет Эйнштейна, Лео вскочил, подбежал к ней и осыпал ее руки поцелуями: «Спасибо вам, спасибо». Потом быстро распрощался и укатил.
– Что случилось? – Эйнштейн был заинтригован.
– Да так, ерунда, – беспечно отмахнулась Маргарита. – Его брат Карл был у нас, в России, сидел в тюрьме. Ну, я ему немножко помогла.
– Его освободили?
– Не совсем. Просто перевели на другой режим. Он теперь работает по специальности в конструкторском бюро.
– У тебя такие богатые возможности, Марго?
– Не у меня, Аль, а у моих друзей.
– Лео – хороший парень, – задумчиво проговорил Эйнштейн. – Еще в Берлине он был моим студентом, и весьма прилежным. Не то, что я. А какая у него была блестящая докторская диссертация!.. Хотя вообще-то он прирожденный изобретатель. Мы с ним понапридумывали столько интересных штук – и холодильники, и рефрижераторы. Но, к сожалению, он невезучий, бедолага…
– А мы с вами везучие, Альбертль, как вы считаете?
– Конечно!
Однажды в разговоре с Маргаритой Лео как-то пожаловался, что его брат Карл, инженер, давно уехал в Москву, работал в каком-то конструкторском бюро, а потом внезапно пропал. И с тех пор от него нет никаких вестей. Маргарита рассказала о проблеме Сцилардов кураторам, а дальше – по цепочке – информация ушла в Союз. Спустя некоторое время в нью-йоркскую резидентуру из центра поступило сообщение: приговоренный Карл Сцилард из тюрьмы строгого содержания переведен в ЦКБ-29 авиаконструктора Андрея Туполева – т. н. «шарагу», тоже заведение тюремного типа, но с «правилами внутреннего распорядка» полиберальнее. Хотя и там, конечно, каждый пункт начинался со слов «запрещается», «не допускается», «возбраняется» и т. п.
Карл Сцилард оказался крайне полезным «врагом народа» – «наживкой» для брата Лео, на которую последнего можно было бы подловить. А он особо и не сопротивлялся…
– Знаешь, Марго, в отрочестве я был изрядным шалопаем. – Эйнштейн лежал рядом с Воронцовой, и его пальцы неспешно перебегали с обнаженной груди на ее теплый, упругий животик никогда не рожавшей женщины, потом руки возвращались к нежным плечам, а губы ласкали хрупкую ключицу.
– Я иногда ненавидел мать за то, что она заставляла меня учиться игре на скрипке. Я вообще терпеть не мог делать все, что нужно было делать по принуждению. Ты меня понимаешь?
– Конечно, любимый.
– Знаешь, я никому никогда не рассказывал. Говорю только тебе. Однажды даже чуть не ударил домашнюю учительницу своим стульчиком. До сих пор стыдно.
– А кто были твои родители?
– Мама была дочерью богатого штутгартского торговца кукурузой. Отец – Герман Эйнштейн называл себя коммерсантом. Но, я думаю, с коммерцией у него не очень ладилось. Сперва был совладельцем маленькой мастерской по производству перьевой набивки для матрасов. Потом в Мюнхене он с братом Якобом создали небольшую фирму по изготовлению электрооборудования. Даже занимались поставкой электрического освещения для знаменитого фестиваля Октоберфест, слышала о таком?
– Нет.
– Ну да. Но вскоре они прогорели. И тогда отец с мамой уехали в Павию, это городок под Миланом… Только и там у него ничего толком не вышло… В общем, еле сводили концы с концами.
После прогулки по фруктовому саду они долго сидели в беседке, болтая как бы ни о чем. Эйнштейн вспомнил о письме одной девочки, которая жаловалась ему, что ей с трудом дается математика и приходится заниматься намного больше других, чтобы не отставать от одноклассников. Она просила совета.
– И что же ты посоветовал бедной девочке? – спросила Маргарита.
– А что я мог ей посоветовать? – усмехнулся Эйнштейн. – Я ей посоветовал не огорчаться. И заверил, что мои трудности еще больше, чем ее.
– Умница, – улыбнулась Маргарита и попыталась пригладить взъерошенные волосы Альберта.
Вечером, после ужина, Эйнштейн играл на скрипке. Единственным слушателем была его Единственная. Потом, устроившись рядышком на любимом полукруглом диване, они говорили о музыке, о композиторах. Перебирая великие имена, Эйнштейн делился своими сомнениями:
– Затрудняюсь сказать, кто значит для меня больше – Бах или Моцарт. В музыке я не ищу логики. Интуитивно воспринимаю ее, не зная никаких теорий. Мне не нравится музыкальное произведение, если я не могу интуитивно ухватить его внутреннюю целостность и единство… архитектуры. О музыке Баха я могу сказать одно: слушать, играть, любить, почитать – и помалкивать.
– Мне кажется, ты должен любить Вагнера, Альбертль…
– Честно говоря, я восхищаюсь его изобретательностью. Но отсутствие у него четкого архитектурного рисунка рассматриваю как декадентство. Для меня его личность как музыканта неописуемо противна, так что большей частью слушаю его с отвращением.
– Альбертль… Но так нельзя.
– Только так и можно… Да, а ты слышала анекдот обо мне, который сейчас рассказывают все кому не лень?
– Нет.
– Так вот, я умер, предстал перед Богом. Бог мне говорит: «Ты великий ученый, я хочу наградить тебя. Чего ты хочешь?» А я его прошу: «Покажи мне, Господи, формулу Вселенной». Он подает мне скрижаль с длинной формулой. Я смотрю и вдруг вижу: «Господи! Но тут же ошибка!» – «Да знаю, знаю…», – сокрушенно вздыхает Бог.
– Смешно, – улыбнулась краешком губ Маргарита. – Но ты не умрешь. По крайней мере, пока я с тобой.
«Ты не умрешь, пока я с тобой…» Он подумал, что эта ее последняя фраза похожа на фальшивые слова из какого-то бродвейского спектакля. Да нет, у нас с Марго вряд ли что вечное может получиться. Ей нужен муж-поклонник, а мне – жена-домохозяйка, которая всегда рядом, которая встречает и провожает, кормит и купает, а в основном – ждет. И не мешает.
Но пока они наслаждались уединением, одиночеством вдвоем. Им было хорошо и покойно. Лежа в постели, лениво переговаривались. Покидали кровать лишь изредка. Шлепая босиком по теплому полу, Эйнштейн время от времени уходил в кабинет покурить, давно взяв себе за правило не дымить в спальне. Оставшись одна, Маргарита нежилась на смятых простынях, пытаясь восстанавливать в памяти детали вчерашней застольной болтовни Роберта Оппенгеймера с Альбертлем.
Оппенгеймер сетовал на трудности, которые переживала его суперсекретная лаборатория.
– …Я сам предложил генералу Гровсу это плато Лос-Аламос в штате Нью-Мексико. Еще в детстве я здесь учился в закрытом пансионе. Пустынная территория, равноудаленная и от атлантического побережья, куда германские подводные лодки иногда высаживают своих шпионов, и от населенных пунктов, жители которых могли бы пострадать в случае (тьфу-тьфу-тьфу!) ЧП во время проведения опытных испытаний. Поначалу мы с Гровсом предполагали поселить рядом с Лос-Аламосом примерно сотню ученых с семьями. Но уже скоро там находилось три с половиной тысячи сотрудников. А сегодня – более шести тысяч. Можете себе представить такой муравейник?..
Оппенгеймер лично занимался комплектованием научного коллектива, исколесил тысячи километров, чтобы встретиться с каждым потенциальным кандидатом, постараться убедить его покинуть насиженное местечко в университете или лаборатории, отрешиться от прежнего быта и перебраться в пустыню Нью-Мексико, и быть готовым к тому, чтобы оказаться отрезанным от всего внешнего мира.
Первые поселенцы старинного городка Санта-Фе – прежней резиденции испанских вице-королей – появились уже весной 1943 года. Их автобусом ежедневно доставляли на плато Лос-Аламос, покуда поблизости от лаборатории не выстроили дома.
– И когда же вы будете готовы выпустить джинна из бутылки? – просто из любопытства поинтересовался у своего молодого коллеги Эйнштейн.
– Я думаю, к середине июля все завершится.
«…Генерал Гровс…Плато Лос-Аламос, штат Нью-Мексико… Санта-Фе… Три с половиной тысячи сотрудников… Сегодня более шести тысяч… середина июля» – впечатывались в ячейки цепкой памяти Маргариты новые имена, географические точки, даты и цифры…
Все развивалось именно по прогнозам Оппенгеймера. 12 и 13 июля составные части снаряда «Фэт Мэн» («Толстяк») в строгом соответствии с совершенно секретным планом доставили в район Аламогордо и подняли на металлическую башню, стоящую, как морской маяк, посреди бескрайней пустыни. В два часа ночи 16 июля, после устранения ряда технических неполадок, все участники эксперимента заняли свои посты в пятнадцати километрах от «пункта ноль». Громкоговорители транслировали танцевальную музыку. Первоначально взрыв намечался на четыре утра, но погода испортилась, и пуск отложили на полтора часа. В пять пятнадцать все участники программы – ученые и «технари» – надели темные очки и улеглись ничком на землю, отвернув лица от «пункта ноль». В 5.30 ослепительный белый свет залил тучи и горы. Все!
Роберту Оппенгеймеру, который изо всех сил вцепился в одну из стоек контрольного поста, в эту поистине историческую минуту неожиданно вспомнились строки из древнеиндийского эпоса «Бхагават Гита»:
- Мощью безмерной и грозной
- Небо над миром блистало б,
- Если бы тысяча солнц
- Разом на нем засверкала…
Когда гигантское облако пыли высоко поднялось над местом взрыва, в памяти ученого пульсировали пророческие слова:
- Я становлюсь смертью,
- Сокрушительницей миров.
Саранак-Лейк, 6 августа 1945
Когда отважный капитан Эйнштейн пришвартовал свой парусник к мосткам, на берегу его поджидал знакомый репортер «Нью-Йорк тайме». Поздоровавшись, он сразу же взял быка за рога:
– Профессор, сегодня ранним утром атомная бомба сброшена на Хиросиму. Ваш комментарий?
– Какой ужас! – только и смог вымолвить ученый. – Этого нельзя было допускать!
Постоял молча, а потом медленно побрел к своему коттеджу. Дома, слава Богу, никого не было. Он никого не хотел видеть. Просто не мог.
Вечером сказал Маргарите: «Если бы я знал, что до этого дойдет, я бы лучше стал сапожником».
(Правда, позже изменил свое мнение и в разговоре с Оппенгеймером уже сожалел, что не следовало было бы отказываться от карьеры водопроводчика.)
Принстон, август 1945
…Альберт уснул, свернувшись в клубочек, как ребенок. Маргарита положила руку на его плечо и, засыпая, подумала: если бы он предложил мне остаться, то…
Перед этим они говорили о «зеленой палочке» Льва Толстого. Той самой, на которой был начертан секрет общечеловеческого счастья, и о других тайнах, которые могут быть открыты, если в течение часа не думать о делах обыденных.
А до того, утром, Альберт пригласил ее полюбоваться его клубничными грядками, кустами роз и барбариса:
– Это уже второй урожай. Учитывая здешний климат, их надо почаще поливать.
Он пошарил руками в зарослях бурьяна в поисках шланга, потом открыл кран и принялся за полив зреющих ягод, стараясь точно распределять воду межу кустиками клубники, чтобы не оставлять без влаги ни одного побега. «С математической точностью», – подумала Маргарита, идя в шаге перед Альбертом и попутно вырывая сорную траву.
Она настолько увлеклась своим занятием, что даже не услышала, как Альберт перекрыл кран и, бросив в траву шланг, подошел к ней сзади, вытер мокрые руки о свои холщовые штаны и обнял ее за плечи. Он уткнулся в ее теплую нежную шею и прошептал:
– Марго…
Ей порой становилось до слез жаль своего «Аль», которого нещадно донимали всевозможные просители, посетители, дальние и близкие родственники, друзья и мимолетные знакомые. Она знала, что он не принадлежит к тем мыслителям-олимпийцам, чей интерес к судьбам человечества сочетается с безразличием к судьбе конкретного человека, с которым он сталкивается в повседневной жизни. Он писал тысячи рекомендательных писем, давал советы сотням людей, часами мог беседовать с полоумным человеком, семья которого написала ему, что только он в силах помочь больному. Он был мил, добр, разговорчив, улыбался с необыкновенным радушием, но с тайным нетерпением ожидал сладкой минуты, когда наконец сможет вернуться к работе.
Эта тяга к одиночеству не сводилась исключительно к решению каких-то глобальных научных задач. Вовсе нет. Он признавался: «Страстный интерес к социальной справедливости и чувство социальной ответственности противоречили моему резкому предубеждению против сближения с людьми и человеческими коллективами. Я всегда был лошадью в одноконной упряжке и не отдавался всем сердцем своей стране, государству, кругу друзей, родным, семье. Все эти связи вызывали у меня тягу к одиночеству, и с годами стремление вырваться и замкнуться все возрастало. Я живо ощущал отсутствие понимания и сочувствия, вызванное такое изоляцией. Но вместе с тем ощущал гармоническое слияние с будущим. Человек с таким характером теряет часть своей беззаботности и общительности. Но эта потеря компенсируется независимостью от мнений, обычаев и пересудов и от искушения строить свое равновесие на шатких основах».
В последний раз она отправилась к Альберту в Принстон вполне мотивированно. Жила в его коттедже две недели, постоянно контролируя проблемы «упаковки багажа». К бесконечным дорожным хлопотам был привлечен советский вице-консул Павел Михайлов, что вполне естественно. Во всяком случае, он вооружил Коненковых официальным мандатом, которым предписывал всем советским учреждениям на территории США обеспечить беспрепятственный проезд супругов до Сиэтла, где их ждал корабль, а далее – из Владивостока до Москвы.
Михайлов настоял, чтобы его встреча с Эйнштейном состоялась не в Принстоне, а на дальнем озере. Вскоре Альберт Эйнштейн сообщает возлюбленной, что «Михайлов вновь передал мне привет. Кажется, симпатии взаимны». В следующем письме ученый сообщает Маргарите, что «в соответствии с программой» теперь уже он нанес визит «консулу». «Рекомендации и советы от Михайлова» регулярно упоминаются и в других его письмах.
На всякий случай Маргарита и на расстоянии нежно стимулирует душевное состояние своего законного супруга, сообщая ему:
«Дорогуся! Я была очень рада получить от тебя весточку. Ты пишешь, что Буржуа советует тебе для упаковки компанию Бодвордт. Но ведь я тебе тоже о них говорила. Я только боюсь, что эта компания очень дорогая. Если все же ты решил обратиться к ним, то, по всей вероятности, они заберут все вещи и упаковывать будут в их мастерской, где у них все приспособления. Ужасно меня удивляет и беспокоит, что консул ничего не предпринимает по поводу упаковки. Перед тем, как обратиться в Бодвордт, нужно, конечно, выяснить вопрос с консулом. Упаковка ведь будет стоить очень дорого. Всегда твоя Маргарита.
P.S. Дай крошкам в мою честь что-нибудь сладенького».
(«Крошками» именовались любимые крысята Маргариты).
19 августа она информирует мужа: «С Эйнштейном я еще не говорила о консуле. Боюсь, он не согласиться его принять, но я все-таки попробую… Только теперь чувствую, как ужасно я устала (устала на курорте! От чего?) и как мне необходим отдых».
Спустя два дня Маргарита, не скрывая раздражения, написала Коненкову: «Дорогуся моя! Сейчас написала маленькое письмо Пав. П. Михайлову (консулу) с сообщением, что Эйнштейн будет рад его видеть. Я все выжидаю удобную минуту (в смысле настроения!), чтобы спросить Эйнштейна об этом. Возможно, что консул будет тебе звонить, если действительно он думает приехать. Как-то ты, мой дорогой, и как мои зверьки? Меня ужасно беспокоит вопрос с упаковкой и т. д. Неужели ты до сих пор ничего не слышал от консула? Прямо жуть берет. Я же вот исполнила свое обещание – переговорила о нем с Эйнштейном и сразу же даю ему об этом знать…. Интересно, приедет ли консул? Я бы на его месте подождала бы до сентября и поехала бы к Эйнштейну в Принстон. Всего один час езды, а чтобы доехать сюда, нужно потратить так много времени и денег…»
Хотя мастеру было не до того. Он уже вовсю лепил, ориентируясь на газетные и журнальные фотографии, портреты выдающихся советских полководцев, героев войны – Жукова, Рокоссовского, Конева, Малиновского…
Не выпуская Коненкова из-под своего контроля, Маргарита по-прежнему нежно обращается к нему из принстонского «гнездышка» 27 августа: «Роднуся! Что же ты мне пишешь так редко? За все время я получила от тебя только 2 письма. 21 августа я писала тебе, что одновременно пишу и Михайлову, консулу, о том, что Эйнштейн сказал, что будет рад его здесь видеть. К моему удивлению, от Михайлова до сих пор нет ни слуха ни духа. Мне просто неудобно перед Эйнштейном, который несколько раз меня спрашивал, «когда же приедет ваш консул?». Ведь мог же он ответить, несколько слов, приедет он или нет. Я дала ему также телефон, по которому он мог бы меня вызвать, если он почему-то не хотел писать. Меня все время беспокоит вопрос об упаковке твоих скульптур. Действительно, Михайлов сказал, что ему поручено оказать всяческое содействие – но кто знает, что он подразумевает под этим «содействием». Во всяком случае, мне кажется, что дальше ждать нельзя и нужно поставить им вопрос ребром – будут они упаковывать или нет. Ведь время летит, а мы все на том же месте, даже паспортов в руках нет… Крепко тебя целую. Твоя Маргарита!»
Нью-Йорк, Гринвич-Виллидж, сентябрь 1945
…С превеликим трудом высвободившись из-под грузного потного тела Сергея, Маргарита поднялась с развороченной любовной схваткой постели, набросила шелковый халат и подошла к балкону. Пресытившись, он всегда мгновенно засыпал, а ей страшно хотелось курить.
Она села в кресло, на ощупь нашла спички, мундштук и сигаретки. Вспомнила, как Альберт все смеялся: «Мундштук» в переводе с немецкого – «деталь для рта». Прости, моя милая, но ты гораздо лучше пользуешься другой деталью для рта. Поверь мне, ты умеешь мастерски курить. Очень красиво и нежно.
Сегодня Сергей был чересчур грубоват и требователен. Она видела нависшее над ней его взмокшее от пота лицо с прилипшими ко лбу прядями седых волос, устремленные в какую-то пропасть глаза, приоткрытый в мучительной гримасе рот. А она заслоняла от него весь сторонний мир. Он тискал ее груди, тер соски, кусал шею, от его рук на бедрах оставались безобразные багровые синяки… Но все равно, ей было с ним тоже так хорошо.
…Маргарита Ивановна вышла на верхнюю палубу и, уютно устроившись в шезлонге, всматривалась в удаляющиеся берега Америки. Смотрела, но ничего не видела. Думала о своем. Вспоминала, как в день расставания Альберт надел ей на руку свои именные золотые часы и нежно поцеловал в губы. Оба понимали, что прощаются навсегда. И он, и она знали: это была их личная плата за «ядерное равновесие».
– Давай я напоследок помою тебе голову, – предложила Маргарита в их прощальный вечер. Она знала, что он обожал это действо, почти равнозначное интимному акту. Он буквально млел, таял под ее руками, иногда даже постанывал от удовольствия.
Альберт Эйнштейн, видимо, напрочь забыл о ветхозаветной филистимлянке Далиле, обольстившей и затем предавшей Самсона, проделав нечто непотребное с его волосами, в коих таилась сила героя. И вряд ли физик читал толкования христианского богослова Иоанна Златоуста, который писал: «Издревле в раю Диавол уязвил Адама женщиною… Женщиною мужественнейшего Самсона ослепил… Она предала иноплеменникам своего супруга, которого любила, ласкала, которому говорила, что любила его больше, чем себя. Того, кого вчера любила, ныне обольщает, кого вчера согревала лобзанием, ныне, обольщая, предает смерти…»
Стюард принес ей кофе, учтиво спросил, не желает ли гостья чего-либо еще. Получив отрицательный ответ, он удалился. Маргарита Ивановна достала из дорожной сумочки последнее письмо Эйнштейна, вновь и вновь перечитывая:
«Принстон. 8.XI.45
Любимейшая Маргарита!
Я получил твою неожиданную телеграмму еще в Нью-Йорке, откуда я смог вернуться только вчера вечером. Так тяжело задание, которое несет с собой большие перемены для тебя, но я верю, что все закончится благополучно. Хотя по прошествии времени ты, возможно, будешь с горечью воспринимать свою прочную связь со страной, где родилась, оглядываясь на пройденное перед следующим важным шагом. Но в отличие от меня у тебя есть еще, возможно, несколько десятилетий для активной жизни в творчестве. У меня же все идет к тому (не только перечисление лет), что дни мои довольно скоро истекут. Я много думаю о тебе и от всего сердца желаю, чтобы ты с радостью и мужественно вступила в новую жизнь и чтобы вы оба успешно перенесли долгое путешествие. В соответствии с программой я нанес визит консулу, и это доставило мне радость…
Я очень рад, что удалось вырваться из заботливых когтей медицины и вновь увидеть гнездышко, которое передает тебе сердечный привет… Здесь меня ожидает гора писем, так что работы, как и у моего соперника, хватает. Напиши мне скорее, если, конечно, у тебя есть время.
Целую. Твой А. Эйнштейн.
Твое письмо, отправленное с парохода, я также получил. Было очень приятно, что в последний момент перед отъездом ты вспомнила обо мне».
Она невесело усмехнулась: как же хитроумно Альбертль попытался все зашифровать. Мол, друг поймет, а враг озадачится. Во время последнего совместного отдыха на берегу Саранак-Лейк Маргарита все рассказала Эйнштейну. Ну, или почти все. (В общем, то, что санкционировало всеслышащее ухо Москвы, с одновременной директивой о возвращении назад, в Советский Союз.)
Маргарита говорила и говорила без удержу: «Альбертль, ты не понимаешь. Ты – гений, ты – другой. Ты – совершенно независимый человек, ты – единственный, ты сам по себе. А я? Я в прямой зависимости от всех. В сладкой – от тебя. В мерзкой – от самых страшных людей. Ты не представляешь себе… Вот ты же любишь Достоевского. Помнишь его «тварь дрожащую»?.. По-английски так не скажешь. Но это все обо мне… Мне горько, мне больно, мне печально…»
Она вытянула руку, чтобы в который уже раз полюбоваться золотыми часиками: тик-так, тик-так… Их мощный лайнер «Смольный» уверенно рассекал океанские волны, оставляя за собой белые буруны. На открытом воздухе становилось довольно прохладно, и Маргарита Ивановна вернулась в свою каюту.
Во Владивосток они прибыли в декабре 1945 года. Впереди Коненковых ждало долгое путешествие железной дорогой до Москвы. А еще разгрузка, перегрузка и прочие хлопоты.
«Только что сам вымыл себе голову, но без особого успеха. У меня нет твоих умений и аккуратности… Но как мне все здесь напоминает о тебе; Альмаров плед, словари и чудесная трубка, которую мы считали потерянной, и куча вещей в моей келье. Ну и, понятно, осиротевшее гнездышко…
Сердечные пожелания. Целую. Твой А.Э.»
Так Эйнштейн писал Маргарите 27 ноября 1945 года. Писал просто так, – в никуда. Но через месяц он вновь сообщал ей трогательные подробности своего уединенного бытия:
«У нас ничего не изменилось, и жизнь идет своим чередом с той лишь разницей, что я теперь каждое воскресенье сижу в одиночестве в своей хижине… Я все больше должен играть роль пожилой важной персоны, своего рода пожилого святого. В известной мере это прекрасно, если от этого многого не ждешь.
О господине Михайлове я больше ничего не слышал, но думаю, что ему наконец-то передали телеграмму в русскую академию. И мне очень любопытно, как пойдет дело дальше…
Я радуюсь вещам, которые ты мне передала и которые составляют мое окружение: голубой плед, браслет для часов, словари, карандаш и все остальное. С радостью жду твоих сообщений из нового мира…»
А еще через месяц пожаловался:
Я совсем запустил волосы, они выпадают с необычайной скоростью. Скоро ничего не останется. Гнездышко также имеет захудалый и обреченный вид. Если бы оно могло говорить, ему нечего было бы сказать. Я пишу тебе это, прикрыв колени Альмаровым пледом, а за окном темная-темная ночь…»
Ах ты, коварная искусительница Далила… Ну, а что же ты, забывчивый лохматый Самсон?..
Нью-Йорк, Принстон, декабрь 1945 – Москва, январь 1946
Участников чинного «нобелевского обеда» в ресторане нью-йоркского отеля «Уолдорф-Астория» отнюдь не смутил экстравагантный наряд почетного гостя: Альберт Эйнштейн был в рабочем свитере и мятых брюках. Но когда он попросил слова, публика насторожилась. Без резких заявлений он наверняка не обойдется.
– Мир выигран, – напомнил благородному собранию Эйнштейн. – Но мир не выигран!..
И уверенно обосновал свой тезис:
«Не будет преувеличением сказать, что судьба мира зависит сейчас только от широкомасштабного соглашения между этой страной и Россией… Могут возразить, что соглашение в нынешних условиях невозможно. Это было бы так, если бы Соединенные Штаты предприняли хотя бы одну серьезную попытку в этом направлении. Но разве не произошло совсем обратное?!. Не было никакой необходимости продолжать производство атомных бомб и выделять 12 миллиардов долларов на военные нужды, когда не предвидится никакой реальной угрозы для Америки…
Не было сделано ничего, чтобы рассеять подозрения России. А ведь эти подозрения легко понять, если вспомнить события последних десятилетий, – события, в которые мы сами внесли немалый вклад… Прочный мир может быть достигнут не путем угроз, но лишь посредством честных попыток утвердить атмосферу взаимного доверия, господа…»
Когда Роберт Оппенгеймер без всякой предварительной договоренности помчался в Принстон, он нисколько не сомневался: Эйнштейн непременно поддержит его идею объединения усилий ученых всех континентов и стран в разрешении нависающей атомной проблемы. Патриарх научного мира тихо сидел в любимом плетеном кресле, наслаждался ароматом гаванской сигары, отхлебывал небольшими глотками кофе и с отеческой доброй улыбкой смотрел на взволнованного Роберта.
– Бобби, что на этот раз случилось?
– Уважаемый мистер Эйнштейн, время не ждет. Мы должны… Обязаны обратиться к нашим русским коллегам. Они же тоже занимаются Бомбой. Я уже говорил с Юри, Лангмюром. Это должно быть коллективное письмо или телеграмма. Они не могут не быть солидарными с нашей тревогой.
– Я гляжу, Роберт, вы просто обожаете эпистолярный жанр, – усмехнулся Эйнштейн. – За свою жизнь я столько написал умных и глупых телеграмм и писем… Руки болят. Не хотите ли выпить чего-нибудь?
– Нет, спасибо.
– Ну, ладно, а то я уж думал, какой-то пожар… Давайте ваше письмо, если уверены, что оно в чем-то поможет общем делу, – по-прежнему мягко улыбаясь, сказал Эйнштейн. – Элен! Принесите нам кофе, пожалуйста… Итак:
«Москва.
Президенту Академии наук СССР,
господину Вавилову С.И
Мы те, которые в этой стране работали над атомными бомбами, очень взволнованы большими опасностями, которые связаны с этим открытием. Основные факты в этой области и их последствия для жизни человечества сейчас сформулированы в книге, написанной учеными, занимающимися атомными исследованиями, которая в ближайшее время должна выйти. Эта книга также выразит наше убеждение, что угроза бомбы может быть предотвращена только сотрудничеством в международном масштабе путем соглашения или организации…»
– Ты что, правда, веришь в эту блажь? – оторвался от машинописного текста хозяин дома.
– Верю. Читайте, пожалуйста, дальше.
«Мы предлагаем выдающимся физикам СССР, Франции и Англии принять участие в этой книге краткими высказываниями таких наших русских коллег, как Капица, Иоффе, Курчатов, Ландау, Френкель, или тех, кого Вы найдете нужным указать.
Для того, чтобы вся сила мировой научной мысли и научного авторитета могла повлиять на проблемы, поднятые атомной бомбой, мы настойчиво просим Вас телеграфировать к 15 января высказывания в несколько сот слов на имя Альберта Эйнштейна, Принстон, Нью-Джерси.
Мы были бы рады показать законченную рукопись этой нашей книги тому, кому Вы найдете нужным поручить это здесь, и мы можем Вас уверить, что текст, который Вы нам пришлете, будет использован без каких бы то ни было изменений.
А. Эйнштейн»
– Ты хочешь, чтобы я подписал это, Роберт?
– Конечно!
– Ради Бота. Только я всегда привык рассчитывать на какой-то эффективный результат. А тут что? Я уверен, что первым, кто в Москве прочтет наше письмо, наверняка будет советский Гувер – Берия.
– Вот пусть читает и думает.
Провожая гостя до калитки, великий ученый тихо думал про себя: «Знай я, что немцы не смогут сделать атомную бомбу, я бы и пальцем не пошевелил, и не подписывал бы этих никчемных писем ни Рузвельту, ни Трумэну, ни русским… Пальцем бы не пошевелил, чтобы заставить шевелиться американцев».
Для Оппенгеймера, как и всей плеяды новой генерации физиков, Эйнштейн оставался «пастырем XX века, говорящим, не теряя при этом своей неизменной и неукротимой жизнерадостности: «Суета сует, все суета».
Письмо действительно так и не дошло до академика Вавилова. Но в своем прогнозе Эйнштейн ошибся лишь в одной детали – рассмотрение обращения было поручено не Берии, а не менее зловещей фигуре – Андрею Януарьевичу Вышинскому, бывшему генеральному прокурору страны, в 40-е годы почему-то занимавшему должность замнаркома иностранных дел.
Заглянув в кабинет мужа, Маргарита Ивановна вместо привычного бодрого приветствия «Доброе утро!» услышала зловеще тихий вопрос:
– И как прикажете это понимать?
Сергей Тимофеевич швырнул на стол какие-то бумаги.
– А что это? – вопросом ответила она.
– Это я должен спросить «что это»? Вот послушай, дорогая. – Коненков, держа лист на расстоянии, принялся громко читать:
Принстон, 15.01.1946
Любимейшая Маргарита!
Это уже третье посланное тебе письмо, а от тебя так и нет ни одного. Я уверен, что ты получаешь мои, а твои исчезают в какой-то неведомой дыре. Надеюсь, что так оно и есть, а помимо этого надеюсь, что ты все нашла таким, каким и хотела найти, и получила желаемые результаты от своей тяжелой работы. Я наконец написал что-то достойное. Ездил в Вашингтон, чтобы высказать свое мнение перед комиссией в Палестине. Наполовину она состоит из англичан, и я могу тебя уверить, что они еще никогда не слышали такого публично выраженного возмущения. Я даже не представлял, что смогу все это изложить на английском. Но если человек должен сделать что-то, он сделает. А все остальное, обычная работа. Я здоров, а вот мой ассистент заболел. Все благоразумные люди недовольны развитием политической ситуации, но так было всегда, и всегда останется так, ибо большинство рождается не для того, чтобы править.
Я сижу на моем маленьком полукруглом диване в полоску и наблюдаю тихой ночью за моим маленьким миром. Я укрыт голубым пледом, а передо мной на круглом столике лежит богатство из курительных трубок. Я экономно использую средство для очистки, которого хватит до моего последнего вздоха. Произвожу с помощью синего карандаша расчеты, и почти все, как прежде. Но различие уже есть.
Сердечные пожелания и привет от твоего А.Э.
P.S. Сегодня у тебя, кажется, должен быть Новый год. Счастья в 1946 году».
– Ну и?..
– Откуда это письмо у тебя?
– На тумбочке валялось. Нечего вещественные доказательства разбрасывать, «любимейшая»… Добрые люди помогли с переводом.
Учитывая темперамент обоих супругов, понятно, что семейная сцена была более чем бурной. Прислуга забилась на кухню и не высовывалась.
С того дня жить они стали по-разному: Коненков – в творчестве, а Маргарита – в четырех стенах. Ее не интересовало ничего – ни политика, ни искусство, никакие другие люди, ни книги, ни вернисажи, ни новые наряды. Она жила воспоминаниями о дорогом человеке, который остался далеко-далеко и с которым она уже никогда в жизни не увидится. Лишь редкие письма из Америки, согревающие душу, помогали женщине хоть кое-как держаться на плаву…
«Я нажал на кнопку…»
Со своей далекой и невидимой собеседницей Аль делился своими невеселыми думами и сомнениями:
«Иногда я спрашиваю себя, не сошел ли я окончательно с ума, не находя решения. Это своеобразный контраст между тем, кто есть человек на самом деле, и тем, за кого его принимают… От моего имени все собирают деньги на общественные нужды: евреи, физики-атомщики и штат Нью-Джерси. Последний – на помощь голодающим в Европе…»
Осознавая свой долг перед обществом, Эйнштейн строго следовал своим заветам: «Забота о человеке и его судьбе должна быть основной целью в науке. Никогда не забывайте об этом среди ваших чертежей и уравнений».
Осенью 1946 года Альберт Эйнштейн получил неожиданное письмо от одного из старейших и уважаемых немецких физиков Арнольда Зоммерфельда с предложением «зарыть топор войны» и вернуться в Баварскую академию наук. Что?!! Друзья прекрасно знали: Альберт был всегда великодушен и склонен прощать людей. Очень трудно было стать его врагом. Но если все же с кем-то отношения были порваны, то он навсегда оставался безжалостным и непреклонным. Таким он остался до конца жизни к немцам, чью вину он видел во всех преступлениях гитлеровской Германии.
«Гражданин мира», не мешкая, взялся за перо и в сердцах написал:
«После того, что немцы уничтожили в Европе моих еврейских братьев, я не хочу иметь с ними никаких дел, даже если речь идет об относительно безобидной академии».
Точка!
В послевоенные годы, опасаясь атомного джинна, выпущенного с его косвенной помощью из бутылки, Эйнштейн стал пылким сторонником идеи создания «мирового правительства», которое стало для него «спасительным понятием». Хотя и подобный монстр мог бы стать безжалостным тираном. Но еще большую тревогу вызывала у него потенциальная «война всех войн». Ученого преследовало чувство вины. Он не раз сожалел о том самом письме президенту Рузвельту, написанном еще в 39-м году, в котором призывал максимально ускорить работы по созданию американской атомной бомбы в противовес возможной германской.
Беседуя с журналисткой Антонией Валлентайн, Эйнштейн произнес покаянную фразу: «Я нажал на кнопку…» Хотя, в общем-то, ему было органически чуждо представление о зависимости исторических событий от воли творцов истории. Себя он, во всяком случае, к таковым не причислял. Эйнштейн в абсолютной степени владел искусством толстовской «зеленой палочки»; отрешенность от мыслей о себе была для него не искусством, а органическим свойством внутреннего мира.
Роковым образом все совпало. Трагедии внутренние и вселенские. Возлагая на себя вину за то зло, которое существует в мире, он особенно переживал многовековую трагедию разрушительного использования достижений разума. Человеческий интеллект должен искать гармонию в природе, вести к ней общество. Но в антагонистическом обществе плоды разума могут стать отравленными, и каждая научная идея, каждое открытие внутреннего ratio мира могут стать оружием иррациональных сил. Подобные мысли посещали Эйнштейна все чаще и чаще.
Он знал: «Освобождение атомной энергии не создает новой проблемы, но делает более настоятельным разрешение старой проблемы». А именно – в возможности агрессивного и разрушительного применения научных открытий. И нередко говорил о том, что открытие цепных атомных реакций так же мало грозит человечеству уничтожением, как изобретение спичек. Поэтому необходимо сделать все для устранения возможности злоупотребления этим средством.
Двести тысяч человек погибло при бомбардировке Хиросимы и Нагасаки. Двести тысяч… Да тех, кто отдал приказ о бомбардировке, надо судить, как нацистов, военных преступников. И его самого в том числе? Ради чего, спрашивается, уничтожать тысячи людей? Для того, чтобы продемонстрировать Сталину, кто в мире хозяин?! Боже.
Элен Дюкас настоятельно рекомендовала патрону принять известного советского писателя и публициста Илью Эренбурга: «Говорят, это самый еврейский из всех русских литераторов…»
В мае Эренбург приехал в Принстон. «Эйнштейну, когда я его увидел, – вспоминал Илья Григорьевич, – было за шестьдесят лет; очень длинные седые волосы старили его, придавали ему что-то от музыканта прошлого века или от отшельника. Был он без пиджака, в свитере, и вечная ручка была засунута за высокий воротник, прямо под подбородком. Записную книжку он вынимал из брючного кармана. Черты лица были острыми, резко обрисованными, а глаза изумительно молодыми, то печальными, то внимательными, сосредоточенными, и вдруг они начинали смеяться задорно, скажу, не страшась слова, по-мальчишески. В первую минуту он показался мне глубоким стариком, но стоило ему заговорить, быстро спуститься в сад, стоило его глазам весело поиздеваться, как это первое впечатление исчезло. Он был молод той молодостью, которую не могут погасить годы, он сам ее выразил брошенной мимоходом фразой: «Живу и недоумеваю, все время хочу понять…»
Они много говорили о трагических последствиях создания атомной бомбы. По мнению Эренбурга, Эйнштейну казалось особенно страшным то, что многих американцев разрушение Хиросимы и Нагасаки не очень встревожило, они словно не заметили разрушения вековых моральных ценностей. Такая потеря памяти казалась ученому величайшей угрозой для цивилизации. Он рассказал поучительную притчу: «В Центральной Африке существовало небольшое племя… Люди этого племени давали детям имена Гора, Пальма, Заря, Ястреб. Когда человек умирал, его имя становилось запретным (табу), и приходилось подыскивать новые слова для горы или ястреба. Понятно, что у этого племени не было ни истории, ни традиций, ни легенд, следовательно, оно не могло развиваться – чуть ли не каждый год приходилось начинать все сначала. Многие американцы напоминают людей этого племени… Я прочитал в журнале «Ньюйоркер» потрясающий репортаж о Хиросиме. Я заказал по телефону сто экземпляров журнала и раздал моим студентам. Один из них потом, поблагодарив меня, с восторгом сказал: «Бомба чудесная!..» Конечно, есть и другие мнения… Но все это очень тяжело…»
В разгар беседы Элен принесла им на террасу кофе и курительные трубки. Заметив профессиональное любопытство, с которым московский гость осматривал хорошо обкуренные трубки, Эйнштейн спросил:
– Любите подымить?
– Не то слово! – воодушевился Эренбург. – Это моя страсть, любовь, болезнь… Я даже книгу написал под названием «Тринадцать трубок».
– Правда? – восхитился Эйнштейн. – Жаль, я не читал. И что, ваша книга, что, посвящена искусству курения трубок?
– Не совсем. Это, скорее, притчи, вроде вашей об африканском племени. Но у меня – о трубках, которые кочуют из рук в руки. Вот, например, об одном капитане, который оставил свое судно и трубку ради любимой женщины, но все же не выдержал, и, преодолевая всяческие испытания, вернулся и к своему морю, и к своей трубке. – Писатель процитировал сам себя. – «Кури и гляди на море, и никогда не гляди на женщин, и, проходя мимо, отворачивайся. Слушай море и, услышав, как сладко говорит женщина, заткни уши. Дыши морем и, учуяв запах женщины, беги прочь…» Ну вот, примерно так…
Эйнштейн внимательно посмотрел на своего собеседника и трижды бесшумно сомкнул ладони, имитируя аплодисменты. И, помешкав, спросил?
– Я слышал, Иосиф Сталин тоже большой поклонник трубок?
– Кажется, да, – кивнул Эренбург. – Во всяком случае, я его часто видел с трубкой.
– А какой табак он предпочитает?
– Вот этого я уж точно не знаю. Говорят, вроде бы «Герцеговину Флор».
– Никогда о таком не слышал, – огорчился Эйнштейн.
Илья Эренбург поспешил исправиться: «Это не сорт табака, а наших папирос. А Сталин, рассказывают, просто крошит оттуда табак и набивает им свою трубку».
– О! – улыбнулся Эйнштейн, – я порой тоже так поступаю. Когда приключается, что неожиданно кончился трубочный табак, а до окончания лекции еще целый час, я вынужден стрелять у студентов сигаретку-другую, чтобы набить трубку… Хотя это, конечно, несерьезное баловство. А из всех сортов табака я больше всего люблю «Revelatiou». Это такая особая смесь с легким привкусом и ароматом кофе… Просто чудо. А вообще, я вам так скажу, дорогой Эренбург… Да вы не стесняйтесь, выбирайте любую из моих трубок или доставайте свою, в конце концов… Я считаю, что курение трубки способствует развитию спокойных и объективных суждений, что очень важно во всех сферах жизнедеятельности…
– Да, – поддержал ученого Эренбург, – курение трубки – занятие для солидных мужчин. Берущий в зубы трубку, кроме всего прочего, должен обладать редчайшими добродетелями. Я имею в виду бесстрашие полководца, молчаливость дипломата и невозмутимость шулера.
Эйнштейн развеселился и сказал: «Браво! Я беру ваши слова на вооружение… Кстати, в своей новелле о капитане вы говорите, что, учуяв запах женщины, следует бежать прочь. Так вот, аромат трубочного табака, как правило, нравится женщинам, особенно тем, которые не переносят сигаретного дыма. Говорю вам, опираясь на собственный опыт…»
Позже Альберт написал о своей встрече с русским писателем Маргарите: «Мне был нанесен очень приятный и интересный визит. В гости приходил отличный писатель Эренбург. Конечно, такому человеку противостояние со многими могучими официальными инстанциями не доставляет радости. Он будет счастлив, когда это все закончится».
Эйнштейн совершенно ясно понимал, что новому руководителю США Гарри Трумэну ядерное оружие служит инструментом устрашения, предостерегая политиков: «Если третья мировая война будет вестись атомными бомбами, то четвертая – камнями и палками».
Имя, авторитет и популярность Эйнштейна безжалостно эксплуатировали. Его бесконечно втягивали в какие-то интриги, зазывали на публичные мероприятия, рауты, используя даже в рекламных целях. Иной раз он по собственной воле легкомысленно ввязывался в какие-то общественные протестные акции. В 1946 году принялся активно помогать темнокожему актеру и певцу Полю Робсону в организации митинга-демонстрации против линчевания негров. Потом на заседании англо-американского комитета по положению в Палестине Альберт Эйнштейн отстаивал необходимость создания еврейского государства Израиль.
И еще успевал при этом принести свои искренние извинения Маргарите: «Ответ задержал, потому что люди и моя работа не дают покоя. Я ограничиваюсь только самым необходимым, но все равно никогда не успеваю…» Проявляет трогательное внимание к малейшим новостям из Москвы: «Удивительно, что вы можете рассчитывать на получение уже в июле по-новому оборудованной мастерской. Я очень рад, что Он нашел своего сына живым и что у него даже есть внук… Думаю, что майский праздник был великолепен. Однако ты знаешь, что я с беспокойством отношусь к чрезмерному проявлению патриотических чувств. Я делаю все, что могу, чтобы убедить людей в необходимости мыслить космополитично, благоразумно и справедливо. Только три дня назад я обратился (по телефону) в этом смысле к собранию студентов в Чикаго. Это очень тяжелая работа. Скептик с тонким вкусом сказал однажды о споре между чувством и разумом: более умный уступает. Это – конечно, разум. Я могу только надеяться на то, что в великом деле борьбы за мир не будут руководствоваться этим правилом.
…Гнездышко выглядит одиноким, но верным другом, который принимает уставших от повседневной работы… Я вообще забросил свои волосы и бренное тело… Многие считают, что физические явления непонятны. К этому относится стремительная и полная волнений жизнь. В любом случае очень интересно то, что ты написала об осветлении своих волос. Я очень порадовался этому…
Желаю тебе всего хорошего.С приветом и поцелуем. Твой А.Э.»
Принстон, весна 1946
Эйнштейн, вспоминая возлюбленную, все чаще стал засиживаться на своем полукруглом диване, укрытый пледом-альмариком, с трубкой во рту, а по ночам делал заметки прекрасным карандашом, подаренным ему Маргаритой. И никаких других женщин, кроме, разве что Элен Дюкас, заверял он свою далекую московскую Женщину.
Хотя тут, скажем прямо, чуть-чуть лукавил. После отъезда Маргариты постоянной гостьей дома в Принстоне стала восхитительная Джоанна Фантова, которой было совершенно наплевать на то, что Альберт был старше ее на 22 года, и его некогда пышные волосы стремительно выпадали, и все реже и реже он был способен ласкать ее. Просто женщины любят умных мужчин, а уж гениальных – тем более… Зато Джоанна, скромный библиотекарь Принстонского университета, имела право говорить: «Редко я видела Эйнштейна таким же веселым и жизнерадостным, как парусом маленькой лодки».
Джоанна на пару с прошедшей многие испытания Дюкас мужественно держали оборону, ни на фут не подпуская к своему измученному, усталому, любимому мужчине назойливых поклонников, посетителей и просителей… «Профессор болен…», «Профессор занят…», «Профессор проводит эксперимент…»