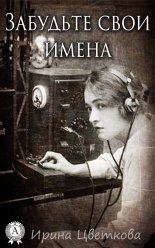Театральная история Соломонов Артур
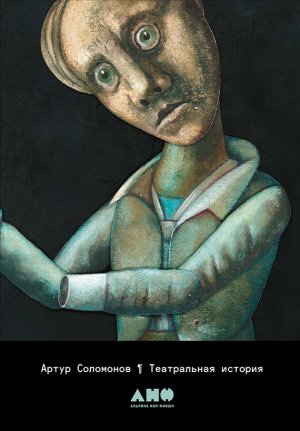
Ворона пошагивала с видом весьма важного чиновника средней руки. «Вот если каркнет сейчас… Если каркнет… То мы уже сегодня вернемся домой вместе с Наташей. Или наоборот? Каркают же к беде? Значит, если не каркнет, то вернемся… — он внимательнее посмотрел на цепкие коготки, и какие-то черно-серые, словно полинявшие, крылья. — Дай бог, чтоб мне попалась немая ворона… Или ворона, давшая обет молчания».
Как будто почувствовав, что над ней издеваются, ворона распахнула клюв. Сейчас она докажет, что она не немая. И никаких обетов не давала. Это пусть другой, тоже облаченный в черное, их дает. Клюв распахнулся шире — видимо, в преддверии грандиозного, опровергающего клевету, карканья. Саша замер. Клюв захлопнулся. Ворона улетела — уже безвозвратно.
Ногам стало холодно — ботинки, приобретенные за «водоупорность», все-таки дали течь. Пришло эсэмэс от Наташи: «Ты где, я тебя жду». Он ответил: «Я не пойду туда. Пойду в церковь. Там встретимся».
Саша поднял голову. Облака плыли так же быстро. Пиликнуло эсэмэс: «Здесь так мрачно. Мне плохо».
Пока он думал, что ответить, пришло еще одно сообщение: «Все аплодируют. Жена кричит, чтоб перестали. Ударила Иосифа и Балабанова по рукам. Кошмар». «Приходи ко мне». «Уходить неловко. Давай сразу в церкви».
В полуоцепенении он просидел около часа. Наконец встал и направился к метро. Почти не заметил, как ехал, как делал пересадки, как поднимался по эскалатору.
И вот впереди — церковь Николы Мученика. Издалека он увидел, как вносят гроб с телом Преображенского. Вливающуюся в церковь огромную толпу окружало молчание. В толпе Александр различил Наташу — как будто внезапно посмотрел в бинокль. Увидел заплаканные глаза, серый, изящный платок. Ему показалось, что и она его заметила, но не решилась поприветствовать.
Он все еще стоял поодаль. Услышал громкие, прерывистые рыдания — это была Елена, вдова Преображенского. К ней подошел Андреев и обнял. Рыдания стали тише. Она вошла в храм вместе с Сильвестром.
Вдруг Александру стало почти смешно от своей нерешительности — он даже улыбнулся. «Что изменится, что я там увижу, что там такого будет, чего не было», — пробормотал он бессмысленные слова, которые почему-то его успокоили.
И он вошел в церковь. Кивнул господину Ганелю. На приветствие ему ответил и карлик, и стоящий рядом с ним Иосиф. Александр, не чувствуя ног, подошел к гробу. Ему даже показалось, что он не шел, а как будто кто-то поднес его к Преображенскому. Саша посмотрел. «Это же не он!» Да — вьющиеся волосы, благородный профиль. Но глядя на Сергея, Александр ничего не почувствовал. Он не смог найти сходство между тем, кого знал и любил, и тем, кто сейчас лежал перед ним. В голове пронеслось «смерти нет, это всем известно, повторять это стало пресно».
Он отошел на несколько шагов. Посчитал — их было пять. «А давай-ка еще на три», — подумал Саша, и отступил еще на три шага. Серый платок. Голубые — сейчас голубые — глаза. Они рядом. Саша наклонил голову, и, глядя в синеву, шепнул:
— Как же мы с ним попрощаемся, если это не он?
Наташа погладила его по руке.
Ипполит Карлович расположился со всеми удобствами. Включил трансляцию. Стал рыскать камерой по толпе. Увидел всех актеров. Увидел Сильвестра. Увеличил его лицо. Усы, как и прежде, были высокомерны и великолепны.
— Таракан. Таракан. Тараканище, — молвил он с ненавистью, сквозь которую пробивалась-таки непобедимая симпатия.
Увидел Наташу с Александром.
— Две Джульетты. И все у них. Прекрасно. А отец Никодим. Меня винил. За мою эстетику. Да я их еще крепче. Сцементировал. Невооруженным взглядом видно. А уж вооруженным!
Камера скользила по лицам господина Ганеля, Иосифа, Елены Преображенской. Он увеличил ее лицо. Рука потянулась к бокалу с коньяком. Сигара была зажжена. Лимон так и остался не разрезанным.
И началось отпевание.
— Со святыми упокой, Христе, душу раба твоего, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная.
Наташа взяла за руку Александра. Он не шевельнулся. Господин Ганель, который не любил церковных обрядов, иногда посматривал на Александра с Наташей. От взгляда на них он чувствовал большую радость, чем от уверений хора, что предстоит «жизнь бесконечная». Ганеля раздражало, что служба идет на плохо понятном языке. «Хотя, — думал он, — может, в этом особая гармония: мертвого провожают на мертвом языке?»
— Како предахомся тлению? Како сопрягохомся смерти?
Ипполит Карлович потребил за это время рекордное даже для себя количество коньяка. От семисот грамм оставалось не больше ста. Он умилялся и пил, пил и умилялся. Недоолигарха, как всегда, пронимало церковное пение. Уже наступил момент, когда он начал мечтать, что раздаст по рублю свое состояние. Как оглянется в последний раз на особняк свой, поклонится ему в благодарность за прожитые там годы и с легким сердцем пойдет навстречу солнцу. Навстречу смыслу. Но волнение не оставляло его. Он чувствовал, что это отпевание сулит ему мало хорошего. И, пытаясь отвлечь себя от мирского, шептал: «Како предахомся тлению? Како сопрягохомся смерти?» Он поставил бутылку на стол и спросил ее (ибо пришло уже время для разговора с изделием стеклянным):
— Како? Вот како предахомся тлению? Како бы так сделать, чтобы никако?
И отрезал лимонную дольку. И отправил ее в широко распахнутый рот.
И, щурясь от кислоты, шепнул: «Како-никако». И закрыл серые непроницаемые глаза.
По храму поползла оглушающая тишина. Никто даже не кашлянул. Отец Никодим тихо сказал:
— Приидите… — но вдруг осекся. Его голос оказался таким хриплым.
Священник прокашлялся и произнес:
— Приидите, последнее целование дадим, братие, умершему, благодаряще Бога…
И снова всех оглушила тишина. Никто не решался первым подойти для последнего прощания. Все ждали вдову, но она стояла, закрыв глаза. Тишина становилась почти неприличной.
— Братья и сестры! — совладал наконец с собой отец Никодим. — Я не могу сейчас говорить то, что обычно произношу на отпевании. Я хорошо знал усопшего. Но высказывать мои слишком личные чувства неуместно сейчас, когда рядом его жена, его близкие, его друзья. Какие перемены произвела во мне его смерть — это останется моей тайной. Но отзовется на всей моей последующей жизни. Говорить об этом — не время и не место.
— Прав. Не время и не место, — проговорил Ипполит Карлович, глядя на огромный экран, выпивая неизменный коньяк и закусывая неизменным же лимоном. Ибо новая бутылка была уже открыта.
— Мы препровождаем в жизнь вечную человека, которого Господь наш щедро одарил, которого послал нам на радость. Этот человек — художник. Все мы знаем, как в символе веры назван Бог наш.
— Творец неба и земли! — воскликнул Иосиф.
— Да, — ответил отец Никодим, не посмотрев в сторону кричавшего. — Творец неба и земли. Но буквальный перевод этих слов — Поэт неба и земли.
Когда отец Никодим произнес слово «поэт», вдохновение наконец-то овладело им. Он обвел пламенеющим взглядом господина Ганеля, Наташу и Александра, плачущего крупными слезами Балабанова и Сильвестра, который молчал так глубоко, что, казалось, никогда больше не заговорит.
Елена смотрела на плохо загримированный шрам на виске мужа и тихо причитала: «Столько денег взять, столько, и ничего, ничего не замазать… как же Сереже сейчас стыдно, он разве так выглядел когда-то, он всегда хорошо выглядел, за что же его так сейчас, все же смотрят… когда все смотрели раньше, он не мог так выглядеть, а сейчас воспользовались и опозорили, воспользовались и опозорили…»
— Поэт неба и земли! — огласил храм отец Никодим. — Бог — Великий Поэт, который своим словом сотворил мир. И своим словом посылает Он в жизнь таких, как Преображенский. Мы видели человека, на кого Господь указал — ты будешь своим даром свидетельствовать, что Я есть… Я часто думаю о том времени, которое наступило после сотворения Адама и Евы. Тогда в эдемском саду первый человек давал имена всему, что сотворил Господь. Давая имя, Адам постигал сущность каждой твари. Тогда был сотворен первый, эдемский язык. И сотворен человеком! К чему же стремится каждый художник? Дать имя всему, что сотворил Бог. И тем самым прорваться к тому первоязыку, которым говорил Адам.
Наташа вспомнила, как в первые дни их с Сашей романа говорила, что мечтала бы «жить в то время, когда создавались слова». Она со значением посмотрела на Александра. Он ответил ей насмешливо-ласковым взглядом: «Нет-нет, твои игры со словами никакого отношения к эдемскому языку не имеют».
— И неверующие в Бога чувствуют, что в минуту скорби, в такую минуту, как сейчас, слова — единственное, что у них есть. Как без них онемевший мир провожал бы своих умерших? Мне страшно представить эту тишину.
И сейчас, когда свет погас, а холод сгустился, на помощь тем, кто не верит в Бога, слетаются слова. Только они могут помочь нам сейчас, когда земля вот-вот скроет того, кто вызывал в нас столько любви.
Но мы, верующие, знаем о священном происхождении слов. И знаем, что каждый, кто творит, соприроден Господу нашему. И если в творческом порыве художник вступает в спор с Творцом, Бог наш смотрит на него с любовью. Как на дитя, которое только учится говорить, а потому произносит слова бессмысленные и нелепые. Но ребенка не остановить — он учится неустанно, и наконец начинает складывать слоги в слова, слова в предложения. А потом научается вкладывать в слова мысль и дух. Сергей был еще ребенком, который только учился складывать слова. Он был в начале своего пути. Лишь начинал служить Господу. И служение его было прервано, едва начавшись. Кто знает, куда бы привел его дар? Каким путем он пошел бы к Богу? Но так получилось, что пошел он самым коротким, и глаза наши от этого полны слез.
Отец Никодим поднял глаза на купол церкви — туда, где царил Бог Отец, которого так боялся Иосиф во время неудавшейся «театральной атаки».
— Поэт неба и земли! Мы провожаем к Тебе одно из лучших Твоих созданий. Мы помним, что все мы — часть твоей бесконечно создающейся поэмы. Все мы — строки, буквы, частицы букв. И только Бог знает, когда наступает время одной из этих строк растаять. Но в великой Поэме Господа строки не исчезают. Его рукописи не горят. И сейчас слово, благодаря которому был создан Сергей, сияет в других мирах. Мы счастливы, что были подле, когда он сиял в нашем мире.
В нахлынувшей тишине Наташа и Александр крепче сжали ладони, а Сильвестр — зубы. Он подумал: «И снова не понимаю, почему этому талантливому лицедею и лицемеру не аплодируют».
— Теперь я скажу, — не терпящим возражений тоном сказал режиссер.
Отец Никодим, не глядя на Сильвестра, ответил всем собравшимся:
— В церкви мирянам произносить речей не положено.
Пыл только что произнесенной им проповеди начал остывать. Глаза становились тусклее, мысли — земнее.
— Я скажу, — повторил каменным голосом Сильвестр, и отец Никодим почувствовал, что если не уступит, режиссер как-то страшно его опозорит.
На лице батюшки было написано: «Повинуюсь силе, и то лишь из уважения к усопшему». Уступая место Андрееву, священник вдруг заметил плохо загримированную рану на лице Сергея. Сильвестр встал туда, где только что пребывал батюшка. Оглядел собравшихся — все были под глубоким впечатлением от слов отца Никодима. Качество наступившей тишины режиссер оценил сразу.
— Я понимаю ваше волнение. Речь прекрасная. Жесты, интонации — безупречны. Но я не прощаю того, кто сейчас так искренне, так нежно оплакивал Сергея. Более того — мне есть в чем его обвинить.
— Да как вы смеете! — воскликнул дьячок Фома. Он был возмущен тем, что отец Никодим позволил говорить мирянину. И теперь этот допущенный до амвона режиссер позорит священника в доме Божьем.
Сильвестр не обратил никакого внимания на дьяконов крик.
Вдруг из самой людской гущи взревел Балабанов:
— Я! Я! — Он обратился к Сильвестру голосом, не ведающим возражений. — Я должен выступить! Я написал стих! О люди! Крокодилы! Дайте волю моему стиху!
И Балабанов стал прорываться сквозь толпу. Казалось, что колоссальных размеров артист прорубает себе дорогу сквозь человеческую чащу. Он размахивал руками-саблями. Бешено вращал глазами. Еле сдерживал ругательства. От него несло алкоголем. Режиссер метнул в него грозный взгляд. Но это не произвело на артиста никакого впечатления. Смерть Преображенского, «заявление об уходе» Сильвестра и триста грамм на гражданской панихиде сделали свое дело: Балабанов потерял страх. Мощным голосом артист возгласил:
— Стих короткий… А я длинный… Для контраста говорю. Нас учили — контрастируй — и зритель твой… Высокое-низкое, громкое-тихое, короткое-длинное, я и стих… Я написал его даже не на смерть Сергея… На смерть другого, почти Сергея, да какая же вам разница! — взревел он. — Но стих подходит, подходит, о люди!
Он посмотрел на собравшихся с яростью.
Дьячок Фома подошел к отцу Никодиму, театрально всплеснул руками и закатил глаза, но это не произвело никакого впечатления на батюшку. Он разглядывал рану Сергея и что-то шептал. Дьячок не разобрал, что именно, и с возмущением сказал намеренно громко:
— Актерам в храме не место!
— А ты знаешь, как на старославянском называется сцена? — вдруг тихо спросил его отец Никодим.
— Не знаю, — ответил дьячок и добавил взглядом «и знать не желаю».
— Она называется «позорище».
— И очень правильно, — кивнул головой Фома, пристально вглядываясь в отца Никодима. Он понял, что его старший по чину коллега имел в виду нечто совсем иное, но что? «И знать не желаю!» — снова подумал Фома, глядя на Балабановский балаган.
Пьяный артист вынул из кармана затертый листок с полинявшими, написанными от руки, строками. И все поняли: он не врал, стих был сотворен задолго до кончины Преображенского. Артист стал декламировать, делая в конце каждого четверостишия широкий жест правой рукой:
- Обожгла сначала глотку,
- Пролетела вниз.
- Выпив «самопальной» водки,
- Умирал артист.
- Он один лежал в гримерной,
- Не закончив роль.
- Не дождавшись нашей «Скорой»
- Умирал «король».
- Что врачи напишут? — «Сердце…»
- Или «Был инсульт».
- Кто же скажет: «Водка с перцем
- Выключила пульт».
- В небольшом театре нашем,
- Не доигран «Лир».
- За столом — актеры-братья:
- Поминальный пир.
Балабанов перевел дыхание, утер слезу, и продолжил дрожащим голосом:
- Помянут хорошим словом,
- Режиссер всплакнет.
- Доиграет кто-то новый,
- Если не запьет[1].
— Ох! — вздохнул Балабанов, вытер пот со лба и обратился к Сергею. — Прощай, милый мой друг! Я тебе завидовал! Я тебя не любил! Но чтобы вот так, вот так на тебя смотреть — душа моя разрывается! — и закричал: — На мелкие части расколота теперь душа моя! О люди! Порожденья…
И он снова зарыдал — громко, протяжно, с горестными руладами.
Ипполита Карловича позабавили и стих, и сам Балабанов. Недоолигарх мелко, прерывисто посмеивался. Усиленно моргал. Вытер едва заметную слезу ладонью.
— Красавец. Премию ему! Премию! Где он был? Талант! Затирал тебя Сильвестр. А ты славный! Все переменится теперь. Для тебя. Обещаю.
Балабанов вдруг как-то сник, подошел к гробу и погладил Преображенского по волнистым волосам. И тихо отошел в сторону, прошептав кому-то: «Он такой холодный».
Отец Никодим побледнел. Дьячок возмущенно зашептал в Никодимово ухо:
— Прекратите это кощунство! Отец Никодим!
— Сильвестр Андреевич, — тускло, безучастно обратился к режиссеру отец Никодим. — Вы остановите этот балаган? Или мне придется его прекратить? Вы не у себя дома. Вы в доме Божьем.
— Имейте уважение к усопшему, раз нас не уважаете! — взвизгнул дьячок Фома.
— Вы помните Бродского? — обратился Сильвестр к толпе.
Какой-то старик утвердительно кивнул.
— В каком смысле? Вы помните самого Бродского? — Старик замер. — А его дедушку?
— Отец Никодим сейчас позовет охрану! — возопил дьячок.
— Какую охрану, Фома? — тихо спросил отец Никодим.
— А я говорил — нам всем нужна охрана! Всем, — злобно прошептал дъячок.
— Так вот, у Бродского написано: «входит некто православный, говорит — теперь я главный». Какая все-таки неистребимая воля к власти у этих профессионально верующих. Что бы сказал об этом Бог, распятиями которого они себя украшают? Мне страшно представить это, отец Никодим. Вам, как вы говорите, порой бывает так трогательно страшно за меня, когда вы думаете, в каком затруднительном положении я окажусь на Страшном суде… Честно говоря, я-то думаю, что мы будем сидеть на одной скамье подсудимых. Вдова Сергея вдруг подошла к Сильвестру и залепетала:
— Сильвестр Андреевич, вы видите, как они плохо его загримировали, почему вы не проследили, вы всегда следили за гримом, а тут, в последний раз, вы тоже его бросили, тоже бросили и в последний раз, и как все, как все…
Сильвестр обнял Елену, и она затихла. Он снял руку с ее плеча и она отошла на два шага, потом сделала еще один. Замерла, слушая Сильвестра.
— Сегодня рано утром я пришел в театр. И почувствовал, как опустел он без Сергея. Везде — в гримерных, на сцене, в зале, в портретном фойе — его страшно нет.
Сильвестр замолчал. Все ждали его слов, и он продолжил:
— Я не знаю глубинных миросозерцаний Преображенского. Я не знаю, как он думал о бессмертии. Возможно, он желал в него верить. Я полагаю, что ему было сложно, почти невозможно представить, что столь богатая натура вдруг, в одно мгновение перестанет быть. Я почти уверен, что Сергей понимал: загробной жизни не будет. По крайней мере, для него.
— Отец Никодии-ии-м! — простонал дьячок. — Отец Никодим, это нонсенс!
Священник ласково поглядел на дьячка:
— Тебе не идет это слово, Фома.
— Да не об этом же речь! — обиделся дьячок. — И вообще, что вы сказать хотите? Что мне рассуждать надо только про то, как пол в церкви подметать?
Отец Никодим потерял к Фоме интерес и обратил взор на проповедующего режиссера. В священнике бушевал протест, но вместе с тем он испытывал жгучий интерес к происходящему.
— Вы знаете, как ненавистен мне пафос, — продолжил режиссер. — Но сейчас, когда я стою над гробом лучшего актера, с которым мне доводилось работать, для меня нет ничего естественней пафоса. Он принадлежал к тому великолепному актерскому племени, которое верит только в сегодня. Только в тело. Только в чувства. Сергей как великий артист смеялся над завтрашним днем. Потому, когда предыдущий оратор говорил о вечности, мне это показалось не только потешным. Это кощунственно именно по отношению к Преображенскому. Господа! Какое бессмертие? Он жил, как бессмертный. Нет ничего более чуждого вечности, чем театр. Остановите свое воображение, отец Никодим. Вы оскорбляете память того, о ком сочиняете свои возвышенные проповеди.
Сильвестр изредка посматривал на отца Никодима. Видел, что тот необычайно взволнован. Он углядел в священнике, как говорил его педагог в театральном училище — «духовную расщелину». Именно туда Сильвестр и метал сейчас слова.
— Я бы хотел, чтобы все мы помнили о том непрекращающемся торжестве, каким была его жизнь в искусстве. Он торжествовал — здесь и сейчас, с нами и для нас. Я бы хотел, чтобы мы помнили об этом, а не о его служении, или, — Сильвестр не смог сдержать язвительной улыбки, — о том, как Сергей мечтал прорваться к первоязыку… Я сказал, что Преображенский верил в тело. Не поймите меня превратно. Он верил в тело, если так можно сказать, до краев наполненное душой. Даже когда он поворачивался к залу спиной, его боль чувствовали все — до последнего ряда.
Отец Никодим с некоторой даже ревностью подумал: «А я о чем только что говорил? Разве не о том, что в людях одаренных себя проявляет Бог? Что они напоминают нам, что мы окружены вечностью?»
Сильвестр, словно отвечая священнику, продолжал:
— Предыдущий оратор и я — мы оба занимаемся невидимым. Я даю невидимому шанс, пусть на время, стать явным. На время обрести плоть и голос. Никто лучше Сергея не мог этого сделать.
Отец Никодим заволновался. Очевидно, желал что-то возразить.
— Не надо, отец Никодим, со своим уставом пытаться проникнуть в наш монастырь, — бесстрастно остановил его порыв Сильвестр. — Мы не имеем никакого отношения к тому, что вы сейчас воспевали… А теперь… Теперь главное. Самый щедрый из всех меценатов, каких я только видел, взял с моего театра непомерную плату за свою помощь. И я клянусь, что буду преследовать того, кто виновен в гибели моего лучшего артиста… И того, кто виновен косвенно. — Сильвестр долгим взглядом посмотрел на отца Никодима.
Ипполит Карлович разглядывал Сильвестра и улыбался. Лимонный сок вместе с мякотью тонкой струйкой стекал с его губ.
— Страстей и публики. Вот чего ты хочешь. И больше ничего. Вот и вся твоя погоня за правдой. Если это эффектно. Будешь правду. Матку. Рубить. А неэффектно. Не будешь.
Вдова Преображенского кинулась к гробу и стала жадно, часто целовать лицо Сергея.
— Лоб такой холодный, его ничем не согреешь, вот монетки, любые-любые монетки — пожалуйста, их можно подержать и погреть, погреть и подержать, и они уже теплые, а его лоб не согреешь, только сам весь холодом покроешься…
Отец Никодим отвернулся. Посмотрел в глубину церкви — туда, где не было людей. Ему вдруг почудилось, будто у него вытащили землю из-под ног. Но оказалось, что при этом он может стоять. И ходить. Потому он пошел к гробу Преображенского с сердцем легким. Страха не было совсем.
Сильвестр, видя выражение лица отца Никодима, мгновенно уступил ему место.
— Истинно, истинно говорю вам, — воскликнул отец Никодим, — если зерно, падши в землю, умрет, то прорастет и принесет много плода. Сергей — то семя, которое погибло, но принесет много плода. Я должен сказать о том, что меня мучило все эти дни. О том, чем стала для меня его смерть.
Ипполит Карлович сдавил в зубах новенькую лимонную дольку.
— Я с печалью думаю, — продолжал отец Никодим, — почему погибает тот, кого так одарил Господь? Но с еще большей печалью я думаю: почему человек такого дара погибает от руки того, кто не достоин даже омыть его ноги?
Ипполит Карлович выплюнул на пол лимонную кожуру.
— Омыть ноги, значит. Недостоин. Как говорят мои друзьяукраинцы. «Цо есть хамство». А за хамство. Ответить тебе придется. Святой отец.
Отец Никодим остро почувствовал, что его жизнь теперь разделена непроходимой границей: до этих слов и после. Он оглядел толпу, которая начала шептать, вскрикивать, качать головами… «Нецерковное настроение у прихожан… — подумал отец Никодим. — Но как хорошо!»
Ипполит Карлович приблизил лицо священника. Стал наблюдать, как пробегают по нему — бесстрашие, страх, растерянность, уверенность, восторг, ужас.
— Так вот же. Православный-то театр. Вот о чем он мне тогда толковал.
И предъявил. На славу предъявил.
— Я говорю это сейчас, — голос отца Никодима срывался, — потому что несу ответственность за свое духовное чадо. Я не излечил его, поскольку сам был болен, болен и ныне. А значит, есть и моя вина в смерти того, кто сейчас лежит перед нами.
Ипполит Карлович прошептал сквозь зубы:
— Вот за это. Уважаю.
Наташа и Александр переглянулись, и одновременно у них возникла мысль — уйти из церкви. У дверей их застал крик отца Никодима:
— Он смотрит сейчас на нас! Он нас видит! И я прошу — покайтесь! Ипполит Карлович! Покайтесь! Милосердие Господа безгранично! Без! Гранично!
В толпе послышался шепот — не помешался ли батюшка? Как это Ипполит Карлович на нас смотрит? И так же, как скорбь только что сменило смятение, ему на смену пришел ропот. Возмущена была вся труппа — артисты, гримеры, осветители, рабочие сцены. Возмущение артисток, которые после вручения сорока семи роз побывали в особняке Ипполита Карловича, слагалось из непростых чувств. Здесь были и озлобление, и — местами приятные — воспоминания, и стыд, и разбитые надежды. В числе этих сложно возмущенных артисток была и Наташа, которой, ко всему прочему, совсем не нравилось слышать из уст отца Никодима имя покровителя театра. Тем более в присутствии Саши.
Иосиф вдруг стал как-то болезненно энергичен, будто его внезапно включили. Он прокрался к господину Ганелю и сказал: «Ну, каково, а? Какой батюшка? Рыцарь! Рыцарь-батюшка!» Карлик тихо ответил: «Я чувствовал… Но не думал, что окажусь прав…»
Балабанов громко завопил «А-на-фе-мааа!»
Дьячок Фома прошептал: «Господи, спаси меня, грешного, из этого ада».
— Позор толстосуму! — крикнул Иосиф и испугался.
Отец Никодим обвел торжествующим взглядом паству и понял, что пора бежать. Вдохновение покинуло его. И столь же торжественно он вдруг высказал мысль, которая явилась только сейчас и поразила его:
— Андреева защитит его талант, его мировая известность. Я же теперь беззащитен.
Сказал и понял — это ведь правда. «Господи, что же я натворил? Что же я натворил?» — забилось, затрепетало в его голове.
Тем временем к нему уже быстрым шагом приближался господин Ганель.
— Вам сейчас лучше всего поехать ко мне. Причем немедленно.
— Правильно, правильно! — страстно зашептал священник. — Только к вам!
— Вы все здесь… все закончили?
— Я главное закончил, главное! Теперь без меня! Фома! Фома!
Насмерть напуганный Фома мелкими шажками подбежал к отцу Никодиму.
— Дослужи за меня.
— Отец Никодим, зачем же вы? — восклицал Фома. — Что же с вами будет?
— Правда воссияла! Вот что главное! — воскликнул отец Никодим и с тоской почувствовал, что все меньше верит сам себе. Там, на амвоне, он был герой, он был трагик, он был правдооткрыватель. А сейчас? Запуганный человечек, ищущий щель, чтобы спрятаться.
— Фома! — зашептал он дьячку. — Поезжай с ними на кладбище. А я удалюсь. А попросту говоря, убегу.
— Ну, я же, я… — забормотал Фома. — Я же никогда сам…
— Начинай путь свой! — вдруг снова воодушевился отец Никодим. — Ступай, милый, ступай, кроткий! Неси слово Христово! И спасай брата своего. Дай ему уйти от врага.
Господин Ганель потянул священника за рукав. Отец Никодим перекрестил Фому, хотел сказать что-то очень возвышенное, но услышал шепот карлика:
— Драпаем, батюшка, драпаем!
Возникшая суета помогла карлику хотя бы временно не думать о смерти Сергея.
— Вы не упадете в рясе? — спросил карлик.
Эта шутка была лишней. Господин Ганель, хоть и чувствовал почти нежность к совершившему геройский поступок священнику, все равно чуть-чуть, да наслаждался его униженным положением. Еще сильна была память о том, как отец Никодим уничтожал их общее дело. Священник это понимал, а потому сказал кротко:
— Не упаду.
Сильвестр с изумлением наблюдал, как господин Ганель уводит отца Никодима. Да, вот теперь батюшка заслужил аплодисменты! Вот что значит атакующий театр! Может, и правда взять его в новую труппу? Но, наблюдая, как властно господин Ганель тащит священника к выходу, как растерянно тот озирается по сторонам, он понял, что разыскать одаренного батюшку в ближайшее время ему не удастся. «Значит, — подумал Сильвестр, — он начнет одинокое театральное служение. Примет театральную схиму. Станет, прости Господи, священником-перформером».
Отец Никодим вдруг остановился. Захотел попрощаться с храмом, где прослужил долгие годы. Господин Ганель понял это и отпустил его рукав. Потом решил, что все-таки надежнее рукав не отпускать, и снова вцепился в черную ткань…
Наташа и Александр вышли из храма. На улице похолодало.
— Ты веришь? — спросила Наташа.
— В убийство? Я и в смерть его пока не могу поверить.
— Мы же не поедем на кладбище?
— Нет… нет.
Похоже, они оба чувствовали сейчас одно и то же. А именно — ничего не чувствовали. Не было скорби, не было даже глубокого изумления. Усталость и растерянность, растерянность и усталость.
Из храма выбежал Иосиф, бормоча на ходу:
— Вот это событие, вот это выбор, вот это решение… Вот это решение, вот это событие, вот это выбор… Вот это батюшка! Пока Наташа, пока, Саша… — и поскакал-покатился дальше.
Александр и Наташа оказались за воротами церкви.
Из храма выскользнули господин Ганель и отец Никодим. Испуганно озираясь по сторонам, священник шептал:
— У меня там «мазда», «мазда»…
— Так бежим же к ней…
Они скорым шагом устремились за ворота.
— Ты посмотри, что происходит, — сказала Наташа, показывая на парочку, подбегающую к машине. — Хотя похороны Сергея и не могли быть другими. Как будто это он закрутил на прощание такой сюжет… Такой театр…
Наташа говорила, наблюдая, как ее дыхание создает маленькие облачка, которые тут же тают в холодном воздухе. Вдруг улыбнулась: вспомнила, какими глазами смотрел на эти облачка господин Ганель в тот день, когда ее назначили на роль Джульетты.
Отец Никодим и господин Ганель наконец добежали до машины. За руль сел священник. Через секунду «мазда» взревела, и, набирая ход, проехала мимо Александра и Наташи. Господин Ганель высунулся из окна и крикнул:
— Никому ни слова!
Александр приложил палец к губам, Наташа непроизвольно сделала то же самое и улыбнулась.
Господину Ганелю определенно нравилась эта авантюра. Отец Никодим, сидевший за рулем, кивнул артистам и услышал, как карлик тихо поет: «А-ли-лу-йя! А-ли-лу-йя!» (Господин Ганель вспомнил, что именно эти слова торжественно пел Сильвестр в день назначения его на роль монаха Лоренцо, а Саши — на роль Джульетты.) Машина выехала на проспект.
— Я живу на Тверской.
— Богато!
А ведь точно так же ответила Наташа, когда он встретил ее на Тверском бульваре, растерянную и подавленную! Хорошо бы она поскорее забыла все это! Хотя, — улыбнулся Ганель, — похоже, так оно и будет. И крикнул отцу Никодиму:
— На газ, батюшка, на газ! Мы в опасности!
— Триллер, прости господи, сущий триллер, — покосился на карлика отец Никодим и изо всей силы надавил на педаль.
Дождь над океаном
В квартире господина Ганеля было тихо. Отец Никодим ходил по гостиной и с любопытством оглядывал старинную мебель — ему необходимо было отвлечься.
— В этой тишине чего-то не хватает… Наверное, тиканья часов? — спросил он робко и сел за резной стол с массивными ножками. «Это не ножки, это ноги. Или даже ножищи». — Отец Никодим старался думать о пустяках.
Господин Ганель вышел из кухни с изящным чайником и двумя фарфоровыми чашками.
— Тиканья не хватает? Я почему-то не люблю настенные часы, — сказал он, садясь напротив отца Никодима.
— А обязательно настенные?
— Другие сюда не подойдут… Будем пить чай.
Отец Никодим чаевничал громко, раскатисто. Как будто старался этими звуками разогнать страх. Господин Ганель чаевничал скромно, неспешно. Он был уверен, что ничего плохого больше не случится.
Вдруг отец Никодим поперхнулся. В горле его что-то булькнуло. Он громко охнул и стал падать на бок. Господин Ганель подскочил к нему, когда тот уже распластался на полу.
Обморок.
Карлик сбегал за водой и стал прыскать батюшке в лицо. Не помогло. Отхлестал по щекам. Безрезультатно. Убежал на кухню, причитая: «„Скорую“ вызывать опасно, опасно „скорую“ вызывать, а кого же тогда вызывать?»
Голова священника болела так сильно, что если бы он мог кричать, то наверняка огласил бы квартиру воплем. Но губы онемели. И все тело онемело. Когда священнику показалось, что дальше — смерть, боль вдруг исчезла.
В ушах звучал шум прибоя. Отец Никодим почувствовал: ветер мягко прикасается к его лицу. И несет запах моря. Господин Ганель внес в комнату бритвенные приборы и какие-то тряпки.
— Как прекрасно, что вы очнулись. Вот бритва. Вот мой костюм кришнаита. Он мне больше не нужен.
— Постойте… А зачем?.. У нас ведь и габариты разные… — приходя в себя и искоса поглядывая на оранжевые одежды, отец Никодим принялся подниматься.
— Габариты? Полная ерунда! — Карлик махнул рукой. — Вы же знаете наш театр.
— А бритва? Бритва зачем?
— А как же без нее, отец Никодим? Как же без бритвы-то? — Господин Ганель слегка пританцовывал.
— То есть?.. — Догадка пронзила отца Никодима. — Вы хотите сказать…
— В ванную. Пойдемте в ванную! Хотите, я вам помогу?
— Постойте.
Священник закрыл глаза. Вдалеке, где океан соединялся с небом, сгущались тучи. Облака плыли в синей бесконечности — все быстрее и быстрее. Соленый, свежий ветер вспенивал воду. Он был наполнен еле заметными каплями. Но небо было еще ясным.
Из оранжевых одежд свисало что-то блестящее. Бусы?
— Да-да, — сказал Ганель. — Именно! Самый лучший способ спрятаться — быть у всех на виду. Например, на Арбате. Вы будете кришнаитом. Вы скажете москвичам и гостям столицы: вся ваша жизнь — только лишь сон.
— Я?! Гос… — Рука отца Никодима рванулась ко лбу, но застыла на полпути. — Нет, не могу и не буду! — Рука решительно рассекла воздух.
— Это было убийство? — спросил карлик. — Вы уверены?