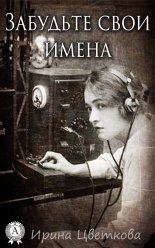Театральная история Соломонов Артур
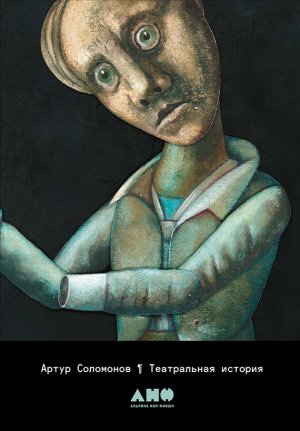
— Не сказал бы, Семен Иванович. — Инспектор Плеханов даже как-то опешил.
— Тезки по фамилии… — Директор тонул, хотя не знал за собой никакой вины. Но под перекрестным огнем суровых и смеющихся глаз начал ее чувствовать.
— Так не бывает, любезный, — ласково ответил Панфилов. — Тезок по фамилии не бывает.
— И не будет никогда, — отрезал неулыбчивый, и директор театра почувствовал, как остатки воли покидают его.
Почему же Сильвестр держал трепещущего перед инспекциями директора? Он ценил Борисова именно за его непреходящий страх перед тем, что его вот-вот проверят. Благодаря этому страху директор не позволял себе никаких отступлений от закона. Театр был в образцовом порядке. Но директор прекрасно понимал специфику державы, гражданином которой являлся, и знал, что ночной визит двух проверяющих сулит ему, безвинному, мало хорошего.
— Ну-с, — сказал неулыбчивый. — Сами предъявите нарушения? Или нам поискать? Это хуже.
— Это гораздо, гораздо хуже, — доверительно сообщил лучезарный.
— Какие нарушения, что вы, — лепетнул Борисов и проклял Сильвестра Андреева в душе своей.
А тот, кто накликал на директора двуглавый кошмар, приветливо улыбнулся многомиллионной аудитории и небрежно наклонил голову в сторону ведущей.
— В гостях «Вечернего часа» знаменитый режиссер Сильвестр Андреевич Андреев, лауреат Госпремии, премии «За заслуги перед Отечеством» второй и третьей степени, призер Эдинбургского фестиваля, лауреат премии «Европа — театру», человек, в театре которого двадцать лет не прекращаются аншлаги. Добрый вечер, Сильвестр Андреевич!
Андреев молчал.
— Сильвестр Андреевич? — интонация Юлии Кликниковой потеряла несколько децибелов доброжелательности.
Наконец Андреев вышел из паузы:
— Повторите, пожалуйста, все это еще раз. Мне так нравится.
Юлия испытала хоть и легонький, но все же шок, прежде чем поняла, что это была шутка. И, глянув в листок с вопросами, глубоко вдохнула. Настроилась на лучеиспускание. Начала испускать:
— Сильвестр Андреевич, расскажите нам, пожалуйста, о завтрашней премьере! «Ромео и Джульетта» в постановке выдающегося режиссера! В главной роли — Сергей Преображенский! Театральная Москва замерла в ожидании.
— Это она правильно сделала. Потому что завтра Москву ждет событие не только театральное, но и общественное. Всех, кто придет завтра, ждет сюрприз.
Юлия улыбнулась стране. Ипполит Карлович и отец Никодим сидели перед экранами — один жевал горящую сигару и цедил коньяк, другой перебирал четки и нашептывал молитву.
— Сюрприз, — сказал Ипполит Карлович.
— Сюрприз, — повторил отец Никодим.
Ипполит Карлович посмотрел в искрящиеся, наглые глаза Сильвестра:
— Молись, отец Никодим. Молись. Чтобы он не гаркнул чего. На всю Россию. Если хоть намекнет на нас. Инспекторы пожарные. Нам уже не помогут.
Отец Никодим шептал: «Отче наш, сущий на небесах, как же мы допустили?»
— Связался я с этим чертом… — с досадой молвил недоолигарх.
— Ипполит Карлович!
— Да брось ты!
Отец Никодим зашептал еще тише «Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое… Да не попусти ты позора адского, позора великого, позора кругосветного». Отец Никодим прервал молитву и взглянул на вражину в телевизоре. Крупный план. Ужасающе огромное лицо. Нахальные усы. Священник почувствовал, как поднимаются в нем волны ненависти. В таком состоянии он бы прекрасно сыграл Тибальта — таким, как его задумал Сильвестр.
— Моя интерпретация, возможно, покажется кому-то слишком радикальной, — сообщил Сильвестр Андреев. — Мы делаем спектакль не о вечной любви, а о вечной ненависти.
Отец Никодим метнул на Ипполита Карловича исполненный надежды взгляд: может, это и есть тот самый сюрприз? Но каменный взор недоогигарха разметал в прах надежды священника. Конечно. Это не может быть тем самым трижды проклятым сюрпризом.
Сильвестр Андреев вдруг спросил:
— А нельзя ли мне водички? Простой водички? — и обратился к кому-то стоящему вне кадра. — Ну, пожалуйста, вот вашу бутылочку. Можно?
Телережиссер схватился за голову, видя, как продюсер, прикрывая лицо рукой, вползает в кадр и подает Сильвестру бутылку воды.
На всю страну горло режиссера благодарно принимало влагу.
Ипполит Карлович наблюдал, как Андреев смачно, крупными глотками пьет воду. У недоолигарха не осталось ни капли сомнений: Сильвестр победил его. По крайней мере, в этом раунде.
В студии на десятках мониторов режиссер видел, как десятки Сильвестров утоляют жажду и портят кадр. На других мониторах улыбаются десятки Юлий Кликниковых и кадр украшают. Режиссер мгновенно сделал выбор и дал в эфир «юлиного оператора». Телеведущая заулыбалась городам и весям. Внутри, за этим лучащимся фасадом, царила паника.
— Приятного аппетита, — попыталась разрядить обстановку Юлия, видя, как пробегает ужас по лицам продюсеров. — Но мы же привыкли, что это самая великая пьеса о любви, а вы говорите…
— Да я тоже привык, — сказал Сильвестр и легонько прокашлялся. — Но нужно бороться с вредными привычками.
— Мы не очень поняли вас.
— Мы — это телезрители?
Юлия Кликникова кивнула. Неуверенно. Всей своей маленькой теледушой она почувствовала подвох.
— А у вас в ухе на связи вся страна? Вот в этом еле заметном наушничке? Превосходно. Как бы я хотел иметь такую обратную связь с публикой. Если вы позволите, о самом спектакле я говорить не буду. Я хочу сказать о завтрашнем сюрпризе, который станет великолепным подарком и вам, журналистам, и даже исследователям общественной психологии.
Сильвестр посмотрел прямо в камеру — в глаза аудитории. Отец Никодим и Ипполит Карлович застыли в отчаянии.
Сильвестр продолжил:
— На сцене появятся пародии на людей, которых вы все знаете. Они символы нашей болезни. Очень яркие символы. Даже талантливые.
— Какой болезни? — спросила Юлия, чувствуя, как у нее поднимается температура.
— Знаете, я вот когда читаю о православных чекистах, православных банкирах, мне становится противно. Так, знаете, мерзко мне становится. Особенно когда Церковь начинает награждать их своими орденами. Если это не болезнь, то что это? Хорошо. Назовем это беспорядочными связями. Но ведь именно они приводят к болезням. Вы же знаете.
Юлия Кликникова хотела утвердительно кивнуть, но вовремя удержалась.
— Я хочу заострить общественное внимание на некоторых участниках этого финансово-политически-православного союза. И зритель сделает выводы — от частного к общему. Тем более что часть выводов я и так уже сделал. Для вас.
— А каких людей вы имеете в виду? — поинтересовалась Юлия и наклонила головку, как она полагала, обворожительно. И тут же получила визг режиссера в «ухо»: «Ты о чем его спрашиваешь, ты офонарела! Юля!»
— Все увидите завтра. Москва узнает своих героев, я уверен, узнает!
В «ухе» Юлии Кликниковой вопил режиссер: «У нас сюжет о его театре, объявляй, затыкай его! Плевать, что не время еще! Объявляй! Мне голову оторвут, уже отрывают…» Юлия с облегчением приготовилась объявить сюжет, как вдруг услышала визг громче прежнего: «Юля, сюжет не готов, заткни его, умоляю, умоляю…»
— Сращение Церкви и капитала достигло пародийных высот, — продолжал Сильвестр. — Или, говоря на языке одного моего знакомого, сращение Бога и мамоны. Посмотрите на толстосумов, ищущих Царствия Небесного. Вернее, они хотят, чтобы мы так думали — что они ищут Бога, а не прибыли. А что ищут наши высшие иерархи? Подумайте, в какой они существуют гармонии! Почти божественной гармонии!
Ипполит Карлович посмотрел на отца Никодима. Взгляд недоолигарха был спокойным. Свершилось. Сильвестр все-таки сказал. А значит, закрытие театра с помощью пожарной команды — слишком очевидный для всех жест.
— Перед художником в современной России встают почти неразрешимые вопросы, — продолжал не обрываемый никем и ничем Андреев. — Как высмеять то, что само по себе уже смешно? Как обвинить тех, кто, сами того не подозревая, каждым своим словом и жестом себя обвиняют?
«Юля, Юля, уводи его от этой темы, срочно, бляха муха, Господи, Господи!» — бесновался режиссер в прекрасной ушной раковине телеведущей.
— Сильвестр Андреевич, вы же нам расскажете, при чем тут Шекспир? Разве об этом он написал великую пьесу про двух влюбленных?
— Юлия, в вашем лице Шекспир нашел такую защитницу, что теперь уже точно может покоиться с миром. Не волнуйтесь так. Мы отдадим Шекспиру — шекспирово. Но и не забудем, в каком веке и в какой стране мы живем.
«Юля, — стенал режиссер, — спроси его, чего это он такой актуальный стал, он же всегда презирал все такое… В Шекспира его сбрасывай, в Шекспира! Нас всех уволят!»
— Почему вас так заинтересовали актуальные темы? Насколько я знаю, вы всегда их сторонились.
— Я ошибался. Если не заниматься злобой дня, то наши дни станут еще злее. В каком-то смысле я наказан за то, что, зажав нос, пробегал мимо общественных проблем.
— И в ответ вы подготовили нам сюрприз, — язвительно сказала ведущая.
— Да. Называйте это сюрпризом, сделанным от раскаяния.
«Юля… все… выходи на рекламу…» — прошептал изможденный режиссер, и ведущая, из последних сил испуская лучи, объявила:
— А у нас рекламная пауза.
— После нее мы вернемся и снова расскажем вам о Шекспире, — усмехнулся Сильвестр.
Тем временем улыбчивый и безрадостный вошли в кабинет Семена Борисова.
— Чайку?
— На работе не пьем, — изрек лучезарный. И рассмеялся легко и просторно, как смеются только люди с кристально чистой совестью.
Два инспектора устроились на черных кожаных креслах. Причем лучезарный сел на место задопребывания Семена Борисова. Директор занервничал еще сильнее: его инспекторы присесть не пригласили.
— Вот здесь, — показал безрадостный на свой кожаный портфель, — у нас уже есть заключение о ваших нарушениях.
— Я так и знал.
— Вот видите, — заискрился «фамильный тезка». — Вы знали, что виновны. Давайте пойдем навстречу друг другу: вы признаетесь, а мы вам скажем, в чем.
В директорском взоре сверкнули ненависть и воля к борьбе. Но один лишь взгляд на черный портфель погасил их.
— Вы садитесь, — сказал лучезарный и показал на стульчик напротив. — В ногах правды нет.
Директор театра опустился на стульчик и подумал: «Что в конце концов это значит — в ногах нет правды? А в чем есть?» Он оглядел свои руки, черные туфли, папки бумаг на столе. Оглядел инспекторов. Правды нигде не было.
Сильвестр спокойно пил воду, примечая, что не только продюсеры, но даже операторы поглядывают на него с тревожным изумлением. «Операторы — народ равнодушный. А зацепил. Прекрасно». К Андрееву подбежал режиссер — в усталых глазах плескался испуг.
— Сильвестр Андреевич, мне звонил руководитель телекомпании, очень просил вас не говорить больше ничего про церковь. Обещаете?
— Торжественно клянусь.
— Двадцать секунд до эфира, — раздался небесный глас.
Юлия Кликникова засверкала улыбкой и сообщила стране:
— Напоминаю вам, что у нас в гостях всемирно известный театральный режиссер Сильвестр Андреев, и говорим мы с ним о завтрашней премьере «Ромео и Джульетты».
— Вы, наверное, думаете — чего это он так завелся, говоря о священниках, которые так любят находиться подле сильных мира сего? Печально то, что мы принимаем это как должное. Мы уже не в состоянии отличить белое от черного. Вот что я имею в виду, когда говорю о болезни. Юлия, дорогая, я рассказываю о предстоящей премьере немножко уныло, потому что она касается невеселых вещей. Но, знаете, театр такое место, где даже самые серьезные проблемы можно, — Сильвестр задумался, подыскивая точное слово, — можно протанцевать… — Он обратил внимание на нахмуренные бровки телеведущей. — Я образно говорю, Юлия.
Юлия мотнула головой — да понимаю я, что образно, я же не идиотка! Она была окончательно сбита с толку. Она хотела задать восемь вопросов, которые ей написали, обворожительно улыбнуться после каждого, выйти два раза на рекламу, один раз на сюжет, и завершить программу. А перед финалом улыбнуться так, чтобы, как всегда, пленить всю страну. Ее улыбка должна была до-стичь всех потаенных уголков России, всех квартир и домов, сверкнуть из каждого телевизора и оставить в каждом сердце дивный след. «А этот Сильвестр Андреев… — думала она со злобой. — Дурой меня выставляет перед Россией… Какие у него противные короткие пальцы!»
— Я, кажется, начинаю догадываться, о ком вы говорите, о каких всем известных персонажах, — блеснула наконец Юлия Кликникова, если не интеллектом, то хотя бы познаниями из жизни высших слоев общества. Сильвестр вдруг привстал, перегнулся через стол и, приблизив губы к уху ведущей и беснующемуся там режиссеру, понизил голос до полушепота:
— Только не упоминайте их имен всуе!
Рейтинг программы подлетал до небес. На голову телережиссера сыпались звонки с такой высоты, что он думал только об одном — уволят его с выходным пособием или по статье?
А в ухе обворожительной Юлии раздавались вопли.
— Бог мой, — шептал отец Никодим, закуривая ментоловую сигарету. — Бог мой… Он нас отымел… Как он нас отымел!!
— Хрен. Короток.
— Да нет. Не короток. — Священник закашлялся, прикурив не ту сторону сигареты. — Через всю страну протянул.
Ипполит Карлович взял мобильный. Набрал номер.
Неулыбчивый сразу ответил:
— Слушаю вас. — И подобие радости сверкнуло на его лице. Улыбка восходила только в случае телефонного явления людей масштаба Ипполита Карловича. А поскольку такие люди звонили ему нечасто, то и радости его были так мимолетны, так редки!
— Отмена.
Безрадостный мгновенно вышел из кабинета. Оставил Семена Борисова смотреть в нежные глаза второго инспектора — смотреть и холодеть.
— Так мы почти уже… Закрыли заведение.
— Отмена.
Ипполит Карлович нажал на сброс.
— Вы отменили! Вы отменили! — Слова отца Никодима вылетали вместе с дымом. — Тогда он нас и завтра… Снова! Отымеет и завтра!
— Да что ты заладил. Святой отец.
— Я не святой отец!
— Я вижу.
— Зачем, зачем вы отменили, зачем!
— Знаешь. Если после такого. Мы закроем спектакль. Это будет. Еще хуже.
— Да как же мы допустили? Ипполит Карлович! Как? — Священник был почти в слезах.
— И мы с тобой завтра придем. На премьеру.
— Да ни в жизнь…
— Это единственный шанс. Что он не посмеет.
— Да это его только раззадорит.
— Прийти надо. Иначе решат, что мы в испуге. А мы плевать на него хотели. На Сильвестра.
Отец Никодим взял еще сигарету из пачки, тоскливо на нее глянул, сунул в дрожащий рот и задымил.
— Оказывается, все у вас в порядке, — сказал неулыбчивый.
Семен Борисов приподнялся со своего стульчика. Ноги обретали правду. Пока только они.
— Тогда, — тихо промолвил директор, — тогда спасибо вам.
— Вам спасибо, — заулыбался лучезарный. — Образцовый театр!
— А нельзя ли… — замялся неулыбчивый, как бы стесняясь, вернее, неуклюже изображая стеснение.
— Конечно! Сколько вам билетов?
— Четырнадцать.
Директор понял, как проведет эту ночь: извиняясь перед теми, кого уже пригласил. Но тут его осенило: инспекторы-то больше не опасны. Заказ-то отменен. И Семен Борисов, директор прославленного театра, распрямился и ответил не без гордости:
— На наши премьеры даже премьер-министр столько билетов не просит.
Инспекторы, извиняясь за беспокойство, вышли из кабинета. Семен Борисов, вытирая платком покрасневшее лицо, сел в свое кресло, глубоко вздохнул и закрыл глаза. Правда воцарялась в кабинете директора театра.
«Прощайся с ним, Юля, прощайся! — кричал режиссер. — Мы дикую природу поставим! Или черт знает что! Прощайся, не давай ему говорить!»
— У нас есть традиционное прощание с телезрителями, — сказала Юлия Кликникова.
«Ты очумела, Юля! — вопил режиссер так громко, что некоторые слова начал слышать даже Сильвестр. — Я сказал, не давай ему слова!»
— Я помню ваше традиционное прощание, — сказал Андреев. — Снова хотите, чтобы я вам о своей мечте рассказал?
— Ну да… — улыбка телеведущей была похожа на крик о помощи.
— Я, конечно, был бы рад поделиться с телезрителями своей новой мечтой, но, знаете, Юлечка, она как-то не успела во мне сформироваться к сегодняшней нашей встрече. — Андреев чуть наклонил голову, как бы отвечая на невидимые аплодисменты. — Так что давайте отложим этот вопрос на следующий раз. А пока я приглашаю всех на премьеру. Будет ярко. Незабываемо.
— Спасибо, спасибо, дорогой Сильвестр Андреевич, — с явным облегчением затараторила, Юлия, по экрану поплыли титры, зазвучала музыка и началась программа «Джунгли: посторонним вход воспрещен».
Ипполит Карлович и отец Никодим, не в силах оторвать взгляда от телевизора, смотрели, как львица нападает на буйвола, как прыгают обезьяны с лианы на лиану, как поднимается во весь свой страшный рост кобра, а индусы, улыбаясь, рассказывают, что частенько на их машины в горах нападают тигры. Поэтому они всегда ездят вдвоем.
— Ты что-то понимаешь. Отец Никодим?
— Да что же, что же тут непонятного! Это фиаско.
— Вот это слово получше. Чем раньше. Но я не о том. Почему они вдвоем. Против тигра не боятся? То есть два индуса. Равны. Одному тигру. Что ли?
— Это мы с вами завтра в театре будем, как два индуса в джунглях.
— Да не страдай. Дорожное происшествие назревает. Чует мое сердце.
Отец Никодим посмотрел на Ипполита Карловича с испугом. Тот расхохотался — так, как умел только он: властно, протяжно, с тяжелыми, мрачными паузами.
…В половине второго ночи агентство «РИА-Новости» передало с пометкой срочно: «Вчера в 23.40 знаменитый актер театра и кино Сергей Преображен-ский погиб в автокатастрофе. На месте аварии работает следственная группа. Наш корреспондент дозвонился до Сильвестра Андреева, художественного руководителя театра, где великий актер работал в последние годы. Но режиссер был так шокирован, что отказался поверить в произошедшее».
«Что же ты. Милый мой… — Ипполит Карлович мелко отхлебнул чай из металлической походной кружки. Сильвестр стоял в двух шагах от него и молчал. — Думал. Что держишь Бога за бороду? На мои деньги хотел. Плеть купить. И меня же. Ей выпороть. Мечтатель… — Ипполит Карлович отхлебнул снова. Тихо, бережно поставил кружку на край стола. — Теперь его смерть и на твоей совести. А ты думал. Я тебя? Разобью? Смешно. Но ты. Страдай в меру. Помнишь ведь. Что отец Никодим говорил. Христос. Воскрес. Из мертвых. Смертью смерть. Поправ. И сущим во гробех. Живот. Даровах».
Сильвестра выбросило из сна. Всем своим — с головы до ног — заболевшим телом, он вспомнил, что случилось вчера. «Нет. Не верю», — прошептал Сильвестр и почувствовал, что у него соленые губы. Провел ладонью по лицу — оно было в поту. Даже в усах гнездились капли. «Человеческая роса», — подумал Сильвестр. И снова: «Не верю. Нет». Он вспомнил, как отец Никодим оглашал храм: «Что мы чувствуем, когда умирает наш близкий? Мы кричим: „Нет!!!“ И в этом крике больше истины, чем в смирении, которое наступает вскоре. Ибо зачем же смиряться с несуществующим?» Сильвестр подумал: «А несуществующий — это ведь Сергей».
Нет.
Ну, нет же.
Из-под подушки раздалось глухое жужжание. Мобильный. Странно. Сильвестр уже много лет не клал его рядом. С того времени, когда он, молодой режиссер, днями и ночами ждал звонков с предложениями хоть что-то хоть где-то поставить. Правда, тогда не было мобильных, и начинающий режиссер Сильвестр Андреев ставил возле кровати старый, в трещинах, телефон. «Значит, — начал соображать Сильвестр, — после вчерашнего катастрофического звонка, который, дай Бог, мне приснился, после этого звонка я свалился в постель?
А разделся когда?» — недоумевал он, приподнимая одеяло. Посмотрел на экран мобильного.
Время — полвосьмого утра. Сорок семь неотвеченных вызовов. Значит — правда.
Сильвестр медленно поднялся с кровати. Вышел на балкон. Зимний холод окружил кожу, пробрал до костей, а он смотрел в наливающееся светом небо, и не было мыслей, и не было чувств. Жена вышла и молча протянула ему пальто. Ушла. Значит — правда.
Сильвестр покорно надел пальто, хотя холод его совсем не тревожил. Смотрел в небо, смотрел на снег, смотрел на машины и людей. Он чувствовал только изумление: нет ни боли от утраты, ни дрожи от холода.
Часы на мобильном показали восемь. Сильвестр решил вернуться в комнату. Потянул дверь на себя. Закрыта изнутри.
Стал стучать — жена не слышала.
Стал кричать — жена не слышала.
Редкие прохожие видели, как усатый человек на балконе второго этажа, в пальто, наброшенном на полуголое тело, стучит в дверь, громко и гневно зовет кого-то, выкрикивает какие-то требования и вроде бы даже угрозы…
— Извини, извини, — забормотала жена, открывая Сильвестру. — Ты что, забыл, в какую сторону дверь открывается?
Жена изумилась — лицо Сильвестра, стоявшего на таком морозе, было усеяно каплями пота. Но изумление мгновенно сменил страх за мужа. И она повлекла его на кухню, причитая, что сейчас будет поить его горячим чаем, что никуда не пустит сегодня, что хочет отдыха для него и себя… что сейчас будет поить его горячим чаем, что никуда не пустит сегодня, что хочет отдыха для него и себя…
Александру показалось, что телефон стал как-то весомее оттого, что в него влетело сообщение Наташи. Он прочел: «Саша! Ты же знаешь, что случилось?» Глаза Александра сверкнули надеждой. Он ответил вопросом: «Нет, а что».
«Ночью погиб Преображенский».
Александр вглядывался в телефон. Пытался соединить в сознании эти три слова. Ночью. Погиб. Преображенский. Так, еще раз. Ночью. Слово привычное. Погиб. Случается. Преображенский. Продолжение фразы проскальзывало мимо сознания.
Александр набрал Наташу.
— Откуда ты узнала?
— Отовсюду.
— Как это?
— Зайди в Интернет, включи телевизор, это говорят отовсюду.
Он почувствовал по голосу — она только что плакала. Сашей постепенно начал овладевать смысл эсэмэс.
— Как это случилось?
— В машине погиб.
— Как в машине? Сердце?
— Авария.
Александр положил мобильный на стол. Долго сидел в тишине. Ни чувств. Ни мыслей. Ни образов. Вдруг воскресло воспоминание: вечерний Тверской бульвар, господин Ганель исчезает в толпе, а пьяный Сергей, смеясь, просит, чтобы Саша не закрывал своими руками от публики его лицо. И неизвестно откуда пришедшее чувство счастья. Явилось другое, черное воспоминание: как он еще до назначения ненавидел Сергея. Как желал ему смерти. Думал убить его троном. Сейчас в это трудно поверить. «Но ведь так было», — прошептал он. Он быстро нашел это место в дневнике: «Он будет раздавлен собственным троном. А зритель будет восхищен — как великолепно наш кумир играет покойника! Бездыханный, бездвижный, он получит последнюю порцию аплодисментов».
Александр закрыл дневник. И снова вспомнил, как смеющийся Сергей говорил: «Саша, это твои руки. Твое решение, куда их девать. Только не надо так долго закрывать мое лицо от зрителей». И снова засмеялся — в тот вечер они долго, долго смеялись.
…Александр быстро оделся, чувствуя, как вспыхивает и гаснет в его голове «сегодня ночью погиб Преображенский». Выбежал на улицу. Холод окружил его.
Елена Преображенская не спала всю ночь. Она уже должна была выехать в морг, чтобы провести опознание. Потом ей надо было заниматься какими-то делами, кому-то звонить, принимать соболезнования… Но ее охватила, как бы сказал ее муж, «грандиозная пауза».
В девять утра раздался звонок. Она машинально подняла трубку, хотя до этого ни на один звонок не отвечала.
— Доброе утро, Елена Евгеньевна, — зажурчал мужской голос. — Мы приносим вам глубочайшие соболезнования. Это такая утрата!
— Кто вы?
— Наша фирма называется «Земля и люди». Мы около недели назад послали вашему супругу, как бы это сказать, предложение. Он нам не успел ответить, но может быть, вы знаете о его решении?
— Каком решении…
— Наши ученые изобрели новый метод утилизации мертвых тел. Я понимаю, что вам сейчас очень тяжело это слышать и еще тяжелее об этом говорить. Но потом, когда вы примете решение о кремации или захоронении, будет уже поздно.
— Поздно? — Она пыталась понять, чего хочет этот журчащий голосок. Он, похоже, дает ей какую-то надежду? Иначе что значат слова «будет уже поздно»? Разве уже не поздно?
— Выслушайте меня ради вашего же блага.
Услышав слово «благо», жена Преображенского окончательно перестала понимать, о чем ей толкуют. Какое сейчас возможно благо? Откуда оно может прийти? С какого света?
— Мы изобрели новый метод, который позволит Сергею Леонидовичу миновать процесс разложения и скелетизации.
Миновать разложение? Значит, есть какая-то надежда на жизнь? Но как?
И кто это журчит?
— Я не понимаю вас… Позвоните позже. Я не могу сейчас понимать.
— Елена Евгеньевна, милая, скорблю вместе с вами, но позже будет поздно, я же говорю вам. — Ее невидимый собеседник издал глубокий протяжный вздох. — Скажу тогда, так сказать, о бренном. О деньгах. Если известный человек — а ваш супруг был известнейшим человеком! — соглашается воспользоваться нашей методикой, мы выплачиваем ему десять тысяч долларов. В вашем случае деньги пойдут вам. Вы должны будете лишь подписать некоторые бумаги, которые, скорее всего, Сергей Леонидович подписал бы сам. И вы покроете существенные расходы на поминальные торжества.
В голове нечастной женщины вновь разразилась сумятица — разве поминки могут быть торжеством?
— Когда вам перезвонить? Когда вы решите, что принимаете наше предложение? Сегодня вечером, да?
— Я не знаю. Я все равно не поняла. Я попрошу друзей. Извините.
Она положила трубку. Звонок раздался снова. Она не подошла.
Пора было отправляться в морг Института имени Склифосовского проводить опознание трупа. И, хотя надежды никакой не было (Сергей не звонил всю ночь, его телефон выключен, а искореженная машина принадлежала ему), в супруге Преображенского вдруг загорелась надежда — а может быть, еще не поздно? Какие-то блага, быть может, еще впереди? Миновать процесс? Миновать процесс! Сергей еще может миновать процесс?!
А вдруг погиб не он, а кто-то чужой? А он с поклонницей! Дай-то Бог! Вот прямо сейчас проснулся, посмотрел на часы, и похолодело сердце — как же я виноват перед женой! Дай-то Бог! Может быть, в морге она увидит совершенно чужой труп? И заплачет от радости? И работники полиции принесут свои извинения. Глубокие-глубокие извинения — насколько же они лучше соболезнований! А она ничего не ответит, просто убежит из этого проклятого места.
И полицейские начнут искать близких покойника. Будут набирать чьи-то номера. И эти ужасающие звонки пролетят уже мимо нее.
С этими мыслями-чувствами она вышла из дома, села в такси, сказала «в Институт Склифосовского» и зарыдала так, что шофер дал себе слово не брать с нее ни копейки. И слово свое сдержал.
Опознание прошло успешно.
Сергей Преображенский лежал в холодильной камере под номером сорок семь.
Вдова попросила отца Никодима отпеть покойного. Священник отказать, конечно, не мог, но его терзало чувство, что он косвенно виновен в гибели Сергея. Он смотрел в окно своей кельи при храме Николы Мученика. Шел мелкий снег. Неизвестный отцу Никодиму юноша смачно и даже с какой-то плотоядной яростью ел грейпфрут в храмовом дворике. «Все же русские невероятный народ, — думал отец Никодим. — Грейпфрут на двадцатиградусном морозе…» Священника передернуло, и он отвернулся, чтобы не дать отвращению овладеть собой.
Вошел Ипполит Карлович. Без стука. Встал посередине кельи. Уперся взглядом в отца Никодима.
— Не заходишь. На звонки. Не отвечаешь. И вот Магомет. Пришел к горе.
Отец Никодим тяжко вздохнул и указал Ипполиту Карловичу на стул.
— Я знаю. О чем ты мыслишь. Это совпадение. Я когда услышал, всю ночь не мог в себя прийти. Веришь?
— Ипполит Карлович, обращайтесь ко мне как положено духовному чаду обращаться к своему духовнику. Или найдите другого священника.
— А как. Положено.
— Положено на «вы».