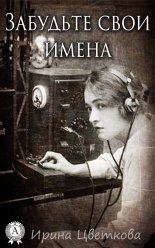Театральная история Соломонов Артур
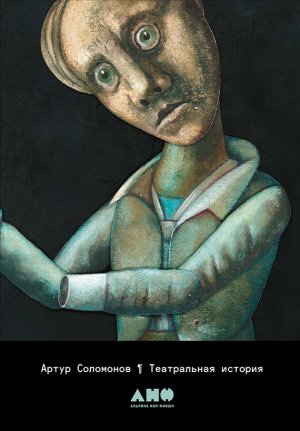
Господин Ганель стоит прямо, как тростник, ветром не колеблемый. Он никогда не был чувствителен к речам о Боге и бессмертии. На короткое время его развлекли совпадения имен — Александр во гробе, тайных учеников Иисуса, оказывается, звали Иосиф и Никодим. Но что бы это значило? Господин Ганель не знал, и, в общем-то, знать не хотел.
Александр уже успел оправиться от того, что покойник — его тезка, и слушал отца Никодима, затаив дыхание, чувствуя, как откликается его душа на каждое слово. Ведь такие слова сегодня можно услышать лишь в этом пространстве, под иконами, при свечах, при наглухо закрытых от суетливого мира дверях. И вдруг он отчетливо вспомнил, что слышал почти то же самое и совсем не в церкви. Это были слова Сильвестра, когда он «изгонял Ганеля из Ганеля». Тогда режиссер рассказывал историю про безответно влюбленного горбуна. Александр вспомнил слова Сильвестра: «Я говорю о презрении к реальности.
Я говорю об абсолютной, полной власти воображения. Мы, как герой одной великой пьесы, должны сказать: „Вдохновение выводит меня за пределы здравого смысла“. Потому что только там, за его пределами, начинается искусство». Это воспоминание мелькнуло быстро, но не погасло, как это часто бывало с мимолетными воспоминаниями Александра. Оно настойчиво требовало внимания. Пути двоились. Мысли путались. Александр был растерян, он не знал, что ему думать. А потому решил слушать, слушать, слушать.
Сильвестр Андреев не был изумлен — он хорошо понимал, в чем их сходство с отцом Никодимом, и в чем различие. Сейчас, глядя на священника и восхищаясь им, он сформулировал различие так: «Для отца Никодима игра — это путь к истине, а для меня игра — это истина. Вот и разница. Но какой артист! Как от моих актеров добиться такой же подлинности? В каждом слове и жесте? Не впервые же он обо всем этом говорит и думает? А кажется, что слова льются, как будто их рождает не память рабская, но сердце… А как он держит равновесие между свободой и точностью, между дисциплиной и вдохновением! Дар! Причем Божий», — с восторгом думал Андреев, глядя на священника. Таким коршуньим взглядом, в котором смешивались зависть, ревность и восторг, он смотрел только несколько раз в жизни — на великого итальянского актера Ферручио Салери, на француза Марселя Марсо, и вот сейчас, в храме Николы мученика, на отца Никодима.
Тот закрыл глаза и молчал. Все замерли в ожидании новых слов. А отец Никодим стоял с предельно напряженным лицом, словно добывал слова на такой глубине, куда простому смертному не добраться. Сильвестр подумал: «Ни в коем случае я не прерву этот спектакль… Акция отменяется навсегда…»
Ипполит Карлович, который становился все пьянее и все религиознее, пользовался всеми привилегиями подсматривающего — то приближал, то отдалял лицо отца Никодима. На огромном экране лик священника то разрастался до немыслимых размеров (и тогда Ипполиту Карловичу казалось, что и слова отца Никодима становятся больше и мощнее), то сжимался до грецкого ореха (тогда недоолигарху становилось полегче, серьезность проповеди отступала, и он наливал себе новую порцию коньяка).
Сергей Преображенский внимательно слушал слова о воскресении, о встрече с Богом. Но они меркли перед тем, что Преображенский видел. Скрещенные руки. Желтые волосы. Ввалившиеся щеки. Воображение, которое отец Никодим призывал на помощь вере, в случае с Преображенским подействовало противоположным образом. Ему чудилось: то, что он сейчас видит — становится его частью, властно в него вторгается; желтые волосы, скрещенные руки, впалые щеки — теперь уже с ним, теперь уже в нем — глубоко и навсегда. Казалось, холод церковного пола и холод самого покойника проникают в него.
Ему неудержимо захотелось вырваться из толпы, пытающейся поверить в вечную жизнь. Он неловко повернулся и толкнул плечом старушку, которая посмотрела на него так зло, словно он бес. Как минимум, бес.
Глядя на источающую ненависть старушку, Преображенский подумал: «Какой это священник называл церковных старушек „наши православные ведьмы“? Неужели не вспомню, память разрушается, нельзя мне было так долго смотреть на труп, нельзя было, я же знал, я же избегал, я же на похороны друзей не ходил, что же сейчас…» И уже не глядя на старушек и стариков, отроков и отроковиц, Сергей, как сквозь чащу, стал пробираться сквозь толпу. Верующие расступались с недовольством. Немногие пропускали его смиренно. Какая-то женщина с двумя гвоздиками вдруг всплеснула руками (гвоздики задрожали) и вскрикнула: «Не может быть! Вы! Здесь!» Потом, видимо, сообразив, что церковь не место для подобных восторгов, с восхищенной улыбкой пропустила Преображенского и еще долго искоса поглядывала на него.
Преображенский наконец вырвался из толпы. Увидел, что под колонной стоит Иосиф и с ужасом читает какую-то бумажку. Сергей снова посмотрел туда, где живые пытались уверовать, что тот, кто лежит перед ними, не умер. Издали было заметно, что покойник маленького роста, и потому гроб у него тоже маленький. «Значит, габариты гробов и могил растут только в Америке… Слава Богу… Нам, русским, не придется подписывать бумажки, что мы желаем стать жидкостью кофейного цвета… Будем по старинке разлагаться и скелетироваться».
Ирония не помогла. Он закрыл глаза. Прислонился лбом к холодной колонне. Холод подействовал угнетающе. И Сергей почувствовал, что нет ничего за пределами этого гроба, ничего, кроме щек-волос-рук, кроме ужаса, который разрывает ему душу.
Отец Никодим продолжал:
— Сейчас, стоя перед мертвым телом Александра, мы должны осознать — вот наше неизбежное будущее. Вот чем все закончится, какими бы ни были наши пути. Ведь куда бы ни шли, мы идем к смерти. И перед этой страшной реальностью разве не рассыплется в прах все, чем мы живем? Разве не останется лишь самое главное, самое важное? Что же останется? Любовь. Только ею мы спасемся. Только ее сможем предъявить Господу на Страшном суде. Ведь не о постах же, не о молитвах мы расскажем Богу! А о том, как мы, живые, обращались с другими живыми. Исполнили мы единственный завет или нет? Любили ли мы? Радость и надежда, которую мы принесли другим — только они будут свидетельствовать за нас, когда Господь спросит: на что ты потратил жизнь, которую Я дал тебе?
Любовь между нами и сложна, и трудна, и так часто заглушается суетой, но она нам понятна. Все мы в той или иной мере испытали любовь других людей и любили. И поблагодарим Бога за те мгновения, когда совершалось это чудо любви, и мгновения не распыляли ее, а продлевали, и любовь действовала в нас, оставляя в нашей жизни дивный, никогда не исчезающий след. Но есть непостижимый аспект любви: Бога к человеку и человека к Богу. Что же происходит сейчас между Богом и сотворенным им человечеством? Страшный период. Невиданный. Бог испытывает к нам безответную любовь. Не надо унижать нашего Господа абстракциями. Он живой, и он страдает от безответной любви.
Что обычно делает человек, когда безнадежно любит другого человека? Он порой проявляет себя, нелепо и робко, давая понять — я здесь, я люблю тебя, но не хочу тебе мешать, не хочу навязываться. Так и Бог наш порой проявляет себя через образы, в которых трудно даже предположить Его присутствие. И в такие мгновения, когда Его не ждешь. И так робко, что Его можно не заметить. Потому что Он не желает нам навязываться.
Божественная неловкость в попытке обратить на себя внимание — вот какой исторический период мы переживаем. И вдруг, порой в самой прозаической ситуации, нас охватывает чувство Его присутствия. Но чувство проходит, мгновение не удерживается, и остается лишь воспоминание о том, что жизнь исполнена глубины, что мы окружены и пронизаны вечностью.
Александр вспомнил свое мгновение — подземный переход, господин Ганель исчезает в толпе, голос Сергея раздается из телефона. Вспомнил и чувство счастья, пришедшее ниоткуда, не имеющее причин, но пронизывающее все тело. Неужели нужно понимать смысл этого мгновения так высоко, как говорит отец Никодим?
Но когда священник говорил, что на отсутствие любви можно ответить только страданием, в Александре отозвалась его неутомимая мука. Он снова подумал о Наташе. Не подумал даже, а почувствовал сразу все, что с нею связано — от давней радости первой встречи до нынешнего страдания. Он мысленно — за несколько секунд — увидел их совместный путь: от встречи у театра, когда ветер спровоцировал его на хулиганство с юбкой, до последнего разговора — «ты пойми, нет, ты пойми». Ему показалось неправдоподобным, что она сейчас с мужем.
— Будем же дорожить каждым мгновением и страшиться каждого мгновения, ибо сколько бы ни обманывало нас время, сколько бы ни обманывал нас опыт непрекращающейся жизни, одно из мгновений станет последним. И если мы, пока живые, откликнемся на слово Бога только чувством, всего лишь умилимся и ничего не сделаем, то мы должны признать: мы — мертвы. Мы, а не тот, кто сейчас лежит перед нами! О нем мы не можем ничего знать, он пребывает в великой тайне, имя которой — Бог.
Наша душа, лишенная любви, наглухо закрытая для веры, разлагается, гниет прямо сейчас, в это мгновение. Мы сами — гроб для нашей души. А душа почившего раба Божьего Александра принята Господом, Он любовно вглядывается в нее. И Александр сокрушается о днях, которые потратил на что-то, кроме любви. И понимает, что ничего, ничего уже не может исправить, и надеется только на милосердие Божие.
Мы же — можем исправить! У нас есть время. Посмотрите на великое богатство времени, на дни, которые распростерлись перед нами, они у нас есть, они наши, наши до каждой секунды! Неужели мы потратим их на то, чтобы доказать Богу, что он был неправ, создавая нас? Какое нелепое, ущербное желание отчаявшейся души!
Неужели мы скажем Господу, когда придет и наш час — я мог любить, но испугался, я мог сделать столько добра, но было много других дел, я отдал свой талант и свое время тем, кто даже не взглянул в мою сторону, я был слепым и искал признания слепцов! Вот, Господи, моя жизнь, суди меня! И Бог будет молчать, и мы будем молчать, и не будет ничего страшнее этой тишины. Ибо ничего, ничего уже нельзя будет исправить.
Отец Никодим, все более вдохновляясь собственной речью, проживал глубоко каждое свое слово, видел каждый образ. Его волнение передавалось тем, кто окружал — теперь уже не гроб с телом, а священника. Подошел к нему и Преображенский — слова о любви заставили его приблизиться. Отец Никодим был уже далек от того, чтобы тщеславно примечать такие мелочи. Он забыл о камерах Ипполита и о том, что Сильвестр что-то замышляет.
— И о себе скорблю я, ибо не могу идти путем любви! Не пускают меня грехи мои, и тщеславие мое, и гордыня. И о любви я говорю не только вам, собравшимся вокруг меня, я это говорю и себе. В первую голову себе говорю, сам себя пробуждаю. Я и сеятель, я и поле. И вам, вам, я хочу сказать, что знаю и чувствую, как велика любовь Бога и как сладко пребывать в ней, но нужна решимость. Нужна решимость! То, чего нет больше у наших мужчин, то, что исчезло из нашей жизни вместе с верой и надеждой. Не потому ли исчезли надежда и вера, что у мужчин истаяла решимость? Решимость быть? Мужчина сейчас перестает быть мужчиной, потому что боится встать в полный рост и сказать: «Это я, Господи!» Мы прячемся по норам и углам, и даже во грехе ведем себя, как шкодливые дети! Посмотрите, есть ли среди нас те, кто живет прямо, кто ходит не извилистыми тропами, кто не отрекается от себя по десять раз на дню? Есть ли среди нас мужчины, которые сохранили верность хотя бы себе?
На нас, на мужчинах лежит миссия предстояния перед Богом. Женщинам это не по силам, какой бы силы ни была эмансипация. Но они так же, как мы, страдают от разлуки с Богом. В беспомощности своей они могут только тосковать, что их мужья не исполняют положенного им предназначения, что рассыпают себя в песок мелких дел.
Сильвестр подумал: «И этот человек помешал моему спектаклю! Да он бы мог сам, при желании, дополнить его мыслями об истощении мужского начала… В богословском аспекте… И разве я бы отказался от такого консультанта?
А как великолепно, как вовремя он заговорил о себе и своих грехах — как раз когда все начали уставать от проповеди! И — раз! — в одно мгновение она стала исповедью. И все снова потянулись к его монологу! Все точно, божественно точно. И вот так же точно, безошибочно он загубил мой спектакль!» — с тяжелой ненавистью посмотрел он на отца Никодима.
Ипполит Карлович слушал проповедь, пил «Арарат» и чувствовал, как пронзительные слова, подкрепленные спиртным, будоражат его душу. Он снова, как и всегда, когда евангельское слово сливалось с коньяком, хотел отказаться от своих миллионов, пожертвовать их, отдать, раздать, отправиться странничать, жить отшельником, питаться кореньями, обрести, наконец, смысл и не бояться неотвратимой смерти. Но пройдет несколько часов, коньяк улетучится вместе со словами отца Никодима, и Ипполит Карлович, мрачный, сядет в свою машину, поедет на одно из своих предприятий, соберет совещание, будет медленно и страшно говорить, и пугать всех ритмом своей речи, и светиться многомиллионным нимбом, и тосковать, и желать большего…
Большой экран передавал то, что не было видно стоящим вдалеке прихожанам. Глаза священника сверкали вдохновением; он сделал глубокий вдох и сказал:
— Мы, раздробленные на части, мы очень сложны, мы адски противоречивы, а есть очень простой способ избавиться от мучающих нас противоречий.
Иосиф, который уже поставил мировой рекорд по беспрерывному дрожанию, услышал близкое ему слово и как-то странно повел носом в сторону проповедующего — словно начал не вдумываться, а внюхиваться в смысл того, что говорит отец Никодим.
— Если в вас будет любовь, вы не будете знать противоречий, не будете мучиться вопросом, как поступить. Вам не будет мерещиться, что все пути верны. Я имею в виду не любовь-страсть, не любовь-увлечение, а жертвенную любовь, любовь дающую. Только полюбив вот так, без оглядки и расчета, не вкладывая свои чувства будто в банк в ожидании процентов, мы можем уже сейчас, на земле причаститься вечности. И тогда мы погибнем навсегда для раздробленного на части, истерзанного противоречиями мира, живущего в иллюзии, что между одним человеком и другим есть различие. А если его нет, то о каких противоречиях может идти речь?
Итак, запомните, есть лишь один закон — закон любви. И мы должны его исполнить, ведаем мы его или не ведаем. Ведь не знающий божественного закона не освобождается от ответственности.
Сильвест радостно улыбнулся: «Прокол. Ну, слава Богу! А то я уж подумал, что есть в мире совершенство, и мне надо идти к Никодиму в ученики. „Незнание божественного закона“ — домашняя заготовочка. Дешевый калабмурчик! Совсем не на уровне предыдущего монолога. Лажа! Уф…»
— В человеческой любви самые незначительные слова и жесты имеют безмерный смысл. Разве не то же самое происходит в любви Бога к своему созданию? Бог есть любовь, и наши незначительные жизни в свете Его любви к нам обретают безмерное значение. Бог безграничен, а потому перед его лицом нет ни малого, ни великого. И самый великий для него — мал, и самый маленький — велик. Бог, когда жил с нами на земле, показал нам, что нет людей, которые бы не стоили любви. И нет ничего подлее словосочетания «маленький человек». Наш Бог показал нам, что в этих словах нет ни логики, ни совести. Бог есть, а потому нет маленького человека.
Александр слушал во все уши и смотрел во все глаза. В нем совершался переворот. Он всегда пленялся силой, любой силой, и сейчас происходило то же самое. Но было и существенное отличие — перед ним открывался путь, на котором разочарование в человеке не будет окончательным разочарованием. Это Александр, столько раз ошибавшийся в людях, столько получивший от них боли, чувствовал безошибочно.
На Сергея Преображенского неотразимо подействовали слова о любви. Воскрешение, встреча с Богом — всего этого он не понимал, не чувствовал. Любовь же людей, которая давала ему чувство избранности и бессмертия — в ней он разбирался прекрасно. Он покосился на женщину с двумя гвоздиками — так и есть, она смотрит на него, и взгляд ее восхищен. Проповедь отца Никодима воздействовала на нее меньше, чем его присутствие! Преображенский снова ощутил потоки любви, которые как будто возносили его над смертью, и встал перед иконой Богоматери — начал креститься и кланяться, помня о тысячах любящих его.
Сильвестр, зорко наблюдая за выражением лица батюшки, за его жестами и паузами, восхищенно покачал головой и инстинктивно поднял руки для аплодисментов, но вовремя осекся, вспомнив, что аплодисменты — сигнал к наступлению. Однако, господин Ганель, нервы которого были уже на пределе (поскольку отсекать от себя все происходящее, сосредоточившись только на режиссерском задании, стоило ему все больших усилий), принял поднятые для оваций руки Сильвестра за сигнал к началу боевых действий.
Он мгновенно открыл сумку, достал фейерверк и поджег фитиль. В церковной тишине послышался треск. Вверх взвились красные, зеленые, синие линии. Под куполом они превращались в цветы. Цветы один за другим распускались и тут же гибли. На их месте появлялись новые, которые жили не больше секунды.
Верующих сначала охватило смятение. Но очень быстро на смену ему пришел гнев. Испускающий цветы карлик нарушал установившийся для всех священный покой. Господин Ганель, подле которого давала залпы цветочная артиллерия, видел, как сгущаются вокруг него ряды прихожан, и отнюдь не любовью светились их лица. Иосиф начал на мелкие кусочки рвать грамоту.
Отец Никодим был изумлен этим вопиющим ребячеством. Он даже не верил, что Сильвестр сам — сам! — дал ему в руки такое оружие против себя. Священник заговорил властно:
— Здесь присутствуют артисты одного из лучших наших театров. Они пришли поглумиться над таинством отпевания. И совершенно напрасно господин Андреев сейчас ухмыляется в свои усы.
Сильвестр же и не думал ухмыляться, но ход отца Никодима понял сразу: священник давал толпе понять, где находится ее настоящая жертва, ее подлинная цель. Люди послушно потянулись в сторону человека с усами.
Господин Ганель, не в силах даже представить, чему сейчас может стать свидетелем, беспомощно взвизгнул:
— Это я все затеял, я! Один!
Этот крик изумил даже самого господина Ганеля. От волнения он взял неожиданно высокие ноты, попросту говоря, запищал. Услышав этот писк, некоторые из прихожан заулыбались. На этом крике, вызвавшем улыбки на хмурых лицах, последний цветок взвился под купол, вспыхнул и угас под суровым взглядом Бога Отца.
Отец Никодим наслаждался растерянностью Сильвестра, которого стала окружать толпа, правда, с гораздо меньшим энтузиазмом, чем карлика. Во-первых, господин Ганель был чужд и странен, а во-вторых, как ни крути, а проще все-таки верить в то, что ты видишь, чем в то, что говорит отец Никодим. Может, Сильвестр и не зачинщик вовсе, а просто высокий дядя с усами? Тем более что и карлик пищит: «Я все затеял, я!» Почувствовав настроение толпы, отец Никодим повел свою речь к вершинам великодушия.
— Остановитесь! Не трогайте их! Я прошу у Господа одного — прости им, ибо не ведают, что творят.
Сергея Преображенского ошеломили цветы под куполом церкви. Возмутил запах гари. Он почувствовал, что свершилась катастрофа, почувствовал ненависть к тому, кто был ее причиной. Желая отомстить за разрушенное им благоговение перед любовью, он сказал карлику презрительно:
— Убожество!
И добавил:
— На такую гадость способно только мстительное убожество.
Преображенский был красив в своем презрении к кощунству. Он знал это, он нравился себе, нравился окружающим. И был искренен.
Господин Ганель стоял прямо, смотрел гордо. Но то, что творилось в его душе, не имело отношения ни к гордости, ни чему бы то ни было подобному. Он огляделся — можно ли двинуться к выходу? Вроде бы да. Господин Ганель сделал шаг, и Преображенский отшатнулся от карлика, как от какой-то заразной твари. Он сам уступил ему дорогу, отошел в сторону, скорбя по утраченным чувствам, и больше всего боясь, что в нем снова установится бесконечный ужас перед смертью.
Сильвестр двинулся в сторону господина Ганеля, и они, провожаемые брезгливыми и осуждающими взглядами, вышли из церкви. Иосиф же остался под иконой Всех святых. Александр увидел клочки бумаги, разбросанные на полу, и понял: это — свидетельство очередного отречения Иосифа.
Отец Никодим обратился к Сергею — так, чтобы слышали все:
— Я понимаю твой гнев. И все мы помним, как Господь изгонял торговцев из Храма. Но нельзя ни к какому человеку, сотворенному Богом, обращать такие слова, какие только что сказал ты. Даже если этот человек преступил закон. Господь сам наказывает и сам награждает. Не пытайся сделать это за него.
Сергей с благодарностью посмотрел на отца Никодима. Александр заметил это. Ипполит Карлович дождался, когда Андреев выйдет из церкви. Гневно вращая пьяными глазами, набрал его номер. На мобильном Сильвестра засверкало «Ипполит».
— Ну что, господин Ганель, послушаем, как исчадие ада читает нам мораль? Или убережемся от радиации? Говорят, телефон радиоактивен. А тут будет двойное облучение — радиоволны и проповедующий черт. Ну его, а?
Господин Ганель одобрительно кивнул головой. И Сильвестр нажал на сброс вызова. Такое случилось в первый раз за семилетнюю историю звонков недоолигарха своему режиссеру.
Ипполит Карлович от изумления рухнул в кресло. Перестал вращать глазами. Перезванивать он не мог: второй сброс вызова хуже пощечины. Но гневные слова, которые он хотел высказать Сильвестру, жгли нутро. Он должен был от них избавиться. Он набрал номер отца Никодима. Тот, хоть находился еще в церкви, ответил. Ипполит Карлович сразу взял быка за рога.
— Тут говорят. Фейерверками ты в храме. Балуешься. Уже начал. Храм в театр. Обращать. Хотел-то вроде наоборот.
И тут случилось второе чудо. Отец Никодим, не сказав ни слова, нажал на сброс. Ипполит Карлович подошел к «Арарату», склонился над бутылкой, взял ее в рот, поднял зубами и выхлебал остатки коньяка. Снова рухнул в кресло. Вместе с коньяком по его телу расползалось приятное чувство. Ему понравилось, что и режиссер, и священник отшвырнули его звонки. Значит, есть еще что-то помимо него. Это раздражало, но и внушало надежду. И он решил поступить в соответствии со своими непростыми чувствами — отца Никодима наказать, поощрив, а Сильвестра — поощрить, наказав.
— Короче, будет так! — объяснил он коньяку. — Сильвестр у меня на амвон выйдет, а Никодимка спектакль поставит. А то чего они вокруг да около ходят? Пусть каждый свою мечту исполнит. Только без нюансов. Надоели нюансы. Одного — на амвон, другого — на сцену. Все. А иначе зачем мне столько, — Ипполит Карлович смачно икнул, — денежных средств?
«Арарат» одобрительно сверкал пятью звездами. Как-то нагло, по-генеральски сверкал. Ипполит Карлович решил смирить его. Стал засовывать в горлышко бутылки лимонные дольки. Через семь минут — Ипполит Карлович засекал время — он втиснул в бутылку весь расчлененный калабрийский лимон.
И заснул тут же, на диване. Удовлетворенный.
Однако губы нам даны на что-то?
Скандал в кабинете Андреева был грандиозным. С кошмаром внезапных пауз, обрываемых дерзким хохотом. Боролись они несколько часов — наплывающая тишина и разрывающий ее хохот. Победителей не было. Прощались Сильвестр и Ипполит Карлович в приемной. Сухо и нервно.
— Следующий. Сезон, — начал было Ипполит Карлович, но Андреев перебил его гримасой недоумения — мол, для нас с вами не может быть ничего «следующего».
Ипполит Карлович вышел из приемной. Глаза Сциллы Харибдовны сверкали страхом и гордостью.
В машине Ипполита Карловича ждал отец Никодим: в руках — четки, в глазах — любовь. Ипполит Карлович сел, и «майбах» качнулся. Священник с шофером почувствовали: в недоолигарховой груди клокочет буря. Но Ипполит Карлович крайне редко принимал решения в гневе. Глядя на черную обивку переднего сиденья, он процедил:
— Дадим ему сыграть. Премьеру. Сейчас не прерву.
— А потом? — рассеяно спросил отец Никодим.
— Станешь ты владыкою. Морскою.
Отец Никодим, глядя в сторону (нежно), сказал (легко):
— Ипполит Карлович, мне этого не нужно. Пусть каждый останется при своем. А после Бог нас рассудит.
Ипполита Карловича залила злоба. Эти двое — режиссер и священник — словно сговорились во всем ему перечить. Недоолигарх почувствовал, что ни за что на свете не позволит Сильвестру остаться на посту. «Но как его сейчас, перед премьерой снять… Раскричатся деятели культуры… Завопит свободная, мать ее, пресса… А тут еще этот отче выпендривается… — Недоолигарх неотрывно смотрел во тьму переднего сиденья. — Надоели… Хуже пареной репы… То есть горькой редьки».
Ипполит Карлович покосился на глядящего (ласково) в окно отца Никодима и фыркнул шоферу (с ненавистью): «Домой!»
«Майбах» рванул. Из-под колес полетели грязь и снег…
Назначением Наташи на главную роль Сильвестр добился своего — выставил напоказ пагубное влияние на театр Ипполита Карловича. Смотрите, мол, до какого кошмара недоолигарх довел всемирно известную труппу! Даже я, Сильвестр Андреев, устал сопротивляться его причудам и порокам и вынужден дать главную роль его ублажительнице. По театральной Москве поплелись разговоры, что Ипполит Карлович «оборзел окончательно», что он мешает «гению творить». Все эти соображения и события не устраняли недовольства Сильвестра Наташей, которая «на самом-то деле недостойна даже тенью пройти по задворкам моего спектакля». Во всем остальном спектакль был безупречен. Как сформулировал господин Ганель, «это великолепный корабль, в котором возникают гигантские пробоины, когда появляется Наташа. И он идет ко дну. Но едва Наташа покидает сцену, он снова всплывает, блестит на солнце, подставляет ветру свои флаги».
…Вечером, после очередной репетиции, в которой участвовала Наташа, Александр снова взял в руки дневник. Тибальта он играл, как уверял Сильвестр «сносно, хотя хотелось бы побольше ярости».
Александр видел, в каком окружении оказалась его подруга: равнодушная агрессия Сильвестра, скрытое, но ощутимое презрение Преображенского, зависть труппы, ждущей, когда она оступится.
«Когда она стояла на сцене и смотрела на Сильвестра взглядом ко всему готовой жертвы, я понял — я ответствен за нее. Разве я оставлю Наташу барахтаться в ее ошибках и заблуждениях? Разве я могу злорадно желать ей плохого? И наблюдать, как ее постепенно будут растаптывать? Наташа даже сама не знает, насколько нуждается в защите и помощи. И уж точно не мечтает принять их от меня. Ну и что же? На то нас и двое. Чтобы один был глубже другого. Чтобы помнил о главном».
В памяти прозвучали слова отца Никодима: «Только полюбив без оглядки и расчета, не вкладывая свои чувства, словно в банк в ожидании процентов, мы можем уже сейчас, на земле, причаститься вечности».
Он вспомнил, какой свет источал Никодим, и с еще большей решимостью начертал: «В конце концов, и бескорыстие, и самопожертвование, хоть и осмеяны, но ведь имею же я право проявить их хотя бы тайно? Имею право хоть от себя не скрывать таких порывов? Что же, в конце концов, за стыд нас всех одолел? Дерьмо друг другу показываем едва ли не с гордостью, а если испытываем высокие чувства — прячемся, как если бы нам нужно было в туалет. Все перевернуто, все извращено — стыдимся хорошего, гордимся плохим. И вот сейчас я пишу так свободно лишь потому, что знаю: в любой момент я все это могу запятнать иронией и сказать — „да ладно, все это так, души прекрасненький порывчик“. А вот нет. Так не будет. ТАК НЕ БУДЕТ».
Александр решительно поставил точку. Символическую. Точку, которая отрезала возможность пути назад.
Пролетела еще неделя репетиций. Наташа все глубже сознавала, что не дотягивает до уровня Сильвестровой труппы. Перед Преображенским она преклонялась, и потому ее не ранила слишком очевидная разница в дарованиях. Напротив, своим преклонением она как бы причащалась его таланту. Но она видела, как великолепно были подобраны Сильвестром индивидуальности в труппе, видела, что едва ли не все актрисы одареннее ее. В своем назначении она начинала подозревать какую-то жестокую насмешку над собой и над труппой.
Мысли об Александре она прогоняла, но они возникали помимо ее воли.
Она спасалась тем, что шептала монологи Джульетты. Жизнь и смерть этой тринадцатилетней девочки были ей более понятны, чем то, что происходило с ней самой.
Рука Александра со все большей легкостью порождала слова. Грешным делом, он начал подумывать — не стать ли ему писателем? По крайней мере, он все настороженнее относился к делу, которому отдал жизнь.
«Я читаю, упорно читаю, хоть мне и часто скучно, жизнеописания святых. Замечательные слова я там нашел: „держаться в вере“. Сколько упражнений, ухищрений существует для того, чтобы держаться в вере! Разработаны тактика и стратегия борьбы с соблазном. Чтобы держать в памяти сердца те мгновения, когда Бог явил себя».
На кухне голодно мяукнул Марсик. Александр за чтением святых книг совсем забыл о нуждах своего питомца. Он вышел на кухню, подхватил голодающее животное на руки и поцеловал в нос. Но кот не ответил любовью на любовь — ему была нужна не ласка, а еда. Александр положил неистово размахивающего хвостом Марсика на пол, открыл холодильник, и понял, что ничего кошачьего там нет. Разве что сметана? Он вытащил поллитровую банку деревенской жидкой сметаны и вылил ее в кошачью миску. Марсик благодарно заурчал и с голодным азартом воткнул морду в сметанное озеро…
Наконец пир Марсика, как все хорошее, закончился. Александр, удовлетворенный сытым видом кота, продолжил свои театрально-религиозно-любовные исследования: «Веру поддерживают молитвами, службами, постами. Поддерживают ее и общением между верующими, которые уверяют друг друга, что Бог есть. В театре существует отточенная веками техника пестования таланта и удержания вдохновения. Любовь же, возникшая однажды, оказывается оставленной на произвол судьбы. И нет сомнений, что судьба этот произвол обязательно применит — рано ли, поздно ли. Как монах обороняет свою веру от соблазнов, так я буду оборонять свою любовь. Как актер взращивает образ, лелеет, обдумывает во всех деталях, отсеивает лишнее, так и я буду взращивать свою любовь. Я буду держаться в любви, как актер в образе. Сначала! А потом, когда научусь любить, я буду держаться в любви, как в вере. Есть система управления вдохновением — система Станиславского. Нас ведь не смущает — ах, он посягнул на божественное! Необходимо создать систему удержания любви. Я посвящу этому оставшееся у меня время».
…Денис Михайлович, лежа в постели рядом с Наташей, впервые за несколько недель позволил себе протянуть руку. Наташа ощутила, как ладонь мужа робко коснулась ее запястья. Поднялась выше.
Плечо.
Шея.
Волосы.
Наташа вскочила с кровати.
Денис Михайлович забормотал «извини, извини».
Наташа села. Вгляделась в темноту — даже глаз Дениса Михайловича не было видно. Похоже, он их закрыл, не желая видеть, что предпримет его супруга. А Наташа не знала, что можно предпринять. Разводом она уже грозила. Уходила. Изменяла. Жила с другим. И вот она снова рядом с этим «всепринимающим пустым местом».
Ей страстно захотелось на сцену.
Она легла на край кровати.
Денис Михайлович старался не дышать, чтобы ничем не проявить своего присутствия. О том, чтобы снова отправить руку на разведку он и не помышлял. Решил, что такое путешествие он попробует предпринять только через несколько недель. Он был бесконечно унижен. И счастлив.
Джульетта меня обвиняет
Во время репетиций Александр сидел, как всегда, в пятом ряду. Наташа уже не могла игнорировать его присутствия, чувствовала поток обращенных к ней слов — «я есть, я тебя люблю, я тебя жду». Раньше Наташа хотя бы временно избавлялась от хаоса, играя Джульетту, бесстрашную максималистку, бесповоротно решившуюся любить. Теперь все изменилось. Юная Капулетти так крепко вошла в сознание Наташи, что однажды она подумала: «Джульетта как будто меня обвиняет, что ли?» Эта мысль ни на секунду не показалась ей нелепой или смешной.
Она выходила из метро, повторяя слова своей героини: «В минуте столько дней, что, верно, я на сотни лет состарюсь, пока с моим Ромео свижусь вновь». К кому ей обратить эти слова?
И она поднималась по лестнице, и заходила в дом, и здоровалась с Денисом Михайловичем, который как будто уменьшался в ее присутствии, робел, и ей даже не верилось, что человек может так решительно и бесповоротно отказаться от достоинства. Ей становилось так жалко мужа, что она несколько раз попробовала его приласкать. Он был изумлен и даже напуган ее ласками.
Хилое, червивое чувство, которое она испытывала к мужу, угнетало ее. Ей не хотелось жалеть. Теперь этого было мало. Наташа преображалась. В артистическом смысле она оставалась столь же бескрасочна. Однако паразит, заселенный в нее Шекспиром, требовал, чтобы она жила другой жизнью.
Александр в общении с коллегами становился все ровнее. Актеры находили, что он стал скучным, а он все меньше желал кому-то понравиться. Возможно, в нем рождалось что-то новое, но артист погибал — ведь артист для того и выходит на сцену, чтобы быть любимым.
Тем не менее Тибальта он играл «очень пристойно», как ему сказал, встретив его у гримерной, Преображенский. Было видно, что Сергей очень устал, и сумятица последних репетиций утомляет и раздражает его.
— Мы должны после премьеры напиться. Просто обязаны, Саша…
— Конечно.
— Ни один спектакль мне так не давался. Все наперекосяк! И неясно, зачем все это? Я от таких предложений в кино отказываюсь уже который месяц!
А зачем? Чтобы поучаствовать в чужой игре! Пользуясь нами, Сильвестр мстит Ипполиту. Ты же это понимаешь?
— Это, мне кажется, все понимают.
— И еще что-то затеял с Ганелем, как будто мало ему назначения этой… Извини… — Саша махнул рукой, мол, не извиняйся, проехали. — Я утром просыпаюсь и чувствую, что мне необходимо все это прекратить. А потом прихожу сюда, вижу гримерную, мой костюм, и так играть хочется… — Преображенский улыбнулся. Как показалось Саше — виновато.
Он знал, что Сергей никогда не откажется от такой роли. Никогда не откажется от работы с Сильвестром, хоть и чувствует себя оскорбленным. И потому Александр сказал:
— Терпеть недолго осталось. А после премьеры напьемся так, что сможем проходить сквозь стены.
— В смысле? Как это?
— А вот увидишь.
— Обещай.
— Обещаю!
Рукопожатие было крепким.
И Саша записал вечером в дневнике «Может быть, люди и смертны. А их чувства — нет».
Пожарная безопасность — вот наше спасение
За день до премьеры Иосиф, не выдержав груза тайны, позвонил отцу Никодиму. Звонил он из своего кабинета по служебному телефону — Иосифу казалось, что этот дряхлый советский телефон не способен разболтать никаких секретов. Потускневший от времени телефонный аппарат вызывал у Иосифа безоговорочное доверие. А значит, он вполне годится, чтобы, пользуясь им, предать.
Священнослужитель был, как всегда, у Ипполита Карловича.
— Отец Никодим. Отец Никодим. Отец Никодим. Это Иосиф. Иосиф.
— Слушаю вас.
— Я буду краток. Краток.
— По началу не похоже, — хохотнул священник.
— Тут репетируют не только Ромео… Тут что-то готовится кроме… Я точно не знаю… Один раз только слышал… Подслушал случайно… Намеренно случайно… Против вас что-то… Прямо на сцене будет…
— А почему тянули? — В голосе отца Никодима сверкнула сталь.
— Не знаю я, не знаю, я запутался тут окончательно, это все выше моих сил…
Почему-то Иосиф захотел добавить: «Я как свинья в лабиринте», — но вовремя остановился. Сказал только:
— Не мог говорить, и молчать не смог…
И подумал: «Вот сейчас положу трубку, и все будет кончено». И захотел длить и длить разговор, слушать и слушать голос отца Никодима, чтобы чувствовать себя хоть кому-то союзником.
— Иосиф Матвеевич, премьера ведь завтра?
— Завтра, — ответил Иосиф и вздохнул.
— Спасибо вам.
Иосиф облизал тонкие губы и сказал:
— А… а поговорите еще со мной…
Отец Никодим в раздражении возвел очи к потолку высокого зала.
— Иосиф Матвеевич, вы крещеный?
Иосиф смутился. Забормотал:
— Говорят, меня бабушка крестила тайно от еврейских родственников… Она умерла, когда мне было пять. Крошка такая… Был я… Так никому бабушка и не сказала точно, христианин я или… совсем наоборот… Потом родители меня обрезали… Мама кричала… Папа… Не кричал… А когда я встретил в институте друга школьного, он читал Коран и сказал мне: «Мусульманин вдовеет постепенно», — и мне это так понравилось, что я пришел в мечеть…
— Иосиф Матвеевич, — сверкающая сталь в голосе священника, как показалось Иосифу, обратилась в саблю, — вам нужно или к врачу, или ко мне. Выбирайте сами. Бог вам в помощь.
И отец Никодим нажал на сброс звонка. Иосиф еще долго слушал телефонные гудки, звучащие из старого советского аппарата. Они были то тише, то громче, то короче, то длиннее… То тише, то громче, то короче, то длиннее. То тише, то громче, то короче, то длиннее… И взвыл Иосиф — даже в гудках согласия нет. Нет — даже в гудках! — гармонии.
Отец Никодим выразительно посмотрел на Ипполита Карловича. Тот мрачно спросил:
— Ну? Что хрен грядущий. Нам готовит.
— Я предупреждал вас.
— Я больше всего. Ненавижу. Когда кто-то мне так говорит.
— Ипполит Карлович, надо запретить премьеру. Сильвестр готовит что-то кроме «Ромео и Джульетты».
— Кроме того. Что в газетах уже пишут. Что я своих бездарных любовниц на главные роли ставлю. Какой еще компромат может приготовить этот. Паяц.
— Не знаю, не знаю, и Иосиф не знает. По всему видно, что-то против нас. Против вас!
Отец Никодим показал на пригласительный билет, присланный Сильвестром вместе с личным письмом — приглашаю, мол, жду, приходите всенепременно. Ипполит Карлович посмотрел туда же. Пригласительный был пафосный, с золотым тиснением.
— В этом золоте кроется наш позор! — воскликнул отец Никодим.
— Он не осмелится, — сказал Ипполит Карлович и понял, что осмелится, и еще как.
Вдруг лик отца Никодима просиял.
— Ипполит Карлович, есть же пожарная безопасность! Пришлите инспекторов! Пусть закроют театр, пусть отложат спектакль по своим противопожарным причинам!
Недоолигарх задумался и одобрил:
— Мысль.
— Мысль! — воодушевился священник и восторженно воскликнул: — Противопожарная мысль!
— И после этого. Я его уволю.
— Пожарная безопасность — вот наше спасение!
— Аминь, — сказал Ипполит Карлович.
Сцилла Харибдовна контролировала все, что происходило в кабинете Иосифа. Раньше это был кабинет директора, с которым Сильвестр переговаривался по аппарату внутренней связи. Когда Иосиф гордо заселился в кабинет, режиссер приказал оставить аппарат круглосуточно включенным. Так, чтобы все звуки из Иосифова логова были слышны Сцилле Харибдовне.
Дослушав до конца сбивчивый донос Иосифа, Сцилла Харибдовна без стука вошла в кабинет Сильвестра. Небрежно кивнула господину Ганелю (ревность не проходила, и секретарша не могла ее скрыть даже в присутствии режиссера), встала напротив Сильвестра и торжественно объявила:
— Все как вы предсказывали. Не выдержал.
— Но ведь как долго крепился! — улыбнулся Сильвестр. — Эксперимент удался, друзья мои, эксперимент удался…
Он откинулся в кресле и закрыл глаза. Достал мобильный, приоткрыл левый глаз, нажал на какую-то кнопку, закрыл глаз и сказал ласково:
— Иосиф, зайди ко мне, дорогой.
Господин Ганель заворчал:
— Я же предупреждал же…
— Ты ведь знаешь, я ненавижу, когда мне так говорят.
В проеме двери нарисовался Иосиф — взгляд потерянный, голова склоненная, ладошки потные.
— Я выпишу тебе премию, дорогой. Крепился ты сказочно долго.
На лице Иосифа — смирение и печаль. На плечах Иосифа — серый свитер. В душе Иосифа — жажда бури. Бури, которая вбросила бы его в круговорот событий. А события заставили бы его забыться. Но событий он ждал напрасно. Сильвестр обрек его на пустоту:
— Все, иди, дорогой.
Иосиф повернулся задом к режиссеру, потом повернулся лицом, и, медленно пятясь, утек. Когда дверь за ним закрылась, Сильвестр сказал:
— Ну что же, наши огневые позиции засечены врагом… Прекрасно. Светочка, у меня… — Сильвестр остановился. — А вот это уже будет лишнее. Посмотри, дорогая, не подслушивает ли наш виртуоз?
Сцилла Харибдовна резко открыла дверь, надеясь расшибить Иосифу лоб. Но дверь рассекла только воздух.
— Я так и думал. Все, Иосиф закончился, друзья мои. Так. У меня вечером эфир на Первом канале. Я его отменить хотел, но Иосиф не дал мне выбора.
«Вы сами себе не дали выбора!» — мысленно взвизгнул господин Ганель.
— Видимо, придется пойти. Света, позвони, скажи им, что я еду. Откроем занавес за день до премьеры. Тоже ведь хороший ход? Пускай поспорит жалкий звоночек толстяка священнику с моим эфиром на миллионы зрителей. С тревогой думаю — кто победит? — И Сильвестр засмеялся.
И в который раз господин Ганель, не верящий в Бога, подумал: «Этот человек — богоподобен».
Отче наш, как же мы допустили?
Прайм-тайм. Время обетованное для фирм и концернов. Мечта политиков. Недостижимость и невозможность для деятелей культуры всех величин, кроме первой. Сильвестр Андреев был деятелем именно такой величины. А потому он вошел в студию, как в дом родной, попутно здороваясь с давними знакомыми — операторами, продюсерами, режиссером. Слегка щурясь от яркого света, вальяжно опустился в огненно-красное кресло напротив ведущей. С легкой усмешкой сказал ей: «Как у вас жарко всегда. Вечное лето».
Ведущая Юлия Кликникова улыбнулась ему с приторным восхищением. Он ответил ей понимающим взглядом: и мне нередко приходится улыбаться по долгу службы. Потом пригляделся к ее улыбке и подумал: «Но все-таки гораздо реже, чем тебе». Режиссер, человек с навечно утомленными глазами, подошел к Андрееву:
— Добрый вечер, рад! У нас всегда-всегда такие рейтинги с вами! На всякий случай напомню, Сильвестр Андреевич. Лицо руками не трогаем, микрофон на пиджачке не задеваем. Если вокруг вас люди будут ходить, а они будут, внимания не обращаем. Только вы и Юля. И так двадцать минут. А когда будет реклама, расслабляемся, шутим, потом снова — только камера, вы и Юля. Прямо в камеру не смотрим.
Сильвестр кивнул.
— Я помню все ваши правила. А лицо руками я, поверьте, и вне эфира не трогаю. По крайней мере, свое.
— Две минуты до эфира! — крикнул кто-то с неба.
В этот момент инспекторы пожарной охраны вошли в театр. Слегка дрожащий от страха Семен Борисов ждал их у дверей кабинета. Он утратил хитрость, потерял хватку, когда услышал, что идет инспекция, идет ночью, идет по приказу с самого верха. Это был приговор. Семен Борисов это понимал. Одно лишь слово «проверка» повергало его в страх, потом в трепет, а затем страх и трепет действовали сообща, раздирая директорскую душу. Уже сейчас первая стадия (страх) стремительно переходила во вторую (трепет). Но оставалась надежда, что третья стадия (совместная) так и не наступит: проверка все-таки была не финансовая, а пожарная.
Борисов был так напуган поздним проверочным визитом, что, когда на лестнице появился инспектор первый — улыбчивый мужчина лет сорока в изящном костюме — директор театра удивился, почему на нем нет пожарной каски. За первым инспектором следовал второй — его антипод. Сразу было видно: улыбка на его лице восходила редко. Он протянул директору руку с тусклым золотым кольцом:
— Добрый вечер. Макар Панфилов.
— Добрый вечер, — ласково, даже почти нежно повторил первый.
«Сейчас скажет Панфил Макаров», — подумал перепуганный директор, но услышал:
— Борис Плеханов.
— О, да мы тезки! — обрадовался директор.