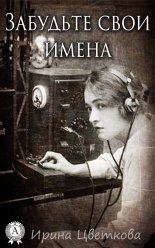Театральная история Соломонов Артур
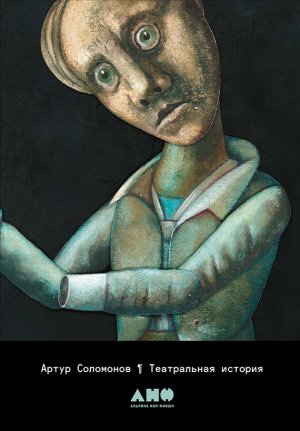
— Уверен, — тяжело подтвердил священник.
— Тогда не медлим. В ванную! — скомандовал господин Ганель. Вдруг голос его стал серьезным: — Уж не думаете ли вы, что мне так просто расстаться со своим костюмом? Я ведь вам роль свою дарю! К которой привык, с которой сросся! Как действовал наш учитель? Первым делом он изгнал из меня господина Ганеля, да-да, меня самого. Вы сейчас станете Махабрагинанда. Вот ваше новое имя. Вот ваша новая суть… Значит, так! Вы бриться как — не забыли? Сначала избавляемся от бороды. Потом — голова…
Ветер усиливался. Волны поднимались все выше. Облака темнели. Горизонт, соединяющий океан с небом, становился ближе и ближе.
— Пожалуйста… Я не смогу сам, — сказал отец Никодим.
— Конечно! — Карлик хлопнул себя по лбу. — Я и не подумал. Как же вы будете брить себе голову? Разумеется, я помогу.
Явились ножницы, забурлила вода, отец Никодим, закрыв глаза, склонился над раковиной, а господин Ганель, приподнявшись на цыпочки, начал вершить обряд обривания.
Отец Никодим вскинул голову. Из зеркала смотрело совершенно голое и совершенно чужое лицо. Он простонал:
— Ну и харя!
— Харе, — поправил, чуть отодвинувшись и оглядывая дело рук своих, господин Ганель. — Харе Кришна, уважаемый Махабрагинанда.
Косые полосы дождя хлестали по воде. Не было конца, не было края тучам, сливающимся в одну темную клубящуюся массу. И не было конца воде, которая вспенивалась от падающих — все быстрее, все крупнее — капель.
— Христианский монах, кощунственно преображенный в кришнаита — это отрицание наших ценностей! — голосом Иосифа зазвучало отовсюду — из раковины, из Ганеля, из самого отца Никодима.
Загремел гром, в океан вонзилась молния, и священника стали бить по щекам.
Он открыл глаза и увидел господина Ганеля. Карлик приводил священника в чувство пощечинами.
Тишина. Чай в фарфоровых чашках на столе. Остывший. Недопитый.
Он лежал на полу. Сбоку возвышалась толстая ножка массивного стола.
— Наконец-то! — воскликнул господин Ганель. — Давно у вас случаются такие обмороки? Такие глубокие? Вы почти не дышали…
— Зеркало…. Принесите зеркало… умоляю… — прошептал отец Никодим.
Господин Ганель, недоумевая, принес из ванной маленькое зеркальце — свое любимое, с синим ободком. В зеркале отец Никодим увидел — о счастье! — бороду. А выше — о радость радостей! — шевелюру.
— Господи! Господи! Если бы вы знали, — не поднимаясь с пола, шептал священник. — Если бы вы знали, какое наказание пришло ко мне во сне!
— Наказание во сне — это лучшее из наказаний, — с улыбкой ответил господин Ганель. — Вам опасно оставаться у меня. Надо уходить.
Отец Никодим опечалился.
— А я было понадеялся, что мне и наш побег приснился… — вдруг он тихонько засмеялся, стараясь не шевелиться, чтобы не растревожить боль в голове. — Еще мне снился дождь над огромной, бесконечной водой… Как в первые дни творения. Когда Дух Божий носился над водою…
— Действительно? — удивился господин Ганель. — Помню, много месяцев назад, я увидел в мыслях Преображенского что-то подобное… Только там над водой носились овации. Сразу же после дождя.
— Такой сон… Такой… Явнее яви!
— Я лично уверен, что сны гораздо реальнее, чем нам кажется, — с некоторой даже важностью открыл свои мысли карлик и торжественно произнес: — Мы созданы из вещества того же, что наши сны, и сном окружена вся наша маленькая жизнь.
— Что это?
— Шекспир.
— Неужели и он был женщиной? — вдруг спросил отец Никодим.
— Как понять, «и он»? — насторожился господин Ганель.
— Эти события последнего времени… Все говорят о воцарении женщин… Вот и спектакль ваш был об этом… И, говорят, Шекспир тоже женщина… Все говорят, что грядет их царствие… А мы-то рассчитываем на Царствие Божье…
Господин Ганель лихо скомандовал:
— Вам нужен — срочно! — душ. А потом — срочно! — бежать.
Отец Никодим посмотрел на карлика с благодарностью. Но когда представил, что его ждет за порогом этой тихой квартиры, снова затосковал.
Наташа и Александр в молчании стояли у входа в метро.
— Странное чувство. Пусто-пусто, — сказала Наташа.
— В каком смысле? — нахмурился Саша. — А! Я думаю, все чувства оживут потом.
За этим диалогом Саше чудился совсем другой. Наташа спрашивала: «Ты простил меня?» — «А ты разве не видишь?» — «Вижу».
— И куда же мы пойдем?
— Мы не пойдем, мы поплывем.
— Поплывем?
— Открыта же навигация.
— Ты что! Весна еще не настолько весенняя. По Москве-реке ничего не плавает.
— Так, значит, и мы тоже не поплывем?
Она засмеялась. Диалог, продолжался: — «Саша, получается, отец Никодим был прав, когда говорил о зерне, которое умерло и дало плод? Если бы не Сергей, разве бы мы стояли сейчас здесь? Вместе? Значит, у того, что мы вместе, такая грустная, такая страшная причина? Это странно? Или не странно?» — «Наташа, давай запретим вопросительные знаки. Пусть у нас будет больше точек. Утверждений. Согласий. Это нам сейчас нужнее всего».
— Саш, у тебя на губе темное пятно.
Он стал вытирать рот тыльной стороной ладони.
— Нет, не получилось. — И она быстро, указательным пальцем вытерла его губы.
— Спасибо.
— От тебя пахнет вишней, — сказала она.
— От меня не может пахнуть вишней. Если так, навигация уже открыта, — улыбнулся он.
— Насчет навигации не знаю, но метро работает, — сказала она. — На нем-то мы точно сможем поехать.
На Ярославском вокзале отец Никодим купил билет в Кострому. Там жил его единственный друг, с которым они больше тридцати лет назад вместе поступали в семинарию. И вместе учились. Сейчас это был многодетный батюшка, очень остроумный и очень бедный. Он осуждал отца Никодима за то, что тот был неравнодушен к чинам и званиям — «карьерный голод». Осуждал за пребывание подле Ипполита Карловича — «слабость к сильным мира сего». Но редкие, примерно раз в год, встречи свидетельствовали: осуждение не мешает любви.
Священник быстро шел к своему поезду. Ряса запачкалась весенней грязью. А на ботинки и вовсе было больно смотреть. Изгвазданы. Посрамлены. Люди провожали взглядами священника — кто с почтением и даже с чувством вины, кто с насмешкой и с презрением. Отца Никодима не смущала столь широкая палитра взоров. Он к ней давно привык.
Мысли о дожде над океаном не оставляли его: «Сейчас мне кажется, что всю мою жизнь я тайно бунтовал. Против чего? Не мог смириться с тем, как многого Бог мне не дал почувствовать, не дал увидеть. Отсюда моя любовь, замешанная на зависти, к людям, которых Бог просто так, ни за что, наградил талантом». При мысли о бунте отц Никодим вспомнил Иова, первого в священной истории бунтовщика против Бога. Иов вопрошал Бога о смысле страдания. И Бог явился ему, чтобы задать свои вопросы.
Отец Никодим, глядя, как мрачный грузчик толкает перед собой тележку, наполненную тюками и чемоданами, остановился. Он вспоминал, как ответил Бог Иову: «Где был ты, когда я землю утверждал? Дошел ли ты до родника пучин и ходил ли ты по дну морей? Скажи, есть ли у дождя отец, и кто рождает капли росы?» Грузчик остановился, чтобы перевести дыхание. Посмотрел на священника. На секунду его взгляд загорелся мрачным, как он сам, любопытством. Но мгновенно погас, и руки с грязными ногтями снова надавили на тележку.
Тягостно заскрипев, она двинулась вперед.
Отец Никодим прошептал: «Окликнешь ли тучу гласом Твоим, чтобы обилие вод покрыло Тебя? Прикажешь ли молниям, чтобы они пошли? Скажут ли они Тебе — вот мы?»
Грузчик остановился и стал с таким же мрачным видом сбрасывать с тележки вещи, сопровождая каждый жест солидным и злобным сопением. Отец Никодим почувствовал, что смотрит на него с умилением, и поспешно отвел взгляд. Священник думал: «Но главными были не вопросы, которыми Бог давал понять, как немощен разум бунтующего против него Иова. Главное, что Бог явился ему».
— И что сказал Иов, когда увидел Бога? — вслух спросил он себя. — Он сказал: «Теперь мои глаза видят Тебя, и потому я отступаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле…» Вижу тебя и отступаюсь! — повторил отец Никодим. — Вижу во всем.
К нему подошла женщина лет пятидесяти. Хотела что-то сказать или спросить. Услышала, что священник довольно громко что-то шепчет. Увидела, что глаза его блестят. Помедлив мгновение, прошла мимо.
Отцу Никодиму страстно захотелось курить, но об этом не могло быть и речи. «У агрессии и ненависти столько оттенков! — подумал отец Никодим, но прервал свою мысль. — Нет, не о том, не о том я должен думать. — И он продолжил проповедовать самому себе. Это приносило покой. И даже торжество. — Твое создание кажется нам избыточным, пугающе великим. Дождь над океаном… Из глубины небес вода льется в воду. Зачем? Нам никогда не понять ни причин, ни целей. Слышится только музыка, только ритм, загадочный, неизбежный, соединяющий все вокруг».
Отец Никодим подошел к седьмому вагону, на котором висела тусклая табличка «Москва — Кострома».
Когда Наташа и Александр вошли в метро, отец Никодим заходил в наполненный людьми плацкартный вагон.
Когда Александр обнимал Наташу на эскалаторе, отец Никодим неуклюже забрался на верхнюю полку.
Александр спросил:
— Мы едем ко мне?
— Мы же договорились не задавать вопросов, — ответила она.
Когда Наташа поцеловала Александра под шум идущих в разные стороны поездов, отец Никодим с печалью посмотрел в окно.
Москва удалялась. Удалялась жизнь, удобная, комфортная, жизнь, которую он вел долгие годы, и надеялся, что она будет продолжаться и продолжаться без изменений. Его мысли были исполнены решимости, но душа сомневалась. Какая жизнь откроется ему там, куда везет поезд? Он боялся будущего. Колеса стучали все чаще — Москва удалялась быстрее…
Отец Никодим слушал стук колес, и думал, что если он закроет глаза, то снова увидит дождь над океаном. Попутчики увидели, как он медленно закрыл глаза. И лицо его осветила улыбка.
Между небом и океаном стояла огромная, живая стена воды. Словно безбрежная река, соединяющая океан с небом. Постепенно река мельчала. Облака меняли цвет. Сквозь них начали пробиваться лучи солнца. И встала огромная радуга.
Отец Никодим ни за что на свете не открыл бы сейчас глаза. Он любовался водой, светлеющей под солнечными лучами. Любовался небом, которое как будто протянуло океану радугу: сквозь нее пролетали тонкие дождевые линии.
Стук колес и шум дождя сливались в единую мелодию.