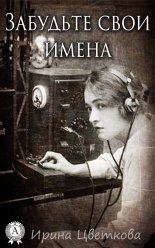Театральная история Соломонов Артур
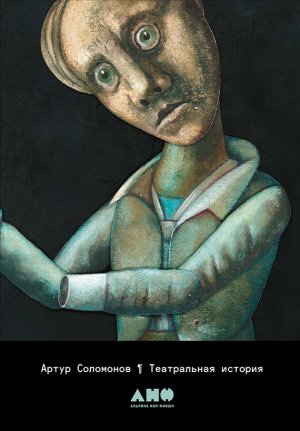
Александр сразу решил, что не будет огорчать его — пьяного и счастливого.
— Я по делу позвонил! — насколько мог быстро заговорил Сергей. — По делу! Я понял, почему в момент нашего поцелуя я себя дискомфортно чувствую. Все из-за твоих рук! Ты берешь меня за лицо обеими руками, приближаешь, приближаешься, а руки все на месте и на месте.
— А куда мне их девать?
— Саша, это твои руки. Твое решение — куда их девать. Только не надо так долго закрывать мое лицо от зрителей.
Александр засмеялся, Сергей подхватил его смех.
Александр понимал, что никогда не будет больше стоять на одной сцене с мужчиной, который сейчас звонит — счастливый и пьяный, самовосхищенный и смеющийся над собой. И такой близкий. Никогда. Это мгновение — свою печаль, свою любовь (которую он черпал в любви героини, а героиня — в его любви), — это мгновение он запомнил навсегда. Так, как запоминают самые важные секунды, когда память навсегда фиксирует все, что вокруг, все декорации природы: бездонное черное небо, погибающий в лужах снег; машины — грязные-застенчивые-отечественные и блестящие-гордые-иностранные; злобных, уставших, лениво идущих, быстро мчащихся мужчин и женщин.
Александр долго еще будет пытаться понять: почему он вдруг, вопреки всему, почувствовал себя счастливым? Он будет много раз возвращаться к мгновению, когда простился с господином Ганелем и заговорил с Сергеем. Ему будет казаться, что это мгновение повлекло за собой вереницу других, внешне никак с ним не связанных. Что оно было гораздо более важным, чем все предшествующие мгновения сегодняшнего дня.
— Ну! — прокричал Сергей. — Ты уснул? Не будешь лицо мое руками закрывать? Я им не только для тебя играю. Не будь эгоистом… Да что случилось у вас там? — Даже пьяный, Сергей почувствовал неладное.
— Ничего не случилось.
— Врешь ты.
— Вру я.
— Завтра встретимся в театре. Дотянешь без глупостей?
— Поторопись.
— Саня, я тебя только об одном прошу… Саня! Не пей!
И трубка засмеялась, и гудки прервали смех. Александр почувствовал, что счастлив. И спустился в метро…
…А вышел он из метро через десять дней. По крайней мере, так ему сейчас казалось. Ведь лишь сейчас он смог опомниться. Отдышаться. Вспомнить, что случилось с ним и с Наташей. С ним и театром. При воспоминании о Наташе он чувствовал боль в левой стороне тела: плечо, грудь, рука. «Так болит мое большое сердце», — подумал Александр и через силу улыбнулся. Увидел свое отражение в стекле газетного киоска: улыбка была странной. Как будто он собирался сказать важные, горькие слова, но кто-то залепил ему рот вот этой — чужой — улыбкой.
Он купил мороженое. Пусть холодно. Пусть он только недавно оправился от болезни. И чувствовал, что вот-вот заболеет вновь. Пусть. Он ел мороженое и вспоминал выступление Сильвестра Андреева перед труппой. Это была речь развенчанного монарха — лишь несколько человек это понимали. Но Сильвестр был великолепен: предельно сосредоточен, суров и точен в формулировках. Это выступление произвело на Александра неотразимое впечатление, и сейчас все события десяти дней-вихрей он видел сквозь него.
Андреев объявил, что по причинам, которые «всем известны, и потому я не стану их называть», в спектакле произойдут важные перемены. Александр лишается роли Джульетты. Он будет играть Тибальта. Господин Ганель меняет концепцию роли брата Лоренцо: буддизм изгнан, пришло христианство. На роль Джульетты претендент ищется. «Не претендент конечно же, — без улыбки поправил себя режиссер в полной тишине, — а претендентша. Все изменилось. Все».
…Мороженое обжигало губы, леденило язык, сладким холодом растекалось по небу. «Вот для Наташи было бы раздолье, — подумал Александр, — посочинять, почему небо и нёбо — такие похожие слова… Наверняка сказала бы какую-нибудь нелепость вроде „каждый носит с собой нёбо… Зев небесный…“»
Александр подумал о том дне, когда привел Наташу в театр.
Долгожданное «в пятницу в пять». Помнил, как смотрел в ее глаза (испуганные), сжимал ее пальцы (дрожащие). Помнил, как подумал — а стоит ли театр со всем его возвышенным мусором таких страданий? Женщина, которую он так любит, сейчас мучается от одной мысли, что кто-то ей совсем незнакомый может ее отвергнуть. Страдает от предчувствия, что придется ему не по вкусу.
И насколько этот экзамен ей важнее, чем то, что он, Александр, ведет ее за руку. Что он с нею нежен. «Мы разрываем свои души из-за миражей», — сказал он, закрывая дверь на ключ. И крепче сжал ее руку.
Но Наташа совершенно не была готова к философствованию. Выходя из подъезда, она проворчала:
— Почему это именно в пятницу в пять? Что за дата такая стихотворная? Смехотворная?
— …Даты премьеры не изменим. — Голос Сильвестра был крепок, как всегда, и слышали его даже актеры, сидящие в почтении и страхе на самых последних рядах зала. — Мы станем, если нужно, репетировать и по ночам, но премьеру не отложим. Так не было ни разу за двадцать лет, что я руковожу театром, и так не будет. Пока я здесь.
Что за спектакль мы сделаем по «Ромео и Джульетте», пьесе о вечной любви? Спектакль о вечной ненависти. Чтобы с первой же сцены было кристально ясно: насилие — естественно, любовь — противоестественна. Поцелуй здесь — исключение, удар — норма. Герои валяются в пыли, как злые насекомые, рычат друг на друга, как звери. Дерутся у дверей церкви, как у кабака. Важной фигурой, прямым представителем ненависти, ее воплощением становится Тибальт. Я верю, что Александр сможет сыграть брата Джульетты — полузверя, жаждущего крови. Тибальт исчерпывается автохарактеристикой: «Мне ненавистен мир и слово мир».
…Наташа стояла перед дверью театра. Вдруг перекрестилась и резко вошла. Они поднимались по лестнице — один пролет, второй, третий, четвертый — она отказалась подниматься на лифте («Он обязательно застрянет, с моим-то везением»). Александр не отпускал ее руку («Пусть смеются, если увидят», — решил он).
Они поднимались по ступеням.
Легкость: Александр знает, что Наташа актриса невеликая, и, скорее всего, они через минут десять выйдут из кабинета Сильвестра, понурив головы. Тяжесть: Наташа знает, что она актриса невеликая, и, скорее всего, они через минут десять выйдут из кабинета Сильвестра, понурив головы. Легкость: «Мы выйдем из театра, и все будет как раньше», — думает Александр. Тяжесть: «Мы выйдем из театра, и все будет как раньше», — думает Наташа.
Пролеты преодолены. Вот и Сцилла Харибдовна — кивает любезно, одета помпезно. Но Наташа не заметила всесильную Сильвестрову помощницу. Она, как когда-то Александр, ослепла от черного цвета режиссерской двери. А потом, когда они вошли, и от лика Сильвестра.
Для них был подан чай. Режиссер пил из бокала воду, исследуя лицо Наташи. Присматривался к ее страху, вглядывался в робость. Взглядом привыкшего к подобострастию человека впитывал ее почти рабское желание понравиться. «Не нервничайте, пожалуйста. К вам здесь заранее хорошо настроены», — сказал Андреев.
Сейчас Александру кажется, что уже тогда в этой ласке он почувствовал угрозу. Но память льстит. Кажется, что ты все предчувствовал и знал заранее, но что-то помешало принять предчувствия всерьез. А сейчас память снова возвращает Александра к речи Сильвестра.
— Мы забудем о романтическом влюбленном Ромео. Если мы прочтем пьесу внимательно, то поймем, что Ромео — плоть от плоти Вероны, где кровь проливали так же легко… Так же легко, как проливают сейчас. Послушайте, что Ромео говорит своему другу, Бенволио: «И ненависть, и нежность тот же пыл слепых, из ничего возникших сил». Он уравнивает ненависть и любовь. Он подавлен своим чувством. Он «пригибается под бременем любви». Дальше происходит нечто, выходящее за рамки жизни Вероны. Встреча на балу. Сцена на балконе. Любовь Ромео и Джульетты — это вызов городу. И дело вовсе не в том, что они — дети двух враждующих семейств. Просто здесь так не любят.
Вот один из самых важных моментов будущего спектакля: влюбленный Ромео приходит к отцу Лоренцо и говорит: «Как заповедь твоя мне дорога!
Я зла не помню и простил врага». Он полюбил Джульетту — непозволительной для этой жизни, непростительной для Вероны любовью.
Я найду решение, чтобы зритель сразу же вспомнил слова Тибальта: «Мне ненавистен мир и слово мир». Это два прямо противоположных, как любовь и ненависть, взгляда на жизнь. Полюбив Джульетту, Ромео победил свой род и свой город.
Таким образом, напряжение между Ромео и Тибальтом — основной конфликт спектакля. Их отношения не менее важны, чем отношения Ромео и Джульетты. Потому что мы…
— Делаем спектакль о ненависти, — громко отозвался Семен Балабанов.
…Наташа неожиданно начала читать монолог Джульетты — любимый монолог Александра. Вдруг, даже не вставая со стула, она заговорила-запела: «Ночь кроткая, о, ласковая ночь! Ночь темноокая, дай мне Ромео!..»
Андреев слушал благосклонно, но без восторга. Тогда Наташа, словно почувствовав, что режиссер хочет услышать монолог яростный, почти закричала, наполнив голос отчаянием: «О сердце змея, скрытого в цветах! Так жил дракон в пещере этой дивной!» Джульетта, клянущая Ромео, пришлась Сильвестру по вкусу.
Она никогда так хорошо не играла. Александр подумал о том, какой оплодотворяющей мощью обладает талант Андреева. Даже маленькие талантики на время обретают мощный голос. Пока Он на них смотрит.
Наташа читала и читала монолог Джульетты — восторженно, забыв, что ее могут, как выстрелом, сбить одним лишь «спасибо». Она не думала, что Александру, возможно, больно слышать, как подруга властно присваивает его недавнюю роль. До подобных ли рассуждений в такой момент? Поэзия Шекспира захватывает. Взгляд режиссера гипнотизирует. И ей самой нравится, как она владеет своим голосом — то снижая его до отчаяния, то возвышая до надежды.
Она закончила монолог, ни разу не прерванная, не оставленная вниманием. Андреев молчал. Смотрел то на нее, то на Александра. «Вам повезло. Ваша подруга изумительна. — Сильвестр сделал паузу, потянулся к бокалу с водой, передумал пить и добавил: — Но не это главное. Она хорошая актриса». Наташа ждала, как приговора, слов, которые должны последовать, и они явились: «Вы приняты в труппу». — «Я не верю», — вдруг ответила Наташа. Андреев засмеялся: «Не верите мне, поверьте тогда отделу кадров. Завтра придете туда и оформитесь. А начнем мы с ролей немногословных, но важных».
И потом они спускались по лестнице. Наташа снова отказалась ехать на лифте. «Вот теперь уже точно застряну, а я хочу танцевать, танцевать, танцевать», — шепнула она ему, проходя мимо стола Сциллы Харибдовны. Наташа была потрясена своим успехом. Не думала, что может ранить Александра, причем не только своим легкомысленным отношением к его переживаниям по поводу роли Джульетты. Он заметил и почти эротическое наполнение ее желания войти в круг тех, кого ценит Сильвестр Андреев.
И снова кинолента памяти показывала режиссера.
— …И что происходит дальше? Ромео, «который не помнит зла», убивает того, «кому ненавистен мир». Ромео убивает Тибальта. Не наоборот. Оказывается, ненависть продолжала жить и в полном любви Ромео. А его новый взгляд на мир жил в нем лишь несколько часов. Помните, как он говорит: «Любовь страшнее ненависти…»
И что же в конце? Ромео и Джульетте устанавливают памятник. И наступает мир — мрачный, тяжелый, мир, готовый в любой момент взорваться насилием. Ему не будет конца, пока не погибнет сама Верона. Я уверяю вас, нам будет легко создать на сцене такой мир, поскольку мы понимаем и чувствуем, о чем идет речь, мы сами плоть от плоти вечной Вероны. Простите уж за пафос. Хотя можете не прощать.
…Выйдя из театра, Наташа ощутила-вспомнила, что Александр рядом. Они остановились у того же фонтана, который был свидетелем их первой встречи, когда Наташа так легко презрела свое замужество. Проклиная свой эгоизм, Наташа бросилась благодарить-целовать его.
«Мы делаем спектакль о ненависти».
«Боже мой, как я счастлива. Я не могу поверить! Если бы не ты, разве я бы могла? Даже мечтать! Спасибо!»
«Мы делаем спектакль о ненависти».
«Неужели сейчас зима? Мне так жарко! Хочу раздеться!» — Она посмотрела на него лукаво, он обнял ее, что-то шепнул на ухо, она ухмыльнулась, вдруг вырвалась, слепила снежок (о, грязный снег!), и запустила им в живот Александра. Снежок разбился насмерть.
«Мы делаем спектакль о ненависти».
И наступили дни знакомства Наташи с труппой, а труппы — с Наташей. Господин Ганель с подчеркнутой учтивостью подал руку Наташе и больше ее судьбой не интересовался. Преображенский рассматривал Наташу с каким-то веселым, почти неприличным интересом и слово в слово повторил фразу Сильвестра: «Твоя подруга изумительна».
Что за странный блеск в его глазах? Или болезнь снова искажает прошлое?
Александр чувствовал, как его обжигают взгляды многоглазого чудовища — труппы. Ревность, недоумение, зависть, насмешки… Чудовище было и многоголосым — со всех сторон, исподтишка, его обдавали шепотом, как кипятком. Шепотом, несущимся со всех углов. Вероятно, он уже тогда начал заболевать. Ему стало казаться, что все что-то знают о нем, что-то нестерпимо позорное…
«Мы делаем спектакль о ненависти».
Александр вспомнил, как Иосиф вышел из кабинета Сильвестра печальный и просветленный. Подошел к Александру и Наташе. Голос его дрожал, лицо сияло:
— Я не верил, что он простит меня. А он! Он даже оставил меня в театре! Большое, большое сердце! А, это ваша дама?! Наташа? Изумительна! Позвольте ручку. Не приревнуете? Конечно, нет, что я спрашиваю, самонадеянный. — Он поцеловал Наташе руку. — Но каков Сильвестр? Великий человек! Огромное, космическое сердце!
Господин Ганель становился все загадочнее и загадочнее. Стал сторонился Александра и Сергея. По вечерам заходил в кабинет Сильвестра. Они вместе внезапно начинали хохотать и так же внезапно прекращали. Раскаты хохота тревожили труппу. Ревновал даже Сергей Преображенский. Что уж говорить о простых, а тем более о простейших смертных, которыми переполнен театр. Ревновал и Александр. Он успел почувствовать и это, хотя, казалось бы, до ревности ли к режиссеру ему было? Вот у кого большое сердце. И на этом моменте воспоминаний оно начинает лихорадочно биться.
Александр вспоминает внезапный приезд Ипполита Карловича с отцом Никодимом на репетицию. Отеческую заботу первого. Почтительное благодушие второго.
И тут память отказывалась исполнять свои обязанности. Кинолента прерывалась. Память-монтажер старалась изъять отрывки, которые нанесли бы удар по психике единственного зрителя. Но этот зритель делает усилие, и видит — тьму. Он не смиряется, и тогда из этой тьмы проступают — о пошлость! — ярко-красные цветы. Александру кажется, что это похоже на какой-то давний и страшный сон. Или — на нечто скомпонованное из сна и яви. И вот он, силясь одновременно вспомнить и забыть, видит цветы. Но и этого красного сигнала достаточно. Ему ли, столько лет прослужившему в театре, не знать романтической обходительности Ипполита Карловича?
В голове вспыхнули и уже не погасли слова Андреева: «Ваша подруга изумительна».
Вдруг он почувствовал, как на лицо ложатся холодные капли. «Дождь? — удивился он. — Дождь в феврале?»
В мозгу стучало «ваша подруга изумительна», в мозгу плясало «ваша подруга изумительна», мозг разрывало «ваша подруга изумительна».
Вот-вот, вот-вот, вот-вот: стучало сердце. Оно вспомнило. Что сейчас. Он должен идти к Наташе. Ноги идти отказывалась. А идти было надо. «Не капитулировать же перед этим огромным букетом? Размером с презрение Ипполита Карловича к людям? А если не капитулировать, то что делать… Бороться? Господи, какая же смешная предстоит сцена. Я буду упрашивать Наташу не идти… не идти в особняк… Ну разве можно об этом упрашивать? А что — прийти и молчать? Господи, какая смешная предстоит сцена… Вот сняли меня с роли. Дали второстепенную. Теперь приказывают: будешь второстепенным во всем. Тень, знай свое место! Да я знаю, знаю, и без вас знаю, господа командиры, господа распорядители… Как же я не хочу идти к ней! Спрятаться. Вот чего я хочу».
Но Александр понимал, что это не вполне правда. Потому что он испытывал чудовищную ревность. Он представлял Наташу, входящую в особняк, улыбающуюся, легкомысленную, изящным жестом сбрасывающую туфли — она же наденет туфли, ведь в машине, которая ее привезет, будет совсем не холодно… И в первые же минуты оцепенеет перед нимбом сказочного богатства, мерцающим над Ипполитом Карловичем.
…Как же все это стало возможным? Не подтасовка ли это? Не сон? Не бред? «Вон как тяжело двигаться — как сквозь вату — может, и сон». И он произнес слова из своей единственной крупной роли, которую ему так и не дали сыграть: «Зачем судьба кует такие ковы столь беззащитным существам, как я?»
Ему никто не ответил. А ковы, и правда, ковались: Ипполит Карлович уже выслал за Наташей машину. И она мчалась по вечерней Москве, притормаживала на красном, вежливо пропуская пешеходов. Светофоров, отделяющих машину от цели, оставалось все меньше. Александр словно почувствовал это и зашагал настолько быстро, насколько мог.
А Ипполит Карлович чинно беседовал с отцом Никодимом. Он потрясал священника похабнейшими историями из своей жизни, а тот не смел уйти: этот эксгибиционистский балаган недоолигарх именовал исповедью.
Пока Александр шел, он заболевал — текли слезы, сопли, дождь. Зима глубокая, беспросветная, всеохватная. Разве можно не заболеть в такую погоду? Да еще и когда мысли твои сродни зиме, из них струится холод, они рождают насморк, они слезят глаза.
Если бы Александр увидел себя со стороны, то отметил бы, что ведет себя весьма нетривиально. Он остановился на углу потемневшего от времени и от того, что уже наступил вечер, дома. Прислонился к трубе. Лбом. Слушал, как мелко и быстро тарабанит мелкий и быстрый дождь. Дождь был почти незаметен, и оттого казалось, что ему не будет конца. Вода лениво капала из трубы, образовывая, как потом сформулировал это в дневнике Александр «небольшую, но надолго прибывшую на эту землю лужу».
Александр собрал ладонью воду, промочил ею лоб, глаза, и, помедлив немного — шею. Охладил себя и снова пошел, медленно и неровно.
Он шел, чувствуя холод снаружи и жар внутри. Верный признак болезни. Верный признак боли.
Он долго стоял у двери в свою квартиру. Стоял почти вплотную. Всматривался. Прикасался. Отдергивал руку. Наконец распахнул — нешироко. И протиснулся в проем — робко. С мокрой от дождя одеждой и от слез лицом, он вошел прямо в комнату. Наташа сидела на диване. Не повернулась в его сторону. Он спросил:
— Наташа, я правильно понимаю?
— Надеюсь.
— Зачем тебе это?
— А зачем мне вообще все?
Она внезапно вскочила с дивана. «Боже, да она в ярости», — с изумлением подумал Александр. Этого он никак не ожидал. Дождь тарабанил — мелко, быстро — в голове. Он все сильнее погружался в болезнь, слушая, как Наташа кричит, не замечая ни темнеющих кругов под его глазами, ни его пылающих щек.
— А зачем мне вообще все? В целом? Частями? Чем это хуже?
— Хуже чего?
— Того, что есть.
— Лучше бы лучше.
— Лучше бы — да. Но — но.
— А я?
— А я? — спросила она и усмехнулась. — Вот так вот мы и живем. Ты говоришь «А я?», я отвечаю «А я?» И чему ты удивляешься?
Александр сел на диван, который мгновенно стал впитывать его влагу.
— Я не понимаю тебя.
Она заговорила столь же резко, как раньше, но уже тише:
— Я в этом не нуждаюсь.
— А я? — беспомощно отозвался Александр и облизал губы.
Наташа захохотала.
— Ты все время будешь повторять?
— А ты?
— Мне нужно уехать.
— В куда?
— В тебе-то что?
— Я люблю.
— Помню, когда ты сох по Сергею, я тебя поняла.
— Сох!!! — Он повторил это слово, не веря, что услышал его. — Сох? — повторил он снова, изумляясь внезапной жестокости своей подруги. Дождь усилился, застучал сильнее. Александр закрыл уши, но тут же отнял руки. — «Нелепый жест. Дождь же внутри», — подумал он, и частью пока еще не тронутого болезнью сознания понял, что мысль еще нелепее жеста.
— Но это было другое, — не глядя на Наташу, едва слышно, сказал он. — И это другое.
— Мы пожалеем.
— Мы?
— Ты. Я. Мы.
— Ты — возможно.
— Зачем так? Жестоко зачем?
— Смешно по-другому. Нежно сейчас — смешно.
— А я и смеюсь, Наташа.
— Мне кажется, совсем наоборот.
— Зачем ты меня мучаешь? Если бы понять — зачем? Мне стало бы легче.
— А ты?
— Я?
— Ты.
— Мучаю тебя?
— А что ты сейчас делаешь?
И навсегда в памяти остались ее глаза: невыносимо зеленые.
Когда Наташа ушла, он продолжал слышать «а ты, а я, а ты, а я, ты пойми, ты пойми», и надо всем царственно возвышалось: «ваша подруга изумительна».
Провал самоанализма
Ипполит Карлович прощался с Наташей намерено сухо: словно провожал горничную, исполнившую немного больше обязанностей, чем оговорено в контракте. Сказал, что ее ждет машина и пожелал «всех благ». Наташа была потрясена этим словосочетанием. Ничего не ответила. Ипполита Карловича совершенно не изумила невежливость гостьи. Пожелав ей «всех благ», он удалился. Неспешно.
Выйдя из дома, Наташа увидела в огороженном высоким каменным забором дворе машину, которая должна была увезти ее. Неподалеку стоял отец Никодим и тихо что-то втолковывал незнакомому ей молодому человеку. Священник отчаянно старался сделать вид, что не замечает ночную гостью недоолигарха. Заметив, что отец Никодим прячет взгляд, Наташа подошла к нему почти вплотную. Тот встрепенулся, словно вор, застигнутый врасплох.
— Не бойтесь, я не благословения подошла просить, а успеха во всех делах вам пожелать. — Наташу саму изумила дерзость, с которой она обратилась к священнику. Видимо, после высокомерного прощания Ипполита Карловича ее ранило любое проявление неблагосклонности. Отец Никодим с кротостью ответствовал:
— Я буду молиться о вас и о нем.
Наташа отшатнулась от черного цвета его рясы, от его сострадательного взгляда. Быстро зашагала к машине. Села, громко хлопнула дверью, открыла окно и крикнула, заставив шофера вздрогнуть:
— Вашими молитвами! Что бы мы без них делали этой ночью!
Отец Никодим глубоко вздохнул, перекрестил Наташу и машину и вошел в особняк. «Я больше не могу находиться в этом доме. Мое присутствие помогает дьяволу смешивать зло с добром, делать их неразличимыми, — горестно восклицал он про себя. — Сейчас я скажу Ипполиту Карловичу, что это был последний раз… — Он остановился, и, слегка презирая себя, добавил: — Скажу, что следующий раз будет последним».
Встреча со священником оказалась самым мерзким впечатлением Наташи от посещения особняка. Ей даже стало легко оттого, что мутный поток ее чувств и мыслей хоть на время обрел очертания: ненависть к отцу Никодиму. Она возненавидела батюшку так сильно, словно он был виноват во всем. «А в чем это, собственно, во всем?» — спросила себя Наташа. И не смогла ответить. И услышала другой вопрос — от водителя: «Куда вас отвезти?». С растерянной улыбкой проговорила «Куда угодно». Но, заметив, как в зеркале нахмурились шоферские брови, сообразила, что обладатель бровей понял ее превратно. «Шучу, — сказала она. — Везите на угол Тверского и Тверской» — «В смысле бульвара и улицы?» — «Именно!»— Наташа захохотала: ответ шофера показался ей хамски-остроумным. «Бульварно-уличные ассоциации я вызываю у этого… рулевого», — подумала она, глядя, как в зеркале заднего вида исчезает особняк Ипполита Карловича. Ей показалось, что очень неприлично звучит «зеркало заднего вида», и она принялась сочинять варианты переименований, но уже через минуту забыла об этой затее.
Она оказалась на перекрестке. Слегка заиндевевшие уличные часы показывали девять. Москва была окутана зимним туманом-смогом, и прохожие казались почти нереальными в светло-сизом утреннем цвете. Улыбаясь (мужчины думали — очаровательно, женщины — глупо), Наташа занялась самым трудным и малоприятным для нее делом — самоанализом.
Вчера она не заглядывала в будущее дальше этого утра. Это нелепо, почти невероятно для взрослой женщины. Но это правда. Она принялась мерить шагами расстояние от светофора до магазина «Армения». «Один… Два… Три…» Странному занятию она отдалась с неожиданным энтузиазмом. Как будто самое правильное, что может делать женщина в ее ситуации — измерять расстояние от магазина до светофора.
Количество шагов от светофора до магазина «Армения» неизменно оказывалось разным. Наташу это развлекло. Она нарекла свое занятие «метафизической математикой». Ведь если даже в таком вопросе, как расстояние от «Армении» до светофора, нельзя установить истину, то можно ли ответить на вопросы более сложные: каких выгод она ждала от посещения особняка и куда ей теперь идти?
«Двенадцать… Тринадцать… Четырнадцать… Саша… Саша… Саша… Он наверняка… Себя обвинять начнет… Прощения станет просить… Что довел меня до такого… Какая гигантская пошлость… Пятнадцать, семнадцать… Вот черт, снова! Снова шестнадцатый шаг пропал…»
Она помнила, что к Саше ее вело чувство, будто он владеет ключами от ее блистательного будущего. И вот оно, это будущее, которое она получила через Сашу: Тверской бульвар, холод, светофор, «Армения».
Наташа захохотала, вспомнив, как перед сближением Ипполит Карлович степенно проговорил: «Теперь я пойду в кабину. Душевую». Он произнес это так торжественно, словно оповещал о передвижении войск.
«Он не может не понимать, что смешон в постели. Именно смешон. Он исполнял роль… Вот кто он был? Совокупляющийся небожитель. — Наташа была рада, что нашла точную формулировку. — Что-то древнегреческое было в нашей близости… Секс бога и смертной женщины… Кто же родится от нашего союза?»
Странно, что Ипполит Карлович не пожелал предохраняться. Хотя оба рисковали в равной степени, Наташа была изумлена именно его решением. Словно столь богатый человек имел гораздо меньше прав рисковать собой.
А ее возможная беременность? Почему он об этом не подумал? Ведь если небожитель сделал ей сына, она получит божественные алименты…
Совершающей светофорно-магазиную прогулку Наташе было ни грустно, ни весело, ни хорошо, ни плохо. Ее нынешнее состояние можно назвать бесчувствием. В общем-то, и с мыслями было не густо. Прогнозы последствий поступков, анализы их причин — все это не давалось ей раньше, не далось и сейчас.
Обычно она с удовольствием выслушивала мужчин, которые объясняли ее часто нелогичное поведение. Но Наташе просто льстило, что они так внимательны к ней. В их словах она находила мало смысла. Их объяснения были очень мужскими и основывались на ошибочном посыле: Наташа, как все простые смертные, что бы ни делала, стремилась улучшить свое положение. Но как она могла его улучшить, если не знала, где для нее находится это лучшее?
Наташа вспомнила, как несколько лет назад на вечеринке человек, который знал ее лучше всех — ее муж — сказал своему другу в припадке пьяной откровенности, не стесняясь ее присутствия: «Не надо видеть загадки там, где ее нет. Наташа гораздо проще своих поступков». Эти слова она запомнила. Ей показалось, в них больше правды, чем в каких-то уж очень художественных интерпретациях ее, в общем-то, незатейливого пути. Но сейчас желания Наташи не были совсем бесформенными. Сейчас ей хотелось быть уверенной, что вечером она не останется одна. О том, чтобы идти к Саше, не могло быть и речи.
В душе ее снова мелькнул образ мужа.
Наташа взглянула на часы (инея на них уже не было) — без пятнадцати одиннадцать. Значит, она почти два часа безуспешно пыталась понять себя и измерить это чертово расстояние. Раз попытка самоанализа снова провалилась, она решила упорствовать в другом деле и довести до победного конца хотя бы расчет шагов. Тем более что до репетиции, а значит, и до встречи с Сашей, оставался целый час. И Наташа, глубоко вдохнув холодный воздух и выдохнув теплый, снова пошла в математическую атаку. «Один, два, три…»
Алкогольные облака
Господин Ганель шел из дома в кафе «Пушкин» — то есть примерно к тому месту, где предавалась метафизической математике Наташа. Он хотел за чашечкой эспрессо привести мысли и чувства в порядок.
Карлик был бледен. Он плохо спал этой ночью. Переживал за друга, боялся даже представить, что перенес Александр. Но мысль упорно, всю ночь — во сне и наяву — возвращала его к Саше. Господин Ганель засыпал, и ему снилось, что над Александром глумятся две пожилые тетки. И Ганель просыпался, хотел звонить Александру, но хорошее воспитание оказывалось сильнее желания безотлагательно помочь другу. И засыпал снова.
Карлик почувствовал, что не в силах дождаться, когда увидит Сашу в театре. Он остановился у огромного тополя, повернулся так, чтобы ветер дул в спину, а не в лицо, и набрал номер. Сквозь негромкое завывание ветра он услышал слабое Сашино «Как же я рад вам, господин Ганель».
— Я тоже очень рад, как вы?
— Хотите спросить, как я перенес случку Наташи и нашего спонсора?
Александр почему-то сделал ударение на последнем слоге, а господин Ганель не нашел ничего лучше, чем поправить его:
— СпОнсора.
— Да, вы правы, спОнсора… Отвратительно перенес я их случку. — Александр говорил каким-то пустым голосом. — Но живой я, живой. Может, даже в театр приду.
— Саша, я прошу, возьмите отпуск на время, на долгое время. По состоянию здоровья. Сильвестр поймет, я обещаю, я все сделаю, чтобы он понял вас…
Александра кольнуло, что господин Ганель обещает повлиять на позицию и даже на чувства режиссера. Но гораздо сильнее его кольнуло другое — что ему советуют самоустраниться, исчезнуть.
— Я привел ее в театр, секс со Скруджем ей устроил, а теперь мне что? Катиться колбаской по Малой Спасской? Представляете себе, как я качусь колбаской? Ха! Это зрелище. Знать бы хоть, где эта Малая Спасская. Вы знаете?
— Я не знаю, где Спасская. — Господин Ганель страдал. — С каким Скруджем вы ей устроили, я не понимаю… — растерянно спросил он.
— Со Скруджем Мак Даком! — крикнул Александр и нажал на сброс.
Господин Ганель заметил Наташу, совершающую паломничества от светофора к магазину «Армения» и обратно. Карлик решил свернуть в ближайший переулок. Но подумал, что Наташа уже его, скорее всего, заметила, а потому изменение маршрута будет выглядеть нелепо. И он направил шаги навстречу той линии, которую упорно прочерчивала Наташа.
— Добрый день, — сказал он, едва заметно улыбнувшись.
Наташа невероятно обрадовалась господину Ганелю.
— Добрый! Какими судьбами?
— Я живу недалеко.
— В самом центре! Вы состоятельный человек!
На секунду господин Ганель почувствовал жалость к ней, но тут же его настигло воспоминание о недавнем разговоре с Сашей. И он нахмурился, мгновенно напомнив Наташе, как сдвинул брови шофер Ипполита Карловича. «У всех теперь при виде меня брови срастаются», — подумала она и задорно спросила:
— Могу я вам составить компанию?
Господин Ганель подумал: «А ей идет мороз, в театре она не такая привлекательная. А может быть, ей идет несчастье? Бывает такое?»
— Ну же? — слегка капризно настаивала Наташа. — Могу составить компанию? Нам же по пути?
— Конечно по пути, конечно, можете, — даже как-то излишне поспешно ответил господин Ганель. И они зашагали к театру.
— У Ипполита Карловича великолепный особняк, — вдруг бросила Наташа, как бы между делом, не поворачивая головы.
— Вы уверены, что об этом нужно говорить? — робко спросил карлик.
— Ведь вы только об этом и думаете. Почему бы и не поговорить?
Господин Ганель заметил, как от ее лица отлетело облачко пара. Его дыхание не порождало таких явлений в атмосфере. Он даже специально мощно выдохнул, чтобы проверить, каким будет атмосферный результат. Из его губ вырвалась едва заметная малопривлекательная струя. Облачка возле губ разгоряченной Наташи были гораздо плотнее и изящнее. Карлик вдруг подумал, что в такую женщину можно влюбиться. «Даже воздух, который она возвращает Тверскому бульвару, соблазнителен!» — подумал господин Ганель. И даже — грешным делом — запомнил момент, когда на Наташином лице отразился сплав отчаяния, дерзости и растерянности. Это мгновение показалось ему весьма эротичным. Он нередко фиксировал в сознании — до черточки — женские лица. Господин Ганель называл это «сделать эротическое фото на память». Лица ему было достаточно. Увидеть большее он не рассчитывал. Вернее, большее он видел, но уже в своих фантазиях.
Женщины были бы потрясены, узнав, в каких дерзких грезах они принимают участие. Эротический фотоальбом господина Ганеля был, надо признаться, подростковым. Он спасал женщин от злодеев и одновременно сам был злодеем. Похищал их, заковывал, наслаждался ими, потом снова спасал, вызывая у них невыносимые перепады эмоций — от благодарности до ужаса. Коварный ли маньяк, благородный ли спаситель — повелителем в этой эротической вселенной был он, господин Ганель.
— Так почему бы не поговорить? — повторила вопрос Наташа, зашла чуть вперед и посмотрела на него в упор: пронзительные глаза глядели с вызовом, но на дне их таилась мольба, которую господин Ганель то ли действительно увидел, то ли придумал. К этим молящим глазам он тут же добавил две, нет, три слезы. Разорвал на ней одежду, что было непросто — шубка, потом кофточка, а он все-таки не силач. Но воображение справилось с задачей. На прекрасные запястья надеты кандалы. Покоренная Наталья спросила снова — тихо, обреченно:
— Так почему бы нам не поговорить? Вы же все время об этом думаете?
— Я не люблю выяснять отношений, — сказал господин Ганель, любуясь облачками воздуха, вылетающими из ее губ. — Тем более чужих отношений. Простите меня, я вижу, вам плохо, но помочь не смогу.
— Мне плохо? — Наташу оскорбила жалость карлика. К презрению она была готова, к жалости — нет.
— Вот видите, Наташа, — начал карлик, и она отметила, что господин Ганель впервые за все время знакомства назвал ее по имени. — Видите, я только одно лишь слово о вас сказал, а вы уже обижаетесь.
— А вам разве не интересно, почему у нас с Сашей все так получилось?
Ветер донес до господина Ганеля запах алкоголя. Очаровательные облачка, которые порождала Наташа, были высокоградусными.
— Наташа, если вы явитесь в театр пьяной, — она посмотрела на него с «очаровательным гневом» (именно так он подумал), и господин Ганель сформулировал иначе, — не совсем трезвой, то это будет последний день вашей службы у нас.
Чувствовалось, что ему при любых обстоятельствах нравится говорить про знаменитый театр — «у нас».
— Я не думаю, что меня могут уволить. Теперь. …Я, может, сама кого-нибудь уволю.
Наташа смотрела на господина Ганеля с каким-то отчаянным вызовом.
— Наташа, вы не сможете быть стервой. Даже не пытайтесь.
— Почему вы так говорите со мной? — Облако Наташи. Восторг Ганеля. — И с чего это у меня не получится стервой быть?
Снова облако. Снова восторг.
— Сил у вас на это не хватит. Простите за прямоту.
Дальнейший путь к театру они преодолевали молча. Когда вдали показались афиши и засияла надпись «Художественный руководитель театра лауреат Государственной премии России Сильвестр Андреев», Наташа спросила:
— А почему вас все называют господин? Почему не просто Ганель?
— Началось все с издевательского прозвища. Мол, такой крошечный, а господин, — охотно объяснил карлик, не удивляясь неуместности вопроса. Он говорил, любуясь ее профилем. — А потом меня стали так называть уже не в насмешку. Я и не заметил, как смешное превратилось в уважительное… Мне кажется, что в уважительное. Не противиться же мне этому имени?
— Что вы! Господин Ганель! Только так вас и надо называть! Даже если бы вы сменили имя, я бы упорно называла вас господин Ганель! Вы, наверное, единственный из моих знакомых, у кого имя так подходит к облику. Как влитое, — улыбнулась Наташа, и карлик подумал, что на месте Саши он простил бы ее. За несколько вдохов и выдохов.
— Я слышал, что вы как-то особенно внимательны к словам. Для актеров это такая редкость сейчас, — вдруг похвалил ее господин Ганель. Сострадание и вожделение были соавторами этого комплимента.
Наташа уловила совершенно неожиданную интонацию, с интересом глянула на господина Ганеля и мгновенно угадала, что с ним происходит. Она решила отложить до лучших времен свое наблюдение: о воспламенившемся карлике она если и подумает, то не сейчас.
Господин же Ганель с удовольствием втягивал аромат порождаемых ею алкогольных облачков и думал: «Удивительная женщина! Даже перегар от нее какой-то шанельный».
Когда они подходили к театру, из машины, что стояла у служебного входа, вышел Александр. Был он небрит и еле волочил ноги. Черная неуклюжая шапка, потертая коричневая дубленка, грубые оранжевые рукавицы: эти вещи Наташа давно забраковала. Настаивала, чтобы Александр их выбросил. Но он их хранил, и вот их час пробил: они стали символом его бунта. И вместе с тем — трауром. Его комическим трауром.
Господин Ганель, с таким вниманием относящийся к внешнему виду, был поражен чучелообразным обликом своего друга. А первое, что подумала Наташа, увидев Александра: «Он же последние деньги потратил на такси». Второе: «Он стал призраком блошиного рынка». Наташа невольно улыбнулась. И снова ощутила бесчувствие.
Господин Ганель хотел было проскользнуть в служебный вход, но почувствовал, как рука Наташи крепко сжала его руку. Он остановился. Бесформенной громадой подошел к ним Александр.
— Приветствую, — мрачно и гордо произнес он и медленно прошествовал в театр.
Румянец заполыхал на щеках Наташи. Глаза смотрели вниз — на смешанный с грязью снег. «Фотоаппарат» господина Ганеля защелкал с удвоенной силой. И только когда Наташа отпустила его руку, и, не говоря ни слова, пошла в свою гримерную, он осознал, сколько боли было в глазах его друга. Господину Ганелю стало стыдно.
Джульетта сама наш нашла
…Зрительный зал был полон актерами. Сильвестр оглядел свою паству и потребовал: