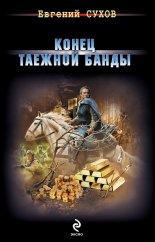Институт репродукции Фикс Ольга

Я выскочила в коридор и отчаянно надавила со всей силы на кнопку.
Через мгновение в кармане у меня залился бешеной трелью сотовый телефон.
– Насть, ты свихнулась?! Чего людей зазря дергаешь? Тем более среди ночи. Проверили, тихо у вас все. А за ложный вызов знаешь чего бывает?! Теперь ко мне еще приебутся – и чего я тебе прибор вооще дал, да может, когда давал, чего-нибудь не так объяснил. Велели, короче, срочно тебя по новой проинструктировать. И пиздюлей заодно навешать.
– Степка, не ругайся, это не у нас. Это я вот почему звоню. Слушай, сейчас к платформе «Сортировочная»…
Закончив разговор, я вытащила планшет. Включила, и, как всегда, сразу оказалась на сайте нашего «Института». Телефоны сотрудников, код доступа, а, вот оно – телефон священника АНРПЦ…
Трубку взяли с первого же звонка.
– Отец Геннадий, здравствуйте, извините, что я так поздно. Это Настя, из третьего акушерского. Понимаете, нам тут срочно нужна молитва. Что-нибудь такое о чуде…
*
С детства не понимала, когда в книге там или в фильме, кого-нибудь публично казнят. Не как сейчас – тайком, на рассвете, в каменном мешке или на дальнем каком-нибудь полигоне. А на площади, при скоплении людей, среди множества сочувствующих. И вот все стоят и жалеют бедного какого-нибудь Робин-Гуда, или знахарку, вылечившую пол деревни, или вообще ни в чем не повинную королеву. А потом всеобщее: «Ах!» – и ноги задергались в воздухе, или голова полетела с плеч.
Всегда злилась – ну чего они все стоят? У них рук нет, или оружия? У плотников вон, у всех до одного топоры, про охотников или там мясников вообще уж не говорю. У вас на глазах убивают кого-то, по вашему мнению, зазря – так вы не стойте столбом, идите и отбивайте! Охрана? Да сколько ее там, той охраны! А вас ведь целая площадь! Закон? Да на хрен вам такой закон?
Оказалось, не я одна – многие на свете так думали. Поэтому со временем от проведения публичных казней отказались. Теперь – только каменные мешки и дальние полигоны.
А жалко!
Под скептическое ворчанье Оскара, что, мол, ни к чему это, конечно, не приведет, и Костино унылое: «Три процента! Поймите, машина дает три процента, за то, что мы там сможем чем-нибудь помешать! И даже, если честно, не три, а только два, семь десятых и корень из двух дает», мы все оделись, и высыпали на холод, на ходу разбирая имеющиеся в нашем распоряжении транспортные средства.
Мама оставила в интернете краткое сообщение с призывом ко всем людям доброй воли собираться вблизи платформы «Сортировочная», и образовать «живое кольцо». В крайнем случае, всем дружно улечься на рельсы. И не дать свершиться величайшей несправедливости, страшному преступлению, направленному против ни в чем не повинных людей. Неужто народ, подаривший миру Пушкина, Достоевского и Толстого, в середине 21-го века…
Короче, воззвание вышло кратким, но весьма поэтичным.
*
В такую погоду принято говорить, что нужен снег. Но если не считать жестких каемок инея по краям тротуаров, вокруг все было черным-черно. Месяц в небе еле обозначался узеньким серпиком, мерцанье звезд скорее угадывалось сквозь толщу смога и облаков.
Пространство у платформы Сортировочная, освещенное тусклыми желтыми фонарями, уже не вмещало заполнившего его народа. А люди все шли и шли.
Со всех сторон, перелезая через рельсы, просачиваясь сквозь бесчисленные дыры в заборах. Светя себе фонарями, спускались по еле заметным тропкам, с высокой насыпи вниз, к путям. Топали по ветхому железнодорожному мосту со скрипящими опорами. Вытекали темными ручьями из жерла туннеля.
Оказавшись на небольшом пятачке, ограниченном с боков мертвенно поблескивающими витринами закрытых на ночь киосков, спереди – платформой, а сзади – Москвой в лице Юрьевского переулка, люди останавливались, радостно окликали друзей и знакомых, притоптывали от холода ногами, возбужденно переговаривались между собой, смеялись, делились пирожками, горячими и горячительными напитками. Кто-то снимал происходящее камерой, кто-то – на телефон. Звенели на разные голоса сразу несколько гитар – где рок, где барды, а где и вовсе попса. Каждый выбирал песню для себя, подходил ближе, и радостно подпевал.
Людей доброй воли оказалось неожиданно много. Не поместившиеся на узеньком пятачке, они кучковались на путях, висли на заборах, лезли на крыши будочек и киосков. И по-прежнему продолжали подходить еще и еще.
Вплотную к пассажирской платформе стоял товарняк вагонов на двадцать пять-тридцать. Всем вагонам места, конечно же, не хватило, поэтому хвост состава терялся где-то там, далеко позади платформы. Двери вагонов были закрыты, и у каждой маячило по два-три человека в форме. Они затравленно озирались, в разговоры не вступали, и на провокации не поддавались. У въезда на станцию стояли две полицейские машины, откуда через равные промежутки времени раздавались по матюгальнику призывы не бузить и разойтись по-хорошему.
Фургонов с надписью пока нигде не было видно. Но никто не сомневался, что они скоро подойдут, некоторые даже отслеживали через гугл-мэп их продвиженье по городу.
По углам периметра один за другим вспыхивали костры. На растопку шли деревянные ящики, собранные по задам киосков, ветки деревьев, растущих по краям железнодорожной насыпи.
Я стояла у костра, грела ладони стаканчиком кофе из чьего-то термоса, улыбалась Косте, зябко кутающемуся в дедову телогрейку, в которой он тонул, слава Б-гу, весь целиком – лишь кончик носа выглядывал, да снизу носки ботинок – и чувствовала, как меня захлестывает всеобщее воодушевление. Конечно, мы победим! Ведь нас тут столько! А их – всего ничего, жалкая какая-то горсточка. Какие к чертям десятые, не говоря уж об иррациональном корне из двух! Смешно! Да сто процентов, что у них ничего не выйдет!
– Здравствуйте, Александр Менделевич!
– Здравствуй, Славин Паша!
Они обнялись – Оскар и высоченный парень в косухе, косая сажень в плечах, лысый и бородатый. Ухо, повернутое ко мне, проколото было раз, наверное, двадцать, гвоздики-брильянты так и сверкали. Маленькое светло-желтое – золото? платина? – колечко пересекало левую бровь.
– Вы! Все-тки, точно вы! Ну, ежкин кот! Натаха когда сказала – не поверил! От ведь бывает! Думаешь – помер человек, а он вовсе даже живой! Ну, так надо ж за это выпить!
Оскар досадливо поморщился.
– Потом, Паша. Когда все это закончится.
– Ну, как скажете.
Они сели рядом, на сваленные у костра ломаные ящики. Оскар вытащил «Беломор», но парень, остановил его энергичным жестом, щегольски щелкнул вынутым портсигаром:
– На, Менделич, не позорься! Ну что это! Приличный человек, и курит всякую дрянь! Вот берите, все не та отрава, а вставляет вовсе не хуже!
Но Оскар только отмахнулся.
– Не надо, Паш, я к своим привык.
Закурил, и тут же закашлялся.
– Ну, Паша, докладывай обстановочку.
– А чего, обстановочка херовая. Наши все, конечно, кто в наличии, подгребли. Тем более у многих тут свой интерес оказался. Они ж там как думают – оторвали пацана от семьи, сунули в приют или, скажем, на усыновление – и все, сразу он сирота безродная. А вот вам на это индейская изба! – и Паша энергично потряс сложенной комбинацией из трех пальцев. – Пацаны, конечно, боевые все, с опытом, кое у кого армия за плечами с точками всякими горячими, ну и здесь, в Москве, кой какой опыт приобрели. Но ведь и с той же стороны не одних фраеров согнали! Небось, там и солнцевских много, и бутовских хватает, да и из глубинки в Москву не худших парней берут. Считай, ихняя лимита вся, как на подбор.
– Как это— солнцевские и бутовские? – не поняла я. – Разве против нас не одна только полиция?
Павел снисходительно усмехнулся.
– А полиция, ты думаешь, кто? Те же наемные работники. Это ж раньше такого быть не могло, чтоб человек одновременно был и ментом, и допустим, гопником. А сегодня никого уже не колышет, чем ты зарабатываешь в свободное от работы время. Скажи спасибо, если они ОМОН не пришлют. Туда вообще нынче только из колоний берут. Малолетних мокрушников. Думаешь, почему, русский спецназ стал настолько крут, что нас теперь любые моджахеды боятся? На Руси никакой талант зазря не пропадет!
– Ладно, Паш, кончай заливать. Тебя послушать, у каждого за спиной если не тюрьма, так колония.
– А что, не так, разве? Да вы ж, Менделич, и сами теперь должны понимать. По мне, кто хоть раз не сидел, считай, что и не человек вовсе! Так, полчеловека! Вот они – Паша пренебрежительно махнул рукой на топчущихся у костров и весело подпевающих гитарам людей доброй воли – разве что понимают? Жалко их! Зря их мать твоя сюда согнала. Перестреляют их, как до дела дойдет, ни за грош. Герои, ептыть! Так бы мы разобрались между собою по-тихому, а теперь… Ишь, распелись, пикник им здесь! Любое дело, дай волю, в забаву превратят. Главное, вот так, смеясь, все ведь и передохнут. С песнею на устах, пулей в башке и пол-литрой в брюхе. Не успев ни понять, ни сообразить, чо вооще вокруг происходит. От монашков этих мелких, ну, которых ваш поп привел, – и то больше пользы. Вон, расселись по заборам и деревьям, уставились на дорогу, и ни гу-гу. Ждут. Понимают, что дела вокруг серьезные затеваются. Замерзли, небось, все, как цуцики, а не слезают. Пойду, хоть чаю им велю раздать, или покрепче чего там.
– А ты, Паша, как я понимаю, у наших ребят за главного? – как-то подозрительно ласково поинтересовался Оскар.
– Ну да, – парень неожиданно смутился. Тон его, из уверенного, стал вроде как виноватый. – Ну, понимаете, так получилось. Вас же не было, Александр Менделевич.
Минуты текли. Время от времени кто-нибудь с треском разламывал новый ящик, подбрасывал дров в костер, и сноп искр взлетал высоко-высоко, в черное небо, рассыпаясь там, точно маленький фейерверк. Месяц к тому времени совершенно исчез, и на звезды уже даже не намекалось.
Неожиданно по толпе полетела весть, что фургоны уже здесь, за углом. Длинная, почти бесконечная вереница. Но ближе они не подходят, и людей оттуда не выгружают. Видимо, ждут, пока нас всех отсюда разгонят. И что надо же что-то делать – люди ведь там замерзнут. Женщины, дети, старики. Нам-то тут хорошо, с гитарами у костров… С чайком да с водочкой.
– Так надо туда идти! – крикнул кто-то в толпе. – Ломать двери, рвать брезент, выпускать людей! Какого х@я мы здесь топчемся!
– Точно! – откликнулось сразу множество голосов. – Двинулись! Каждый в руки по ломику, и вперед!
И вдруг, откуда-то с неба, причем даже не с одной, а словно бы со всех сторон сразу, как в концертном зале или кино, послышался чей-то добродушный, с легкою хрипотцой, и вроде даже негромкий голос.
– Кхе-кхе-кхе! Раз дрова, два дрова, три дрова! Проверка связи. Короче, эта… всем не двигаться и заткнуть пасть!
Толпа разом замерла и уставилась вверх, в черные, беспросветные небеса, ошеломленно обшаривая их глазами в поисках источника звука.
– Господа! – увещевающе, почти по-отечески, зажурчал голос с неба. – Вам что тут, всем жить надоело? Или впрямь подумали, что зависит от вас что-нибудь? Просто, как вчера родились, ей-Б-гу! – голос рассыпался снисходительным смехом – Ну, кто вас тут спрашивает? Как наверху решат, так все и будет. Давно пора понять, что ни от кого из нас ничего не зависит. Думаете, меня кто-нибудь спросил? Думаете, я по своей воле вместо того, чтоб в постели спать, тут с вами на холоду базарю? Все, короче, побузили и хватит. Дайте нам теперь спокойно людей в поезд пересадить. Вы б хоть о них немножко подумали – у вас тут, понимаешь, игры свои политические, а они, бедные, из-за вас там мерзнут. У нас-то с вами времени навалом. А они, там, в фургонах, глядишь, к утру, перемерзнут насмерть. Некрасиво как-то выходит. Вы вон все в шубах, в ватниках, да у костров, а они там, между прочим, кто в чем друг к дружке жмутся. Вы б их хоть пожалели! И учтите – тут голос заговорил строже – мы тут все нормальные пацаны. И, пока, никто из вас не полезет, куда нельзя, или, скажем, не начнет сдуру херь всякую нести в матюгальник, мы – зуб даю! – никого из вас зря не тронем. Ну чего там – собрались, побазарили – с кем не бывает. Надо ж народу как-то пар выпускать, что ж мы, не понимаем. Но если чего – тогда уж, господа хорошие, извиняйте. Не пугаю, но предупреждаю. Тут со всех сторон снайпера понатыканы, так что каждый из вас, считай, что на мушке, чуть чего – и чпок! А чурки по Москве больше ходить не будут. Это дело решенное, без нас и без вас, в верхах. Так что, спасибо за внимание, и, на вашем месте, я бы шел уже домой по-хорошему. Чего зря жопу-то морозить? И не забывайте – там люди мерзнут и ждут.
Толпа застыла в растерянности. Люди переглядывались. Недоуменно пожимали плечами. Каждый боялся первым заговорить, шевельнуться. Привлечь к себе лишнее внимание. Всех сковывала мысль об окружающих снайперах.
И тут, прямо рядом со мной, раздался громкий скрип досок. Моя, затеявшая все это, мама не собиралась так просто сдаваться. Легко, как девочка, взлетела она на гору ломанных ящиков и звонко, безо всякого матюгальника, но так, чтоб слышно было сразу всем, выкрикнула:
– Но послушайте…!
Закончить фразу она не успела. Прилетевшая будто ниоткуда пуля, прервала маму на полуслове. Она дернулась, словно поперхнувшись, кубарем скатилась вниз с ящиков, упала, да так и осталась лежать на земле.
Не знаю, какой реакции они от нас ждали. Наверняка думали еще сильней напугать. Но только результат получился обратный. Толпа дружно ахнула, взревела, и резко, единым гигантским движеньем рванула за угол. Размахивая досками, ломами, лопатами, ножами, гаечными ключами. Некоторые спотыкались и падали. Но люди, не останавливаясь, бежали дальше по их телам. Думаю, бежали и те, кто вовсе даже не хотел никуда бежать. Лично я, больше всего на свете, хотела вернуться к маме. Мне была абсолютно невыносима мысль, что она лежит там сейчас, совершенно одна, на голой земле. Но ясно было, что попробуй только я повернуть назад, и меня тут же затопчут. Теперь ни у кого из нас просто не было выбора. Потерявшая человеческий облик толпа несла нас вперед, и, если б кто замедлил шаг, немедленно б растоптала.
Кстати, хромого Оскара затоптали б уже сто раз, не охраняй его все время с боков ребята из «восемнадцатого». Я тоже пару раз чуть не упала – и каждый раз думала, что всё, даже если останусь жить, ребенка наверняка потеряю. Но оба раза меня подхватывали с двух сторон чьи-то сильные, крепкие руки. Во второй раз, я умудрилась, скосив глаза, разглядеть, что это были «тимуровцы», но не сразу уразумела, что это была вовсе не случайность. Скауты АНРПЦ сновали в толпе, точно лейкоциты в потоке крови – поддерживали, подхватывали, не давали упасть. Думаю, только благодаря им удалось уцелеть мне и Косте. Ведь у нас у обоих был смещен центр тяжести.
И мало кто заметил, как откуда-то с крыши дестиэтажки на Юрьевском, птичкой слетела, похожая на изломанную куклу, человеческая фигурка.
– Ха! – выдохнул за моей спиной Пашка. – Они думают, у нас снайперов своих нет!
Почти безоружные обезумевшие люди расшвыривали охрану, штурмом брали грузовики, разрезали на лоскутки толстые полотна брезента, запрыгивали внутрь, ссаживали, передавая друг другу закоченевших обитателей сектора Д, растирали им руки-ноги, укрывали снятыми с собственных плеч шубами и пальто, оттаскивали в сторону, уводили подальше отсюда переулками, грузили в свои машины и авиетки, разбирали по домам стариков, больных, матерей с маленькими детьми…
И все это – на фоне рукопашного боя, ни на миг не затухающей перестрелки, частично, правда, происходившей в буквальном смысле «в верхах». Во всяком случае, каждый обнаруживший себя вражеский снайпер, похоже, недолго заживался на этом свете.
Но дрались все же не мы, не интеллигенция. Дрались профессионалы. Мы же, если нам не везло, просто падали жертвой. Как, например, моя мама.
Впрочем, что я! Моя-то мама вовсе не пала жертвой! Наверняка она, как всегда, точно знала, что делает. Просто она совершенно сознательно решила геройски погибнуть!
Как всегда, ни о ком из нас не подумав.
Ближе к утру в воздухе потеплело. Бой к тому времени совсем уже стих. Большинство людей – те, кто еще был на своих ногах – разошлись. Остались брошенные, покореженные остовы грузовиков, трупы, тяжелораненые. Несколько человек оплакивали мертвых, и пытались хоть чем-то помочь живым. В основном это, конечно, были скауты АНРПЦ. Тут-то и выяснилось, что большинство из них, среди прочего, прошли не слабую медицинскую подготовку. Скауты перевязывали раны, накладывали жгуты, сооружали шины из подручного материала.
Крупными хлопьями повалил мокрый снег. Достигая земли, он таял, превращаясь в слякоть. которая, смешиваясь с кровью, приобретала грязно-розовый цвет. Мы все топтались в этой грязно-розовой жиже, чувствуя, как она проникает сквозь неплотные швы в нашу осеннюю обувь.
И вот тут-то, сверкая мигалками, и оглушая сиренами, подъехали «воронки», и, что более ценно, «скорые». В них загрузили всех, кто еще не успел или уже не был в состоянии уйти. Наши к этому времени все уже благополучно скрылись с места происшествия, включая упиравшегося Костю и безутешного Оскара. С ними я отправила в Яхромку Давида с Анджелой и маленьким Арсиком, и несколько их самых близких друзей. Много людей мы взять не могли, нас и самих ведь в доме немало.
Я осталась с мамой, справедливо рассудив, что беременной мне, скорее всего, ничего не сделают, а зато всем остальным могут, и даже очень.
У мамы в лице не было ни кровинки. И я все никак не могла понять, дышит она вообще, или нет. Но пульс-то у нее точно был – я все время проверяла. Не на запястьях, нет, запястья были жесткие и холодные. На сонных артериях.
Охранять меня остался «тимуровец» Коля. Моим он сказал, что за меня могут не беспокоиться. Потому что, хотя ему еще только двенадцать лет, у него черный пояс по карате, и стреляет он лучше всех в отряде. А что лет ему мало, так это же хорошо. Лишний раз не станут доебываться.
Но к нам никто особо и не вязался. Только проверили документы, и без звука позволили мне ехать с мамой в больницу. Фельдшер – девочка моих лет, может, даже из моего медучилища – надела ей на лицо кислородную маску, подключила аппарат, я простилась с Колей, и мы поехали в Склиф. А снег все шел, и вокруг все становилось белым, свежим и чистым.
*
– Как я уже сказал, пуля, попавшая в голову вашей матери, вызвала повреждения, несовместимые с жизнью.
– Но ведь она дышит! И пульс есть! Вот же, на мониторе!
– Дышит, к сожалению, не она, а аппарат ИВЛ. А сердечная деятельность сохраняется благодаря препаратам, которые она получает внутривенно. На энцефалограмме же – вот, можете убедиться, абсолютно прямая линия. То есть тело, благодаря нашим усилием, пока еще, так сказать, живо, но мозг в этом, к сожалению, более не участвует. Выражаясь, так сказать, метафорически, ваша мама больше не с нами. Примите мои соболезнование.
– Но ведь когда мы ее привезли, она же дышала! Сама! И пульс был. Я точно знаю! Я все время проверяла! На сонных артериях. Я не могла ошибаться! Я фельдшер-акушерка.
Лысый квадратный очкарик в мятом халате устало потер переносицу.
– Видите ли, коллега, поскольку было холодно…. Пониженная температура творит иной раз такие чудеса. Но они, увы, длятся недолго. Так сказать, прощальный подарок Деда Мороза… Анастасия Викторовна, соберитесь, пожалуйста. Я понимаю, что вам тяжело, но нам с вами еще надо решить один небольшой вопрос.
Я чувствовала, что вот-вот упаду. Перед глазами плыли круги.
Значит, все было зря. Мое сиденье рядом с ней в тающем снегу. Наша поездка сюда, с сиренами, на красный свет, на пределе возможной в городе скорости. Кислородная маска. Прикосновенье девочки-фельдшера к моему плечу: «Ну, видишь! Успели все-таки довезти! Теперь все будет точно о-кей!»
Оказывается, все было кончено еще там. Еще тогда. Пуля, попавшая в голову, убила ее на месте.
Я почувствовала, что из меня, как из лопнувшего шарика, разом выпустили весь воздух. Больше можно было не держаться, не разыгрывать из себя крутую. Можно просто упасть, где стояла, свернуться клубочком, и пусть со мной делают, что хотят.
– Анастасия Викторовна, вам плохо? Подать воды? Присядьте, пожалуйста. Вот так, вот так… осторожненько… Катюш, где у тебя нашатырь?
Едкий, выбивающий слезы и сопли запах, немедленно прочистил мозги.
– Пришли в себя? Хорошо. Так вот, последний вопрос. Вы, разумеется, в курсе, что ваша мама была приблизительно на двадцать шестой – двадцать седьмой неделе беременности? Конечно, при данных обстоятельствах, вряд это ли имеет большое значение, но вот, здесь у меня заключенья УЗИ, плод при ранении не пострадал. Если извлечь его сейчас посредством кесарева сечения, то он, с большой вероятностью, окажется жизнеспособен. Конечно, учитывая ваш возраст, и собственное интересное положение, вряд ли вы будете заинтересованы… Но я, все-таки, счел своим долгом сказать… Кстати, это мальчик.
Мама беременна?! На двадцать шестой неделе?! Интересно, в курсе ли Оскар?
Страшная, чудовищная боль потери немедленно чудесным образом сдвинулась куда-то на задний план. Шестеренки в моей голове автоматом завертелись в привычном ритме. Двадцать шесть или двадцать семь – две большие разницы, тут ведь каждый день на счету! Будем исходить из худшего варианта, стало быть, двадцать шесть. Это о-очень маленький ребенок, куда меньше, чем был даже Лешка. Значит… значит надо позвонить Лике!
Я прошу врача дать мне несколько минут на раздумья, в конце концов, аппаратура пока работает, и жизненные параметры на мониторе все еще неизменны.
Выскакиваю в коридор и набираю знакомый номер. Кратко, в двух словах, ввожу Лику в курс дела.
– Как, твоя мама! – ахает она в трубку. Я как-то упустила из виду, что за эти месяцы они успели познакомиться и подружиться. Пару раз Лика консультировала маму на родах, выезжала к ней на трудные случаи. Даже умудрилась заслужить у мамы высокое звание «очень толковой». И вот теперь все это оборвалось.
Но Лика врач, и немедленно берет себя в руки.
– Нельзя, чтоб ее кесарили в Склифе! В Склифе у ребенка почти что нет шансов! Добивайся, чтобы… тело.. перевезли на Четвертый Вятский, в родилку для недоношенных. Там хоть какие-то условия будут, да и я, если что рядом, подсуечусь. Поговори с ними! Если согласятся, дай мне сразу знать. Я пулей туда, и все подготовлю.
– Согласятся, куда они денутся! Да какая им разница!
Оказывается, разница есть, и еще какая.
Я доказываю, убеждаю, молю, предлагаю любые деньги. Все напрасно, они уперлись. Талдычат о какой-то опасности – для кого? Для мамы? Так ей уже все равно. Для ребенка? Так ему, пока он внутри, абсолютно без разницы, а снаружи ему будет безопаснее оказаться как раз вовсе не здесь, а там.
Да, в принципе я права… Но… понимаете, есть тут один нюанс. Короче, нет. Ни за что. Невозможно. Или здесь, или вообще нигде.
В середине разговора я чувствую, что кто-то дергает меня за рукав. Легонечко, словно бы случайно. Раз, другой, третий. Наконец я оборачиваюсь.
Медсестра Катя, стоящая за моей спиной, еле заметно кивает на дверь.
Мне тут же срочно требуется в туалет. Катя выскакивает следом, и в двух словах, по дружбе, ну, как своей, тоже, как-никак фельдшер, разъясняет скрытый нюанс.
– Мамка твоя здоровый человек была, так? Почти и не болела ничем никогда. Органы у нее внутри все целые – ну там сердце, почки, печенка? И группа крови – первая минус. Все, короче, высший сорт, экстра. Если тут порежут – здесь же и вскрытие сделают. Патанатомия у нас в подвале. А отделение пересадки на первом, два шага по лестнице вверх. Ну, соображаешь? А тело потом зашьют, и как догадаешься, чего у нее там внутри не хватает? Обратно же вскрывать – проверять, все ли на месте, не станешь.
Да, я соображаю. Я целую Катю от полноты чувств в щеку, и вихрем влетаю в кабинет.
– Значит, это, совсем забыла сказать. Ну, мама же моя была человек передовой, современный. Так вот, она все свои органы завещала на пересадку отдать. Честно-честно, она нам много раз говорила. Все-все, даже роговицу глаза. Так что готовьте контейнеры, и погнали. Ну, где, что надо подписать? А хотите, частную скорую оплачу? И так столько времени потеряли.
Знаю, звучит наверно чудовищно. Но, во-первых, я была совершенно уверенна, что мама, будь она в курсе, ничуть не стала бы возражать. Сама, будучи на моем месте, наверняка поступила бы так же. А во-вторых, выхода у меня все равно никакого не было. Мне надо было спасать брата.
По дороге я успела позвонить Лике и Оскару. Лика, явно на бегу, крикнула, что едет. А Оскар выслушал меня молча, и ничего не ответил.
*
Позже выяснилось, что Оскар смог воспринять лишь первую часть моего сообщения. Слов: «Мамы больше нет» для него было более, чем достаточно. Остальное просто не могло иметь никакого значения. Поэтому Оскар сразу же отключился.
Это потом он станет бегать ежедневно в больницу, скандалить, требовать свиданий, и, в конце концов, добьется разрешения сидеть с сыном ежедневно часами, прижимая его к груди по методу «кенгуру». Будет ругаться с Марфой, требуя чтобы не ленилась, и сцеживалась побольше, а то ребенку там суют всякие мерзкие смеси, и ему от них плохо. Станет обсуждать с нами всякие мелкие и крупные победы – уменьшили режим ИВЛ, сняли совсем – задышал сам, отключили капельницу, убрали зонд – начал глотать, достали из инкубатора… Но пройдет еще много-много дней, пока мы все увидим Глебушку, нашего самого-самого младшего брата, не на экране мобильника, а воочию, и сможем, наконец, к нему прикоснуться.
К этому времени все уже будут знать, что глаза у Глеба зеленые – непонятно, в кого, нос с горбинкой, как у Оскара, а волосы черные, как смоль, и гладкие – как у мамы.
Первую порцию молозива сцедила для брата я, сидя в приемнике роддома для недоношенных, и дожидаясь, когда Лика выйдет ко мне, и все расскажет. А что? Молозиво ведь есть где-то с двадцатой недели. Правда, его мало – за полтора часа мне еле удалось выдоить из себя жалких пять миллилитров.
– Ну что ж, – сказала Лика, входя и стягивая с волос бандану. – Чудный мальчик, 900 грамм, 35 сантиметров. Пара порций сурфактанта, так он, глядишь, у нас и дышать сам начнет. Словом, есть шанс, что все будет хорошо. Настя, ты чего?!
Но я ничего не могла с собою поделать. Слезы лились из меня ручьями, потоками, во мне точно открыли кран.
Впрочем, девочка на ресепшене деликатно отвернулась, а Лики я не стеснялась. Лика была своя. Почти как сестра. Почти как мама.
Меня к брату не пустили. Тут даже Лика ничего не смогла поделать. Пришлось довольствоваться наспех сделанным ею смазанным снимком.
Прошла санитарка с полным ветром воды, попросила всех сидящих поднять ноги, и стала быстро елозить тряпкой под стульями. Я сидела с поднятыми ногами, не переставая плакать.
– Девушка! – сочувственно сказала она мне. – У нас тут с утра священник придет, и всех стремных младенчиков покрестит. Хочешь, и твоего покрестит тоже? Ты только записочку с именем оставь медсестре в приемном.
Но я помотала головой. Лика же сказала, что все будет хорошо. А Лике я верила больше, чем Б-гу.
К тому же и отец у ребенка еврей.
Ждать было больше нечего, и я собралась домой. По лестнице мимо меня вихрем пронеслась бригада из отделения пересадки, помахивая контейнерами.
В метро было сумрачно и душно. Казалось, даже на пересадочных станциях резко убавилось освещение. Немногочисленные пассажиры на скамейках вокруг казались не живыми людьми, а картонными фигурками, частью невесть кем придуманной и топорно исполненной декорации.
У выхода к монорельсу стояли менты, и проверяли у всех паспорта. Мой их не заинтересовал.
Дома меня ждали опрокинутые лица взрослых и плач детей – Таня впервые в жизни осталась без своей порции грудного молока, а Света плакала с ней за компанию. В глазах Варьки и Васьки застыло молчаливое недоумение. Я велела им собираться в школу, а Гришке и дяде Саше разбираться с похоронами – Оскар был явно неадекватен, и в тот момент ни на что не годился. Косте я велела подождать – у меня не было сил с ним общаться. Казалось, его прикосновения причиняют боль. От принесенного им чая я отказалась.
Крепко обняв Марфу, я ушла с нею вместе плакать. В самую дальнюю, дедову комнату. Туда, где, плотно закрыв глаза, можно было вообразить, что сейчас лето. Траву только что скосили, и вокруг все спокойно и хорошо.
*
Хоронить то, что осталось от мамы, собралась чуть не вся Москва.
Приехало столько людей, что, конечно, на нашем Яхромском кладбище места не хватило и половине. Большинство осталось за воротами. Казалось, весь склон кладбищенского холма усыпан людьми, пришедшими проводить нашу маму.
А между тем был мороз, хотя солнце вроде как тоже было. Во всяком случае, снег так сверкал, что глазам становилось больно. Приходилось прикрывать глаза от этого блеска, стараться смотреть только прямо перед собой, и все равно, стоило зазеваться, как опять глаза начинали слезиться. Кроме того, было ужасно скользко. Мы с Костей шли осторожно, поддерживая друг друга под локоть. Со стороны, наверно, смотрелось очень комично.
Было множество речей, но я ни одной не запомнила, точнее они все слились для меня в одну: «Редкий, необыкновенной души человек, невосполнимая для всех потеря, людей, как она, не бывает, других таких больше нет…» Одним словом, ничего нового.
Я двигалась просто на автомате. В голове крутилось одно: как их всех рассадить, и чем угостить. Дом-то все-таки не резиновый, хоть иногда и кажется.
Но все как-то утряслось. Во-первых, далеко не все пошли к нам домой – мы, правда, никого особо не звали, но и не гнали никого тоже – кто пришел, тот пришел. Сидячих мест, конечно же, для всех не было, да со стоячими была напряженка, но мы, ничего, как-то справились. Даже умудрились каждого пришедшего оделить бумажным стаканчиком с водкой, вином или горячим чаем – кто чего пожелал, и вроде как никто не ушел обиженным.
Я, Марфа, Наташа и даже Васька с Варькой, бегали с чайниками и бутылками с кухни на крыльцо и обратно. Дверь вообще не закрывалась. Я боялась, что дети простынут на сквозняке, но где там, они ж у нас закаленные.
Повитухи, знахари и лекари всех мастей. Борцы за правду и справедливость. Люди, которых судьба свела с мамой когда-то в одном «воронке» или в одном «обезьяннике». Женщины, у которых мама принимала роды. Мужчины, которых мама любила, и которые любили ее. Подобранные и пристроенные мамой в разные годы бомжи и сироты. Сбежавшие из дому дети и подростки. Инвалиды войн и беженцы из горячих точек. Всякие-разные-прочие бывшие и настоящие горемыки. Многие нынче в богатых шубах, солидные и преуспевающие. Некоторые до сих пор в дурно пахнущем тряпье и чужих обносках.
Пожалуй, все пришли, кто был когда-либо спасен и обласкан мамой. Кроме, разве что, бесчисленных, прошедших через ее руки бездомных собак, кошек и лошадей. Да птиц, которых маме удалось когда-то выкормить из беспомощных, выпавших из гнезд птенцов.
Хотя птиц, между прочим, немало летало в тот день за окном. Несмотря даже на мороз. Может, и были среди них те самые, но кто же их разберет. Птицы-то ведь все на одно лицо.
Пришло также много чудиков и сумасшедших.
Косматый старик в овчинном тулупе поймал меня на крыльце, обнял и стал целовать, приговаривая: «Ах, Настенька, пропало, пропало будущее поколение! Я старый, помру скоро, а мамы-то твоей больше нет! Кому теперь продолжать мое дело жизни? Кто, кроме меня, да нее, да может еще пары-тройки людей понимающих, станет, скажем, окунать новорожденных в прорубь? А ведь только так, только через шок, можно пробудить в человеке скрытые возможности! Ты знаешь, что такие дети способны потом на самые невероятные вещи? Некоторые из них могут даже летать! Невысоко конечно, недолго, но ведь это только начало! Ах, нынешняя молодежь, такие все трусы, ведь они тени своей боятся! Никак не поймут, что только так, только радикальные меры, что без них человечество обречено вечно топтаться на месте…»
Я еле вырвалась, и уже с безопасного расстояния заверила старейшего русского акушера, что, на мой взгляд, он в прекрасной форме, и еще много-много лет будет с нами. Какие его годы? Ну, подумаешь – сто сорок семь! Наверняка он еще успеет воспитать себе достойную смену.
– Думаешь? – он смахнул набежавшую на глаза слезу, и пытливо уставился на меня: – А скажи-ка, Настенька, вот ты сама – не пробовала никогда летать? Мы ведь с твоей мамой когда-то тебя…
Но мне некогда было разговаривать. Новые гости спешили в дом, а старые из него выходили.
*
Когда в доме столько детей, тут некогда горевать. Ведь все время вокруг крутятся дети. Одних надо будить и провожать в школу. Другие в это время лезут на стол или подоконник, и их надо срочно стаскивать, пока не свалились. Просыпаются третьи, которых пора кормить сцеженным молоком из бутылочки. И все это время четвертые беспрерывно торкаются у тебя внутри, заставляя то и дело хвататься за живот и выдыхать: «Ух!»
Так что плакать у меня времени не было. Разве совсем уж глубокой ночью, в подушку.
А вот есть я не могла. В горле стоял постоянный ком, и я все сглатывала его, а он снова распухал, вызывая тошноту и полную невозможность даже смотреть в сторону еды.
Впрочем, Костя это быстро просек, и научился с этим справляться. Начал кормить меня с ложечки. Костя это называл: «кормить мальчика». Мол, дело тут вовсе не во мне, а в мальчике, который сидит у меня внутри. Мол, хорошо, я не хочу есть, но я-то большая. А мальчик маленький, ни в чем не виноватый, и наверняка голодный. Удивительно, но то ли вся эта чушь срабатывала, то ли просто мне хотелось побыстрей отвязаться от Кости, но я послушно открывала рот, и проглатывала очередную ложку, даже не вдаваясь чего, и не прерывая при этом какого-нибудь основного занятия – одевания, купания, шлепанья, укладывания спать. Так Костя и бегал за мной по всему дому, пока тарелка не пустела.
Поил меня Костя тоже из ложечки. Ну, то есть он пытался сперва из чашки. Но я то и дело, борясь с подступающими слезами, непроизвольно стискивала изо всех сил зубы. И вот, таким образом, однажды нечаянно откусила, и чуть не проглотила край чашки.
Переодеваться на ночь мне тоже казалось излишним. Так что, если б не Костя, я бы каждый вечер засыпала не только одетая, но даже и в обуви. Но он ежевечерне терпеливо раздевал меня, практически уже спящую, так и упавшую от усталости на кровать, в чем была. Утром же, ничего не поделаешь, приходилось одеваться обратно. Голой-то по дому не походишь – тем более, когда всюду дети.
На взрослых мне было как-то плевать. Они ведь уже большие, и сами могут о себе позаботиться. Могут и отвернуться, если им что-нибудь не нравиться.
На девятый день в доме собрались только самые-самые близкие. Надо было решать, как жить дальше. Хотя мне-то казалось – чего тут решать? Живем себе, и живем. Мама ведь и раньше часто куда-нибудь отлучалась. Ничего ведь, справлялись.
Когда все уже выпили, и закусили пирогом с капустой и творогом, испеченным лучшей маминой подругой тетей Верой, подняли первый вопрос – как теперь быть с детьми?
Под детьми подразумевались Варька, Васька и Таня. Мы, трое старших, вполне уже взрослые, и даже семейные, под это определение явно не подходили. А Глебушка, который боролся за свою жизнь в больнице, в расчет, похоже, и вовсе не брался.
– Я бы хоть сейчас взял к себе Танечку, – мечтательно произнес Алеша, нежно прижимая дочку к себе.– — Такая она лапушка, такая она моя! Да вот невеста моя ни в какую. Говорит, такой маленький ребенок такая большая ответственность! Нам же еще доучиваться надо, на ноги становиться. Не век же у родителей на шее сидеть. Так что… Но деньги я, конечно, буду на нее давать, как и раньше. Как только что заработаю, так сразу… Вы не думайте!
– Если тебе невеста позволит, – ввернул Гриша ехидно.
– Ой, да откуда она узнает! Я ей про заработки свои не говорю никогда ничего! Она так и думает, что у меня одна стипендия аспирантская есть. А у меня на самом деле и переводы, и редактура… – последние Алешины слова потонули в общем смехе.
– Короче, бедный ты, и бедная невеста твоя. При таком раскладе, помоги Г-дь вам обоим. Но только с чего ты взял, что кто-нибудь отдаст тебе Таню? – сказала я, когда все, наконец, отсмеялись.
– Ну, у нас-то с женой все проще, – немедленно перебил меня Ваня. В своем черном концертном костюме он казался гораздо старше, суше и строже того отвязного музыкант в джинсах и рваном свитере, что вечно сваливался к нам, как снег на голову, без предупреждения. – Она, конечно, тоже не в особом восторге, но раз уж так вышло… Короче, я готов хоть сегодня увезти Васю с Варей. Пусть только кто-нибудь соберет быстренько их вещи.
Близнецы изумленно уставились на него.
– Жить у вас? Но это же еще дальше от школы! – ахнула Варя.
Ванина семья жила в фешенебельном коттеджном поселке под Звенигородом.
– Да, как же наша школа? Ты сможешь нас туда по утрам возить? – спросил Вася отца.
– Школа? Хм-м, – Ваня явно не был готов к такому вопросу. – Ну, школу вам, по всей вероятности, придется сменить. Ничего, не страшно, будете ходить в другую. Правда, у нас в поселке дети в основном еще маленькие, поэтому своей школы еще нет, но наверняка ж есть какие-нибудь в Звенигороде.
– Какие-нибудь школы есть и в Яхромке, – заметила я. – Но мама хотела, чтобы Варька и Васька учились в этой. Там они и будут учиться. И вообще, я не понимаю – у нас что тут, аукцион? Почему вообще встал этот вопрос? Куда и зачем должны идти дети? Чем им здесь плохо? У нас же есть дом! Разве мы все, совместными усилиями, не в состоянии заменить им мать? Которая и при жизни (заметим в скобках), довольно часто отсутствовала? Что вообще так уж прям изменилось с маминой смертью?
За столом воцарилась полная тишина.
– Настя, голубушка, – осторожно начала тетя Вера. – Ты, похоже, не до конца понимаешь. Речь ведь не о том, чтоб дня два-три продержаться без мамы, выполняя ее руководящие указания. – Она ласково положила руку мне на плечо. Руку сразу же безумно захотелось стряхнуть, но я удержалась. – Ты пойми, по принципу «давайте просто жить, как и жили», у вас не получится. Рано или поздно кому-то придется брать на себя всякие основополагающие решения. Трубу, например, какую прорвет, или из малых кто-нибудь заболеет. Всякое ведь может случиться, и случается, поверь мне, изо дня в день. Так что тут с бухты-барахты решать нельзя. Это ж о взятии на себя полной ответственности за всё и вся разговор. И домище это старый уже, того и гляди развалится! И дети еще маленькие – кто за ними станет изо дня в день смотреть? Ты, что ль, все на себя возьмешь? Так у вас у самих с Костею мал мала меньше! Еще поглядим, как вы сами-то управитесь, – тетя Вера ласково усмехнулась этакою всепонимающею усмешкой. – Александр Семенович, вы что скажете? Вы же у них тут теперь за старшего?
Этого еще только не хватало! Черт знает что! Это чтоб дядя Саша распоряжался моим братом и сестрами?! Решал судьбу нашего дома?! Да если б не Марфа, его самого отсюда давно бы надо под зад коленкой!
Я заозиралась по сторонам в поисках поддержки. Но вокруг все отворачивались и молчали. Гришка не сводил глаз с Наташи. Марфа опустила голову и уставилась в пол, машинально покачивая ногой люльку с малышкой.
Я переводила взгляд с одного на другого, пока, наконец, не уперлась. Да, поседел за последние дни, как лунь, черты еще больше заострились, и руки беспрерывно дергаются. Ну и что из этого? Умом-то, надеюсь, еще не тронулся?
– Оскар, ты чего молчишь? Ты разве не старше дяди Саши? И разве не ты в последние годы был маме почти что мужем? Мы все помним, как ты еще недавно звал ее замуж! Так разве из этого не следует…
– Что, Настя, что из этого следует?! Я здесь даже не прописан. Ума не приложу, куда забирать из больницы Глебушку. И мне же еще потом поднимать его одному, без матери. Нет уж, решайте как-нибудь без меня.
Краем уха я слышала, как запинаясь, и через слово откашливаясь, заговорил дядя Саша. Что дом, мол, конечно, еще постоит, если особенно его как следует подлатать. Чем сам дядя Саша в ближайшее время и займется. Но все-таки лучше дом этот, при сложившихся обстоятельствах, продать, и выделить каждому из детей его долю. Тем более, что и мне, и Грише есть где в Москве жить. Дом большой, стоит, по его, дяди Сашиным прикидкам, немало. Тем более, считай в двух шагах от Москвы, да и участок при нем не маленький. Они с Марфой на ее долю и его, дяди Сашины сбережения, купят себе небольшое жилье, и тогда, пожалуй, смогут взять к себе на какое-то время Танечку. Тем более, если Алексей станет, как и обещал, помогать материально. Что же касается Васи с Варей, то ведь у них, в самом деле, есть отец. Вот он, тут сидит, и ни от чего не отказывается… Оскару же, как отцу Глеба, тоже, разумеется, кое-что от продажи дома перепадет… Кто ж говорит, Аглая Михеевна для своих детей хотела бы, конечно, иного. Но ведь ее больше нет, так что придется нам с вами как-нибудь…
Замечательно! И все, главное, молчат. Да что они тут все, белены объелись?!
Нет, пора кончать этот балаган!
– Дорогие гости! – громко, скоморошьей скороговоркой, затараторила я, вскакивая с места. – А не надоели ли вам хозяева?! Дверь-то во-он там – я сделала театрально-широкий жест. – Скатертью дорога! Смотрите, не заблудитесь! Дядь Саша, – обернулась я уже непосредственно к предыдущему оратору. – А ты-то у нас с каких пор прописался? Брак у вас, и верно, зарегистрирован, но документы-то на прописку вы еще только подали? Так ведь я, как я теперь ответственный съемщик, могу же и передумать!
В общем, так. Дом этот мой – ну, раз вы все так легко от него отказались. И Варька с Васькой мои! И Таня тоже моя! А все остальные пошли нах, духу вашего чтоб здесь не было! Нечего тут больше решать! Поминки окончены, все свободны, всем спасибо! – Тут воздух у меня в легких кончился, я закашлялась, захлебнулась, несколько раз судорожно вздохнула, чувствуя, как перед глазами у меня все плывет. Однако я героически устояла на ногах, вовремя схватившись за край стола.
Варька после рассказывала, что лицо мое в тот момент побагровело, глаза грозно выпучились. Вид, короче, был устрашающий. Специально народ пугать.
Все, действительно, испугались. И никто больше не стал со мной спорить.
*
Совсем замять трагедию у платформы «Сортировочная» было невозможно. Слишком уж много пострадало людей, да не одних только безвестных обитателей сектора Д, а, наоборот, людей солидных и широко известных, в том числе и за рубежом. Среди погибших были ученые, журналисты, художники. Была истинно золотая молодежь – славные дети славных и у нас, и за границей родителей. И просто крупные блоггеры, чье исчезновение из сетей не могло пройти незамеченным.
По сети в неимоверных количествах расползались фотографии – от любительских, мутных из-за недостатка света, до цинично-подробных профессиональных снимков. Ребенок, застреленный на руках у матери. Парень, поддерживающий убитую девушку, с мертвым запрокинутым лицом и аккуратной дырочкой посередине лба. Истерзанные тела упавших и растоптанных толпою людей. Все это, разумеется, дополнялось многочисленными пояснениями и рассказами очевидцев.
В государственных СМИ как-то невнятно оправдывались. Мол, ночью у Сортировочной ситуация просто вышла из-под контроля. В чем, конечно, немалую роль сыграла абсолютно никем не запланированная гибель нашей мамы. Никто, мол, не ожидал от случайного скопления случайных людей столь ожесточенного сопротивления властям. Никто не думал, что начнется стрельба, и что стрелять будут так много, да еще и на поражение.
В общем, как и всегда в таких случаях, истинным виновником оказался никто. И с него наверняка со всей строгостью спросили!
Анджела и Давид со своими поселились у нас во флигеле. Обогревались невесть где добытой буржуйкой, мылись в тазике, за все без конца благодарили, и уверяли, что после сектора Д это прямо-таки царские условия.
Все бывшие обитатели сектора Д получили какой-то временный, шаткий и ненадежный вид на жительство. Вернуть их назад за колючую проволоку никто так ни разу и не пытался. Несмотря на это они почти не выходили из дому, а выходя, старались передвигаться незаметно, как тени, наматывая на лица шарфы и поднимая выше воротники. В основном они обивали двери разных посольств, делая все возможное, чтобы быстрее раздобыть визу и оказаться как можно дальше от наших негостеприимных краев.
Многие подавались обратно на свои Родины, особенно если причины переезда в Москву были в свое время чисто экономическими.
Однажды, проходя мимо маминой комнаты, я краем уха слыхала, как Оскар давал интервью по скайпу. Хорошо поставленным учительским голосом, Оскар заверял невидимых собеседников, что лично он не видит в сложившейся ситуации вообще никакой проблемы. Москва ведь этих людей давно уже де-факто вместила. Осталось лишь по-человечески их разместить. А что? Они, между прочим, вполне заслужили. Многие проработали на город больше десяти лет почти забесплатно. Им теперь по всем законам положено льготное государственное жилье…
Кто-то из олигархов, чьи люди, по слухам, были лично причастны к происшедшей трагедии, предоставил в распоряжение беженцев несколько корпусов своей личной застройки в Ю. Бутово. Туда, в конечном итоге, заселили тех, у кого не нашлось ни физических, ни моральных сил уезжать и начинать где-то в дальних краях жизнь сначала. Таких, впрочем, оказалось не слишком много.
Большинство предпочло воспользоваться помощью Красного Креста и прочих международных человеколюбивых организаций.
Так что в одно прекрасное утро мы провожали Анджелу с Давидом и их друзьями на самолет в Америку. Мы плакали, целовались, желали друг другу удачи и счастья. Обещали не терять друг друга из виду, обменивались контактными телефонами.
Самолет исчез в облаках, и лично для меня история сектора Д на этом закончилась.
*
Отпуск, взятый за свой счет в связи с семейными обстоятельствами, плавно перетек у меня в начало декрета. Хотя вставать приходилось по-прежнему в дикую рань, чтобы проводить в школу Ваську и Варьку.
Они, впрочем, страшно выросли и повзрослели за последнее время. Да так, что с какого-то момента стали встречать меня утром на пороге кухни уже одетые, умытые, вполне собранные, и со словами: «Ну что, Настя, мы пошли!» – выскальзывать за порог. С этой минуты до их возвращения мне оставалось только молиться, чтобы с ними ничего не случилось.
Главной моей новой обязанностью стало теперь всегда и все знать. Кто что поел, кто во что оделся, когда и чем кормили собак и кошек, кто ходил в магазин и что оттуда принес. Исходя из этого я строила планы – кто что будет есть завтра, кто что наденет, чем и когда кормить живность, когда, кому и за чем снова идти в магазин.
Не то, чтоб я сама ничего не делала, а только отдавала распоряжения, конечно же нет. Но делала-то я только часть необходимых по дому дел, а вот держать в голове их приходилось все. И, можете мне поверить, это было совсем не просто. Особенно, если в тщательно разработанный план вклинивалось вдруг что-нибудь непредвиденное. А оно вклинивалось, сцуко, причем сплошь и рядом.
То стиралка сломается, то ванная засорится, то собака вывихнет лапу. У Светы обнаружилась аллергия на кучу того, что мы обычно едим, приходилось исхитряться, выдумывая ей отдельное ото всех меню, а потом еще отслеживать, чтоб она не таскала с чужих тарелок то, чего ей нельзя. У Тани был ложный круп, и я чуть не сошла с ума, когда она прямо у меня на глазах вдруг стала задыхаться. Слава Б-гу, Лика появилась довольно быстро, и немедленно, с порога, сунула хрипящему, посиневшему ребенку три белых шарика в рот.
– Это что, гомеопатия? – недоверчиво протянула я. – Я как-то в нее не очень…
– Какая тебе разница – что? – усмехнулась Лика. – Главное – действует.
Действительно, за пару секунд нашего разговора дыханье у сестренки выровнялось и щеки порозовели. Поэтому я воздержалась от дальнейших вопросов, и добросовестно закидывала ближайшие два дня татьянин круп шариками.
– А Глебу в больнице ты тоже что-нибудь такое даешь? И благодаря этому он все еще жив?