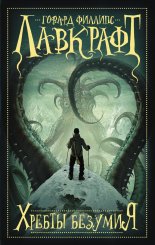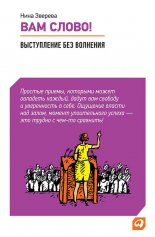От империй – к империализму. Государство и возникновение буржуазной цивилизации Кагарлицкий Борис
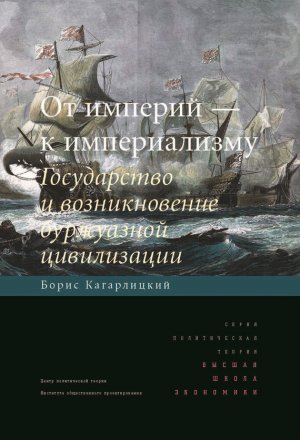
Захватив в середине XVII века значительную часть португальских владений, голландские власти активно принялись развивать там производство товаров, на которые имелся спрос. В конечном счете за Голландией осталась большая часть бывшей португальской Индийской империи. Новые хозяева территорий действовали гораздо эффективнее, уделяя куда больше внимания их развитию. Коммерция была по-прежнему главным приоритетом, но вместо того, чтобы контролировать торговлю в интересах казны, представители VOC стремились поощрять ее в интересах буржуазии.
Разница между португальской и голландской колониальными империями состояла в том, что у португальцев государство превращалось в коммерческое предприятие, тогда как с приходом голландцев, коммерческие компании стали брать на себя функции государства. Можно сказать, что голландцы, унаследовав политические структуры португальской Ост-Индии, наполнили их новым классовым содержанием. Компания, будучи сама до известной степени частным предприятием, стремилась к монопольному контролю не меньше, чем португальское правительство, но плоды этого монополизма пожинали ее акционеры, которые по совместительству были еще и правящей олигархией в Соединенных провинциях. Изменилось не столько соотношение государственного и частного предпринимательства, сколько значение и структура самого государства.
Насаждая новые и расширяя существующие производства в своих колониях, голландские правители внимательно следили за тем, чтобы из-за роста предложения не снизились цены на поставляемые ими товары. До начала индустриальной революции максимизация прибылей происходила не за счет расширения производства, а за счет монополизации рынка. Как отмечают историки, «голландцев в основном заботило не то, как увеличить производство пряностей в Малакке, а, наоборот, то, как ограничить доступ к ним и монополизировать поставки»[515].
То же самое наблюдалось и в других колониях. Заняв господствующие позиции на Яве, голландские колонизаторы принуждали крестьян к массовому распространению именно тех культур, на которые был спрос в Европе, а затем в виде натурального налога безвозмездно изымали у них часть урожая. По отношению к крестьянской массе действия голландских колонизаторов представляют собой идеальный пример принуждения к рынку, когда переориентация производства с обслуживания местных нужд на экспорт осуществляется под мощным административным давлением. Такая политика с небольшими изменениями продолжала проводиться в Индонезии даже в XIX веке, когда власть перешла от национализированной в 1800 году Ост-Индской компании к голландскому правительству. В 1829 году нидерландскими властями была принята «система принудительных культур». Согласно этой системе, «в принудительном порядке яванские крестьяне обязаны были выращивать сельскохозяйственные культуры, необходимые Нидерландам для экспорта. Затем эта продукция должна была обрабатываться на принадлежавших нидерландцам примитивных предприятиях, сдаваться на правительственные склады и реализовываться нидерландской казной»[516]. Как отмечает российский историк, переняв функции, ранее принадлежавшие Компании, голландское государство «становилось одновременно и плантатором, и купцом»[517]. Однако торговые прибыли, обеспеченные государственным принуждением, приватизировались через систему частных коммерческих предприятий, осуществлявших торговлю конечной продукцией на европейских рынках.
К началу XVII века голландская буржуазия господствовала на мировом рынке, однако эта гегемония была коммерческой, а не политической. Причем голландское торговое господство не только не стимулировало подъем экономики в других европейских странах, но и воспринималась там как своего рода коммерческий паразитизм. Высокие цены, искусственно удерживавшиеся голландскими купцами, сдерживали развитие рынков на Западе. Показательно, что коммерческий взлет Голландии совпадает с началом застоя в мировой экономике, а ее упадок — с новым периодом мировой экономической экспансии.
Описывая расцвет голландской республики, Арриги и некоторые другие авторы «миросистемной школы» исходят из предпосылки, что экономическая гегемония автоматически порождает политическую и культурную. Однако это далеко не так. Экономическую силу надо еще уметь конвертировать в политические преимущества. Как показал опыт Древней Эллады, это далеко не всегда получалось. То же самое относится и к голландскому торговому капитализму, который оказался не только не в состоянии успешно решить эту задачу, но и осознанно поставить ее.
Разумеется, Голландия обладала серьезной военной мощью, особенно на морях, равно как и политическим влиянием. Однако она отнюдь не в состоянии была диктовать свои условия другим державам, да и не пыталась это делать. Франция, Австрия и даже деградирующая Испанская империя были несравненно сильнее в военно-политическом плане. Собственную территорию Соединенным провинциям постоянно приходилось защищать от вторжений — сначала со стороны Испании, а затем со стороны Франции. Свои финансовые возможности в международной политике нидерландская буржуазия также использовала весьма скромно.
На первый взгляд объяснение подобного положения дел лежит на поверхности. У Нидерландов не хватало ресурсов для масштабной внешней политики. По территории и численности населения Республика существенно уступала основным европейским державам, не богата она была и минеральными ресурсами, а гавани ее были мелководными, что затрудняло строительство и базирование крупных боевых кораблей. Однако даже Британская империя в период своего расцвета не полагалась на свои силы исключительно, а выстраивала систему коалиций, с помощью которых она в течение 250 лет поддерживала выгодное для себя равновесие в Европе. На протяжении этого времени Британия ни разу не воевала на континенте в одиночку, и ни разу не проиграла здесь вооруженного конфликта (единственной неудачей была война за независимость США, в ходе которой почти не было боевых действий в Европе). Значительная часть средств государственного бюджета шла на поддержку союзников — русских, пруссаков, ганноверцев, которые за счет британских денег могли содержать собственные армии. Как замечает английский военный историк Марк Урбан (Mark Urban), в августе 1704 года, когда герцог Мальборо одержал сенсационную победу над французами под Бленхаймом (Blenheim), сделав реальностью английское военное присутствие на континенте, из 66 его пехотных батальонов только 14 были британскими. «Мальборо, как позднее Веллингтон и Монтгомери, стоял во главе мощной и победоносной армии, значительную часть которой составляли иностранцы. Эта стратегия, позволявшая Британии выставлять на поле боя многочисленные войска, но не тратиться на их содержание и обучение в дни мира, впервые была использована Мальборо»[518]. Справедливости ради надо, впрочем, заметить, что британские генералы, не всегда доверявшие своим союзникам, на самые опасные и ответственные направления все же ставили собственных солдат, а не иностранцев.
Данная система коалиций постоянно эволюционировала в соответствии с принципом — у Британии нет постоянных друзей, есть только постоянные интересы. В видоизмененной форме она не только просуществовала до середины XX века, но и была унаследована Соединенными Штатами, когда они заменили старую империю в роли гегемона.
Джованни Арриги представляет политику Соединенных провинций XVII века как полный аналог позднейшей британской политики, рисуя впечатляющую картину голландской дипломатической гегемонии. Он утверждает, будто именно правящие круги Амстердама и Гааги сформировали в Европе антигабсбургскую коалицию, обучили ее армии и выработали ее стратегию. По его словам, Нидерланды еще до начала Тридцатилетней войны «установили духовное и нравственное руководство над династическими государствами северо-запада Европы», их дипломатия выработала «предложения по общей реорганизации европейской системы правления», которые «находили все больше сторонников среди европейских правителей, пока наконец Испания не оказалась в полной изоляции»[519]. Для большей убедительности этот тезис повторяется исследователем неоднократно, возможно, потому, что в подтверждение его не приводится ни одного конкретного примера, если не считать столь же общих слов Броделя про то, что «нити дипломатии связывались и распутывались в Гааге»[520]. Однако цитируя французского историка, Арриги тактично упускает из вида контекст данного высказывания: Бродель отнюдь не утверждает, будто именно Голландии принадлежала решающая роль в событиях Тридцатилетней войны, он лишь осторожно намекает, что благодаря закулисной деятельности дипломатов, эта роль была гораздо важнее, чем принято думать, тогда как «мы, историки, видим на первом плане лишь Габсбургов или Бурбонов»[521].
Французский автор XIX века Фредерик Ансильон также замечает, что Голландия вела активную дипломатическую деятельность во время Тридцатилетней войны, «ее политические комбинации охватывали всю Европу»[522]. Однако при ближайшем рассмотрении эти комбинации оказываются мелкими тактическими интригами, главная цель которых — при помощи взяток — использовать второстепенных германских князей для обеспечения безопасности Голландии. К тому же эти интриги, будучи крайне близорукими и непоследовательными, терпят неудачу буквально на каждом шагу. В начале Тридцатилетней войны голландцы потратили значительные средства, поддерживая Пфальцграфа Фридриха V, который принял чешскую корону после изгнания из восставшей Праги представителей Габсбургов. Пфальц был стратегически важен для Голландии, поскольку угрожал «Испанской дороге» — системе коммуникаций, связывавшей Южные Нидерланды с испанскими владениями в Италии. Перебрасывать в Южные Нидерланды по морю войска и деньги было невозможно, ибо там господствовал флот Соединенных провинций. В итоге, однако, не только не удалось перерезать «Испанскую дорогу», но и сам Фридрих, не сумев удержать за собой чешскую корону, был изгнан из своих наследственных владений, а Пфальц лишен статуса курфюршества, который перешел к Баварии. Крах Фридриха произвел деморализующее воздействие на протестантский лагерь в Германии еще и потому, что в решающий момент ни голландцы, ни англичане не захотели поддержать Пфальцграфа своими войсками. В Лондоне это вызвало политический скандал, поскольку Фридрих был женат на Елизавете Стюарт, дочери короля. Английский историк Брендан Симмс (Brendan Simms) считает, что именно внешнеполитические провалы Стюартов стали основной причиной революции, а позднее они же привели ко вторичному изгнанию Стюартов в 1688 году[523]. Аргументируя свою позицию, Симмс ссылается на многочисленные выступления и памфлеты критиков монархии, посвященные неудачам, некомпетентности и непоследовательности королей. Однако не следует забывать, что внешнеполитические поражения любого правительства являются наиболее удобной мишенью для оппозиции. Из этого вовсе не следует, что нанося власти удар в самое уязвимое место, критики власти здесь же видели и главную проблему, основную причину своего недовольства. Ключевые противоречия между Стюартами и парламентом лежали все же в сфере внутренней политики. Тем не менее очевидно, что в английском обществе XVII века шла серьезная дискуссия по вопросам внешней политики, затрагивавшая как ее стратегические, так и моральные аспекты. Ничего подобного мы не находим в Гааге, где после провала одной тактической комбинации просто начинали другую.
Соединенные провинции, хотя и заключали военные союзы, никогда не пытались систематически строить собственную систему коалиций. Во время войн они полагались в значительной мере на английскую и французскую дипломатию, стараясь ничего не давать им взамен, пока обе эти страны не оказались в числе ее противников. Не желали они и поддержать военные усилия союзников собственными контингентами, что, зачастую, оборачивалось поражениями. Политическая гегемония предполагает определенную ответственность, включая готовность лидирующей державы не только отстаивать свои непосредственные интересы, но и защищать своих союзников, если надо силой оружия, решая общие задачи коалиции. Напротив, правящие круги Соединенных провинций демонстрировали упорное нежелание идти на какие-либо жертвы и риск ради интересов воевавших против Габсбургов немецких протестантских князей, шведов или датчан, предполагая, будто все вопросы можно решить с помощью денег.
Причину подобной близорукости надо искать в самой природе голландской буржуазии, которая, занимаясь торговым посредничеством, имела единственный стратегический интерес — держать все рынки открытыми. Ей периодически приходилось бороться с иностранной конкуренцией на морях и соперничать с другими державами в колониях, но и это соперничество не предполагало долгосрочного стратегического конфликта. Как только военные действия затихали, необходимо было налаживать отношения с бывшим противником, дабы получить доступ к его рынку. Даже с Испанией и Португалией голландцы старались торговать при первой же возможности. При таком подходе трудно было выработать стратегические приоритеты, необходимые для долгосрочной политики.
Коммерция в Нидерландах заменяла стратегию, идеологию, честь и даже патриотизм. Доходило до того, что Провинции отказывались финансировать военные усилия Республики, если не видели в них для себя прямой коммерческой выгоды, а в самый разгар войны за независимость голландские банкиры подрабатывали перевозкой серебра в оккупированный испанцами Антверпен. Бизнес оказался весьма выгодным: серебро было позарез нужно оккупантам, чтобы финансировать военные операции против Голландии. А в условиях, когда «Испанской дороге» угрожали союзные с голландцами французские армии, неприятель готов был подобные услуги щедро оплачивать.
Сухопутные силы Республики, прекрасно организованные и вооруженные, принадлежали к числу сильнейших армий своего времени, однако практически никогда не использовались для стратегических военных операций в Европе. Джону Черчиллю, герцогу Мальборо (John Churchill, Duke of Marlborough), во время войны за Испанское наследство пришлось прибегнуть к обману, чтобы добиться от правительства Соединенных провинций разрешения для возглавляемой им англо-голландской армии совершить марш в Южную Германию. Он просто скрыл цель похода, сделав вид, будто собирается незначительно сдвинуть свои позиции к югу. Но даже на таких условиях голландцы не соглашались. Английскому генералу не оставалось ничего, кроме прямого шантажа: «В бесконечном споре с этими склочными, скаредными, ограниченными людьми Мальборо терял терпение и не мог уже удерживаться в рамках дипломатического такта. Он просто объявил им, что если они не согласятся с его предложением — выдвинуть на Мозель полноценную союзную армию, — он уведет английские войска с театра военных действий, оставив голландцев наедине с неприятелем. Он тряс перед ними документом королевы Анны, дававшим ему такие полномочия»[524]. Наконец, он добавил, что армия, собранная на деньги английского парламента, готова выполнять свои союзнические обязательства, но не служить частным интересам голландских правителей. Последние, поколебавшись, вынуждены были согласиться с требованием англичанина, и, в конце концов, союзная армия двинулась на юг, где Мальборо одержал историческую победу под Бленхаймом (Blenheim)[525].
Со свойственной ему проницательностью английский генерал очень точно понял суть дела. Голландская олигархия воспринимала армию не как средство для решения стратегических и национальных задач, а как своего рода вооруженную охрану, отлично обученную и снаряженную, но предназначенную исключительно для защиты имущества и коммерческих интересов местного купечества. Отправить войска за тысячи километров в Индонезию или Бразилию ради своих деловых интересов или даже ради грабежа было для них куда более естественным, чем оказать помощь собственным союзникам по европейским коалициям, сдвинув войска на несколько сот миль к югу.
Если Арриги представляет единичные и случайные (часто противоречащие друг другу) дипломатические решения в виде искусной и комплексной внешнеполитической стратегии, то военная реформа принца Морица Нассауского представляется ему не просто как серия мер, повысивших эффективность армии (главным образом — во время осадных работ), но как часть большого стратегического плана. «Всеми силами поддерживая освоение этих новых методов своими союзниками, Соединенные провинции создали равные условия для европейских государств, что стало предпосылкой для будущей Вестфальской системы»[526]. Однако для самого Арриги остается не совсем понятным, почему, добившись полного успеха во всех своих начинаниях, Нидерланды «никогда не правили системой, которую они создали. Как только была создана Вестфальская система, Соединенные провинции стали терять свой недавно обретенный статус мировой державы»[527].
Действительно, почему голландская олигархия, продемонстрировавшая столь выдающиеся стратегические способности в ходе Тридцатилетней войны, внезапно оказалась столь недальновидной? Это остается для Арриги абсолютной загадкой, которую он даже не пытается разрешить. Между тем понять причины упадка, постигшего Нидерланды в конце XVII столетия, очень просто, если только признать, что голландской политической гегемонии никогда и не существовало. Точно так же, как и Вестфальская система была задним числом придумана историками и политологами, стратегический план, приписываемый голландской олигархии, на самом деле был порожден ретроспективной фантазией теоретиков миросистемной школы, убежденных, будто коммерческая гегемония по определению не может существовать отдельно от политической.
Разумеется, голландские технологии, как военные, так и мирные, распространялись по всей Европе, но меньше всего это было вызвано целенаправленной работой государственной власти Республики. Приглашение голландских специалистов в XVII веке стало такой же «производственной необходимостью» для любого правителя в Центральной и Восточной Европе, как за полтора столетия до того приглашение итальянцев. Использование нидерландских технологий и экспертов за пределами страны началось в массовом порядке задолго до провозглашения независимости Республики, причем важную роль в этом сыграли как раз Габсбурги, которые уже в конце XV века использовали знания своих нидерландских подданных для развития других частей империи. После завоевания обширных владений в Америке испанские короли направили туда нидерландских специалистов, занимавшихся дренажными работами, строивших шахты, налаживавших типографии.
Даже восстание Соединенных провинций не изменило ситуации — испанские Габсбурги продолжали прибегать к технологиям и специалистам из Нидерландов на протяжении всего XVII века, только, естественно, опирались на остававшуюся у них под контролем южную часть страны. Строители из Нидерландов считались непревзойденными мастерами в создании фортификационных сооружений. Инженер из Нидерландов Адриен Боот (Adrien Boot) спроектировал и построил в 1615–1616 годах форт Сан Диего в Акапулько, предназначенный для отражения возможных голландских рейдов. Напротив, протестантские правители Скандинавии, король Франции и православный московский царь обращались за техническими знаниями в независимую северную часть Нидерландов. Особенно активно голландские специалисты работали во Франции, где их знания использовались как в военных, так и в мирных целях. Значительную роль в распространении нидерландских знаний, технологий и предпринимательской культуры играли эмигранты-кальвинисты из Южных Нидерландов, которые, покидая свою оккупированную испанцами родину, предпочитали направляться не в Голландию, а в другие страны — начиная от Дании и Швеции и кончая далекой Россией.
Там, где предоставлялась возможность, протестантские предприниматели из Нидерландов тоже работали на Габсбургов. Примером может быть Ганс де Витте (Hans de Witte), кальвинист из Антверпена, который руководил шахтами и металлоплавильными заводами имперского главнокомандующего Валленштейна в Богемии. Иными словами, он не просто занимался хозяйственной деятельностью во владениях императора, а «помогал организовать военную машину имперского главнокомандующего на ранних этапах Тридцатилетней войны. После убийства Валленштейна он утопился в пруду собственного сада»[528]. Большинство сотрудников де Витте также были протестантами из Нидерландов. Позднее, во время войны с Португалией, голландские купцы как ни в чем ни бывало «продолжали продавать португальцам военные припасы»[529].
Патриотизм и концепция национального интереса были неведомы олигархии Соединенных провинций[530]. Подобные идеи развивали политики и идеологи соседней абсолютистской Франции, начиная с кардинала Ришелье. Если Клаузевиц писал, что война есть продолжение политики другими средствами, то для голландской буржуазии XVII века война была прежде всего продолжением торговли.
Реальная история Тридцатилетней войны поражает как раз тем, насколько малую роль сыграла в ней Голландия, занятая главным образом укреплением своих торговых и колониальных позиций. Военные и дипломатические усилия Республики сводились к обороне собственных границ и торговых путей. В рамках антигабсбургской коалиции не только ее вооруженные силы не сыграли большой роли (что можно объяснить ограниченностью ресурсов), но даже финансовые и дипломатические усилия Гааги оказались на удивление малозначительными (если только не считать того момента, когда голландцы, развалив антигабсбургскую коалицию, спровоцировали агрессию Швеции против ущемившей их коммерческие интересы Дании). Возможно, Бродель и прав, говоря о значительной закулисной роли, которую играла Гаага как центр интриг, направленных против династии Габсбургов, но тайная дипломатия не может заменить активной внешней политики.
Голландская торговая гегемония в первой половине XVII века была неоспорима, но покоилась на слабом фундаменте. Развитие собственного производства отставало от роста торговли, военные силы, необходимые для контроля над морскими сообщениями, были ограничены, а олигархическая элита весьма скупо выделяла средства на все то, что не сулило немедленной прибыли. Успешное развитие английской буржуазии объективно превращало ее из союзника в соперника Голландии, причем торговая и промышленная конкуренция начала ощущаться еще до того, как разразились политические конфликты.
Голландцы пытались подорвать английскую торговлю в Африке, подарками и уговорами побуждая местных правителей закрыть доступ в свои владения для кораблей английской Африканской компании (Royal African Company). Монополия на живой товар, поступавший с берегов Гвинеи, должна была находиться в руках деловых людей из Амстердама и других нидерландских торговых центров[531]. Не менее жестко и агрессивно действовали они и в Азии. В 1623 году голландцы попросту истребили английских конкурентов в Амбойне (Amboina) на Бантаме. «Амбойнская бойня» (Amboina Massacre) не спровоцировала немедленных акций возмездия, поскольку Англия еще не чувствовала себя готовой к борьбе против Соединенных провинций. К тому же английское королевство все более погружалось во внутренний кризис, а начавшаяся в Европе Тридцатилетняя война складывалась неудачно для протестантов из антигабсбургского лагеря. Борьба требовала консолидации сил, в борьбе против Испании голландцы все еще считались союзниками. В Лондоне смирились с поражением, но ничего не забыли. Вооруженное противостояние с Нидерландами отныне воспринималось как нечто неизбежное и вопрос был лишь в том, когда, при каких обстоятельствах будет нанесен удар.
Голландская буржуазия имела больше капитала, чем английская. Она проявляла куда большую напористость и агрессивность, изгоняя своих португальских предшественников из Азии, вытесняя англичан и прочих европейцев с выгодных рынков, навязывая свои условия торговли местным купцам и правителям. Однако уже в начале XVIII века она начинает повсеместно уступать позиции британцам, которые оказались способны выработать и реализовать долгосрочную политическую стратегию на Востоке, тесно связанную с действиями, реализуемыми на Западе. Правители маленьких индийских государств сами приглашали англичан и позволяли им строить укрепленные центры, надеясь таким образом подорвать монополию голландцев.
Слабым местом голландской политики в Азии было то же, что являлось главным препятствием для установления гегемонии Нидерландов в Европе. Проблема была не в недостатке ресурсов, а в крайне узком и недальновидном их применении, а также в нежелании идти на компромиссы, жертвуя частью прибылей. Слабость Голландии, как ранее и Венеции состояла в том, что ее политика была чересчур буржуазна, чрезмерно подчинена краткосрочным и среднесрочным коммерческим интересам. Иными словами, голландская олигархия не выработала как раз тех черт политического и коммерческого поведения, которые необходимы для успешного осуществления гегемонии. Напротив, в Англии, где торжество буржуазии не было столь полным, а правящий класс представлял собой куда более сложную и порой неоднородную коалицию, могла вырабатываться гораздо более комплексная и разносторонняя внешняя политика, в том числе и учитывающая интересы многочисленных туземных посредников и партнеров[532]. Уже в XVII веке англичане на Востоке не просто вступают в борьбу с португальцами, а позднее с голландцами, но и опираются в этой борьбе на местных союзников. В 1622 году персидские силы участвовали в успешной английской экспедиции по захвату португальского порта Ормуз, а в 1623 году голландцы во время «Амбойнской Бойни» истребляли не только англичан, но и действовавших заодно с ними японцев.
Окончание Тридцатилетней войны, совпавшее с установлением республиканского строя в Англии, стало переломным моментом в отношениях между двумя морскими державами. Парламентский режим в Лондоне, окрепший в ходе гражданской войны против короля и его сторонников, теперь располагал мощной армией и лояльным, хорошо подготовленным флотом. Социальная энергия, высвобожденная революционным взрывом, удваивала силы англичан так же, как полтораста лет спустя это произойдет с французами, а в начале XX века — с русскими. Став во главе молодой английской республики, Оливер Кромвель был настроен решительно. Для Соединенных провинций начинаются тяжелые времена.
Приняв в 1651 году Навигационный акт, Лондон бросил вызов голландской торговой монополии[533]. Первый Навигационный акт был принят еще в 1381 году, однако к середине XVII века он был уже давно забыт. Решение, принятое Вестминстерским парламентом в 1651 году, оказалось своеобразной революцией в морской торговле, резко изменившей правила игры и соотношение сил между конкурирующими нациями. Отныне запрещался вывоз английских товаров из страны, иначе как на английских же кораблях. Импорт из любой части Азии, Африки или Америки должен был поступать на английских кораблях, а из Европы — на английских судах или на судах страны, из которой вывозится товар. Те же правила действовали и по отношению к английским колониям. Аналогичным образом регулировалась и торговля в северном море, а голландские рыбаки лишались права продавать свой улов в Англии. Чтобы воспрепятствовать использованию голландцами английского флага, было решено, что экипажи английских судов отныне должны состоять исключительно из англичан.
Положения Навигационного акта 1651 года были сохранены и развиты в Навигационных актах 1660, 1663, 1672 и 1696 годов. По выражению британского историка, эти акты преследовали «двойную цель: увеличить стратегическую мощь и повысить благосостояние страны через колониальную и морскую монополию»[534]. Не случайно уже в конце XVIII века лондонский «Политический журнал» называл Навигационный акт «гарантией британского процветания» (the guardian of the prosperity of Britain)[535], а знаменитый либеральный оратор Эдмунд Бёрк в речи, посвященной примирению Англии с американскими колониями, заявлял, что именно Навигационный акт «привязывает к нам торговлю колоний», представляя собой «единственное основание, которое обеспечило и будет обеспечивать в будущем единство империи»[536].
С точки зрения либеральных доктрин более позднего времени, Навигационный акт, жестко ограничивающий свободу торговли, был вредным документом, тормозящим увеличение товарообмена между странами. Но на практике он привел не только к росту британского судоходства, но и стимулировал его развитие в других странах, от Дании до России. Английский протекционизм был закономерным ответом на голландский торговый монополизм и агрессивно-недальновидную политику Соединенных провинций.
Навигационный акт 1651 года явно выбивал основание из-под голландской посреднической торговли. Сразу же после того, как он был принят парламентом, разразилась Первая англо-голландская война, продолжавшаяся с 1652 по 1654 год. Англо-голландский конфликт между бывшими союзниками был классическим образцом торговой войны. У двух стран не было друг к другу никаких территориальных претензий. «Это была… — пишет американский историк Пол Кеннеди, — борьба за морское господство, и за то, кто получит от этого господства коммерческую выгоду; это было противостояние флотов и экономик»[537]. Задним числом этот конфликт можно оценить как борьбу за гегемонию в складывающейся буржуазной миросистеме. Однако сами участники событий были (в отличие от позднейших аналитиков и историков) весьма далеки от подобных выводов. Их волновали куда более конкретные и локальные вопросы.
Война выявила слабость Соединенных провинций. Несмотря на то что в ходе крупных морских сражений голландский флот действовал достаточно успешно, проводимая англичанами блокада побережья оказывалась эффективным средством для подрыва торговли, на которой основывалось процветание Голландии. Стратегический перевес оставался за англичанами. Их флот успешно блокировал голландское побережье. Захват вражеских торговых судов стал для них прибыльным бизнесом. «Англичане захватили не менее полутора тысяч судов, что было примерно вдвое больше, чем их собственный торговый флот»[538]. Со своей стороны, голландцы нанесли немалый урон английской торговле в Азии и на Средиземноморье. Пользуясь поддержкой своих датских союзников, они смогли полностью закрыть для английских судов проход в Балтийское море через пролив Зунд. Некоторые историки утверждают, что «торговля и мореплавание Англии были парализованы даже в большей степени, нежели голландские»[539]. Однако в английской экономике внешняя торговля играла гораздо меньшую роль, а средиземноморские и балтийские пути все же являлись для нее второстепенными. Атлантические связи Англии продолжали развиваться. Импорт из России поступал через северный путь, по Белому морю.
Поскольку голландские гавани были сравнительно мелкими, корабли, построенные на их верфях, имели меньшее водоизмещение, чем английские. В военном плане это оборачивалось способностью англичан поставить на свои суда больше пушек, обеспечить их большим запасом ядер и пороха.
Первая англо-голландская война завершилась для Республики острым экономическим кризисом и миром, по которому пришлось признать не только Навигационный акт 1651 года, но и возместить ущерб, нанесенный английской Ост-Индской компании начиная с 1611 года. «Амбойнская бойня» была отомщена.
Для Голландии за неудачной войной последовали новые неприятности. Английские Навигационные акты стали образцом для других стран. В 1662 году Франция ввела налог на иностранные корабли, вывозившие французские товары. Транзитная перевозка грузов между французскими портами стала для голландцев невыгодной, а французское судоходство получило развитие. В Швеции был в 1724 году принят «Товарный акт» (Commodity Act), составленный по английскому образцу.
В конечном счете морская мощь Голландии была опрокинута лишь благодаря альянсу Англии и Франции. В 1672 году англичане и французы воевали против Голландии совместно, причем морской вызов со стороны Англии дополнялся сухопутным наступлением со стороны Франции. В ходе этих войн Соединенные провинции не только успешно сдерживали натиск превосходящих сил своих противников, но благодаря гениальному руководству адмирала де Рюйтера (de Ruyter), даже наносили им серьезные поражения. Однако страна оказалась не в состоянии одновременно воевать с англичанами на море и с французами на суше. И все же решающую роль в переходе гегемонии от Голландии к Англии сыграл не исход англо-голландских войн на море. Соотношение сил изменилось не столько в ходе военных действий, сколько в ходе экономического развития. Военные усилия истощили бюджет республики, подорвав ее могущество. В 1678 году государственный долг достиг 38 миллионов гульденов[540].
Английский историк Брендан Симмс считает совместную с Францией войну против Голландии стратегической ошибкой Лондона[541]. Однако подобные выводы могут быть сделаны лишь post factum, когда события переосмысливаются задним числом с позиций другой эпохи (в данном случае — с позиций политического опыта XVIII века, который весь прошел под знаком англо-французского противостояния). Историк не учитывает, что соперничество с Францией стало ключевым стратегическим вопросом для Англии лишь после того, как была сломлена торговая монополия Голландии. Именно победа над Голландией и привела Британию, которая начала сама превращаться в торгового гегемона Европы, к столкновению с Францией.
В периоды мира Голландия продолжала терять свои экономические позиции. Навигационные акты дали закономерные результаты. «Баланс торговли Соединенных провинций с Англией резко изменился с позитивного на негативный в течение второй половины XVII века», — отмечают голландские историки[542]. Но дело не только в торговле. Рост английской промышленности изменил соотношение сил между двумя лидерами капиталистической экономики. Рука об руку с ростом производства шла коммерческая экспансия. Если в 1650-е годы английский торговый флот составлял не более четверти от голландского, то уже к 1690-м годам они сравнялись по тоннажу и количеству судов. К концу XVIII века соотношение сил составляло уже 2:1 в пользу Британии. Финансовое положение Республики также неуклонно ухудшалось под влиянием постоянных войн и внутренних неурядиц. К 1713 году, несмотря на то что к тому времени Голландия уже находилась в союзе с Англией, которая взяла на себя изрядную долю расходов и хлопот в борьбе с Францией, национальный долг достиг 128 миллионов[543].
Преодоление общеевропейского экономического кризиса, явно наметившееся к концу XVII столетия, закономерно совпало с упадком Голландии. Система свободной торговли, которую успешно эксплуатировали купцы из Соединенных провинций, уступала место протекционистской политике, получившей в те времена название меркантилизма. Защита правительствами своих внутренних рынков вызвала быстрый рост местного производства. Голландская буржуазия проигрывала на всех фронтах одновременно. В качестве производственного центра Голландия теперь сталкивалась с растущей конкуренцией новых мануфактур, создававшихся не только во Франции и Англии, но и в германских государствах, в Скандинавии и даже в России.
В качестве мирового торгового посредника голландские купцы теряли свое значение, поскольку все больше товаров производилось для внутреннего рынка, на основе местного сырья. Значение внутренней торговли возрастало, и хотя мировая торговля тоже росла, наиболее сильные позиции в ней получали страны с более широким внутренним рынком и развитым производством. В этом плане Англия — страна со значительно большей численностью населения — обладала огромным преимуществом, но не менее существенным преимуществом в условиях меркантилизма становилась и сила государства, выступавшего и в роли защитника внутреннего рынка, и в роли покровителя местной буржуазии, в роли инвестора и заказчика. Менее либеральное и куда более централизованное английское государство, отчасти сохранявшее черты феодальной монархии, но поставившее эти структуры на службу интересам капитала, оказывалось в такой ситуации гораздо более эффективным инструментом буржуазного развития, чем децентрализованная Нидерландская республика. Республика Соединенных провинций была вынуждена смириться. С 1702 по 1788 год тоннаж британского коммерческого флота вырос на 326 %[544].
Война 1672–1674 годов, которую голландцам пришлось вести против Англии и Франции одновременно, поставила Республику на грань катастрофы. Военные неудачи привели к социально-политическому кризису, итогом которого стало падение великого пенсионария Яна де Витта (Johan de Witt) и возвращение к власти дома Оранских, отстраненного от политических рычагов купеческой олигархией. Двадцатидвухлетний принц Вильгельм был провозглашен статхаудером (штатгальтером) Голландии и главнокомандующим военными силами Республики под именем Вильгельма III. В августе 1672 года уже вышедший в отставку Ян де Витт вместе с братом Корнелием были растерзаны взбунтовавшейся толпой в Гааге. Первым государственным актом нового правителя из дома Оранских было примирение с Англией. В феврале 1674 года между Лондоном и Гаагой был заключен сепаратный мир.
После того как англичане потеснили голландцев в ходе серии военных кампаний, настало время консолидации капиталов. В 1688 году, свергнув Якова II Стюарта, английский парламент подвел итог многолетней борьбы за власть между буржуазными и аристократическими фракциями и одновременно положил начало новой политике в отношении Голландии. Новым королем Англии и Шотландии стал все тот же Вильгельм III Оранский, права которого на престол весьма условно были обоснованы ссылкой на его брак с Марией, дочерью низвергнутого Якова II.
Этот переворот, получивший название «Славной революции», позволил оформить англо-голландский компромисс — на условиях Лондона. «Славная революция» обеспечила одну из самых успешных сделок в истории мирового бизнеса, она «по сути представляла собой англо-голландское корпоративное слияние» (had a character of an Anglo-Dutch business merger)[545]. Британская буржуазия не только получила доступ к средствам нидерландских банков, но и смогла воспользоваться их опытом и знаниями — в скором времени схожие финансовые институты укрепляются в Англии. К началу XVIII века значительная доля акций британской Ост-Индской компании принадлежала голландским акционерам. Число иностранных инвесторов постоянно увеличивалось за счет немецкого купечества и располагавших свободными средствами представителей других стран. Ее торговые обороты стремительно росли и к 1720 году англичане уже существенно опережали голландцев по объему азиатской торговли, но если экономика Соединенных провинций стагнировала, то голландский торговый капитал, напротив, чувствовал себя достаточно комфортно, участвуя в прибылях англичан. Кредитование британского капитала становится, по выражению Маркса, «одним из главных предприятий голландцев»[546]. Подобное перераспределение ресурсов между приходящей в упадок и поднимающейся державой Маркс считает общим принципом капиталистического мирового хозяйства, указывая на то, что Венеция кредитовала развитие Голландии, затем Голландия вкладывала свои средства в Англию[547].
После поражения в войнах XVII века голландский капитал, и в первую очередь VOC, зависели в деле защиты своих интересов от английского оружия. Вплоть до Англо-голландской войны, разразившейся в 1780 году, англичане добросовестно и последовательно предоставляли такую защиту своим побежденным противникам, превратившимся в младших партнеров. Однако нет худа без добра — это позволило голландцам сэкономить на военных расходах и сохранить свои коммерческие позиции. Противостояние двух морских держав сменилось союзом, направленным против Франции. Англия, Шотландия и Ирландия получили голландского короля, а английская Ост-Индская компания — голландских акционеров. И хотя победа однозначно досталась британцам, условия этого компромисса отнюдь не были тяжелыми для Нидерландов. «Славная революция» стала классическим примером тактики английского правящего класса, применявшейся позднее в Канаде, Индии, Южной Африке: победа закреплялась щедрыми уступками в пользу побежденных. Способность к компромиссу оказалась для строителей империи гораздо более ценным навыком, чем напор и агрессивность.
ФРАНКО-ШВЕДСКОЕ СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Добиваясь торговых выгод, голландская буржуазия с легкостью уступала другим державам ведущую роль в европейской политике. Между тем борьба католической коалиции, возглавляемой испанскими и австрийскими Габсбургами, с протестантскими государствами оставалась главным сюжетом международной жизни на протяжении большей части столетия. И чем более острым был системный кризис европейской экономики, тем жестче было противостояние держав. И несмотря на то, что именно идеи католической Контрреформации были знаменем Габсбургов в начале Тридцатилетней войны, идеология все больше уступала место государственному интересу — к концу конфликта на стороне Габсбургов уже оказались некоторые протестантские князья, а их главным противником выступила католическая Франция.
Именно Франция вместе со Швецией оказалась решающей силой антигабсбургской коалиции, несмотря на то что на первых порах обе эти страны удерживались в стороне от конфликта. Французская политика, направлявшаяся кардиналом Ришелье на протяжении полутора десятилетий, стала классическим образцом настойчивости, последовательности и эффективности. Планомерно продвигаясь к своей цели, не торопясь, обходя и преодолевая препятствия, Ришелье заложил основы новой дипломатии, подчиненной не сиюминутным выгодам, а долгосрочному стратегическому плану.
Основная проблема Ришелье состояла в том, что, с одной стороны, столкновение с Испанией было, по его мнению, необходимо и неизбежно, но, с другой стороны, Франция к открытой войне была не готова. Проблема была не столько в военном превосходстве Испании, сколько во внутренней неустойчивости Франции. Ослабленная религиозными войнами и борьбой аристократических кланов, страна отнюдь не была консолидирована.
Во Франции за время религиозных войн бюрократическая машина, основы которой были заложены в годы правления династии Валуа, не развалилась полностью. Она лишь разделилась на части, каждая из которых функционировала автономно. «Французская ограниченная централизация позволяла чиновникам принимать решения самостоятельно. Губернаторы провинций и должностные лица с удовольствием пользовались этим. Парламенты самостоятельно вели административные дела»[548]. Таким образом, задача, которая встала перед Генрихом IV по окончании смуты, а позднее была решена кардиналом Ришелье, состояла не в том, чтобы построить государственную бюрократическую машину с нуля, а в том, чтобы собрать распавшийся на части аппарат управления, заново наладить его и запустить. Разумеется, речь не шла просто о восстановлении прежней, сохранившейся со времен Валуа бюрократии. Система модернизировалась и развивалась. В распоряжении кардинала Ришелье были уже существующие структуры и институты, на основе которых он мог строить свой новый политический порядок. Однако для того чтобы заставить этот громоздкий и не очень хорошо отлаженный механизм четко работать, от кардинала и его ближайшего окружения требовались огромные и постоянные усилия.
Модернизация Франции, начатая основателем династии Бурбонов королем Генрихом IV и продолженная при Ришелье, сделалась позднее образцом для большинства континентальных стран Европы. Ключом к изменению общества стало создание эффективного государственного аппарата. Вопреки позднейшим либеральным мифам, развитие бюрократии отнюдь не сдерживало частную инициативу, но, напротив, создавало для нее благоприятные условия — чем более рациональными и предсказуемыми были действия правительства, тем лучше был деловой климат. Задним числом Макс Вебер продемонстрировал, что развитие капитализма не ослабляет бюрократию, а наоборот, ведет к ее росту, распространению бюрократического типа управления. С одной стороны, кардинал Ришелье задолго до немецкого социолога осознал это на практике, создавая аппарат власти, способный рациональными действиями стимулировать экономический подъем страны. С другой стороны, новая бюрократия становится исходной моделью корпоративного управления.
Аристократы, недовольные усилением центральной администрации, постоянно затевали мятежи и заговоры. Правительству приходилось постоянно применять силу, срывать замки, налаживать сеть осведомителей, оповещавшую его о внутренних угрозах. В подобных обстоятельствах кардинал не мог позволить себе большой войны или публичного разрыва с Римом. Но объективная логика борьбы против Испании и Австрии противопоставляла Францию политике Контрреформации, проводимой Папой Римским совместно с Габсбургами. Парадоксальным образом именно католический кардинал Ришелье заложил в общеевропейском масштабе основы государственной политики, «независимой от религиозного направления государства»[549].
Несмотря на то что тема официальной государственной религии оставалась в центре идеологической борьбы между европейскими державами вплоть до начала XVIII века, французское прагматическое понимание государственного интереса, raison d'tat, сделалось общепринятым как для католиков, так и для протестантов. К концу века эти идеи настолько укоренились, что им без колебаний следовали все, включая Папу Римского. Поучительным примером может быть международное восприятие английской «Славной революции» 1688 года. Католические симпатии Якова II были одним из важных поводов для возмущения в протестантской Англии. Зять короля голландский Вильгельм Оранский, напротив, был идеологически привлекателен в качестве убежденного протестанта. К тому же конфликт в Англии разворачивался на фоне только что принятого во Франции решения об отмене Нантского эдикта. Однако в составе экспедиционного корпуса, снаряженного Вильгельмом для свержения собственного тестя, было несколко испанских батальонов. Папа Иннокентий II специальной буллой разрешил католическим солдатам служить под знаменами протестантского политика — против короля-католика. Межгосударственное соперничество Испании и Франции имело для Святого Престола гораздо большее значение, нежели религиозные распри, которые по существу оставались английским внутриполитическим делом.
Вплоть до середины XVII века Франция в качестве мощной континентальной державы, оставалась центром притяжения для всех протестантских правителей. Закладывая основы нового политического порядка, Ришелье стремился компенсировать внутреннюю слабость все еще не вполне консолидированного государства за счет эффективной внешней политики. Начиная с 1610-х годов французская дипломатия проявляет поразительную настойчивость, формируя антигабсбургскую коалицию таким образом, чтобы Париж, сохраняя политическое влияние, мог по возможности избегать прямого участия в военных действиях. Французами в годы правления Ришелье было заключено 74 международных договора, причем без внимания кардинала не оставалась даже Россия. В 1620-е годы основные усилия Парижа были направлены на то, чтобы развязать руки Швеции, армии которой предстояло сыграть решающую роль в войне. Проблема состояла в том, что для борьбы в Германии шведам надо было сконцентрировать значительные силы, чем могли воспользоваться соседние государства, с которыми Швеция находилась в конфликте. Чтобы обезопасить тылы шведов, французская дипломатия предпринимает прямо-таки титанические усилия. В Москву направляется посольство, призванное договориться о вступлении русских в антигабсбургскую коалицию. Параллельно, как всегда в ту эпоху, царя пытались уговорить предоставить привилегии французским купцам. Действия России должны были сковать силы католической Польши, которая в противном случае могла бы нанести удар по владениям Швеции. Хотя в Москве к Польше и Швеции после событий Ливонской войны и Смутного времени относились с равной подозрительностью, выбор был — не без влияния французов — сделан в пользу шведов. В 1632 году Московия объявила войну Польше. Этот конфликт, вошедший в историю под именем Смоленской войны, не дал решающего успеха ни одной из сторон. Армия боярина Михаила Шеина безуспешно осаждала Смоленск, его вспомогательные отряды овладели несколькими мелкими крепостями. В сентябре 1633 года польский король Владислав IV, подойдя к Смоленску с войском в два раза меньшей численности, чем у Шеина, умудрился окружить русских и принудить их к капитуляции. После того, как в марте 1634 года Шеин сдался, наемники перешли на службу к полякам, а сам боярин с 8 тысячами русских вернулся на родину, где был обвинен в измене и казнен. После этого между сторонами был заключен очередной «вечный мир», оставивший границы без изменений. Единственное достижение Московии состояло в том, что польский король официально отказался от претензий на русский престол. Между тем главная цель французской дипломатии оказалась достигнута вполне — Швеция была избавлена от необходимости воевать на два фронта.
Однако и Польшу кардинал Ришелье не оставляет без внимания. В то время как русских подговаривают напасть на поляков, дабы поддержать шведов, Польшу и Швецию уговаривают заключить перемирие. Несмотря на свои военные успехи, шведы под влиянием французских дипломатов вынуждены пойти на серьезные территориальные уступки. В 1629 году при посредничестве Франции подписано Альтмаркское соглашение, примиряющее шведского короля Густава Адольфа с его польским родственником Сигизмундом Вазой. Одновременно подписывается ряд соглашений с германскими протестантскими князьями, получающими помощь Парижа в войне против Габсбургов.
Если на юге и востоке угрозу для Швеции представляли Речь Посполитая и Московия, то на западной границе оставались неразрешенные споры с Данией — здесь тоже вмешиваются французские дипломаты, добиваясь примирения между соперничающими скандинавскими державами[550].
Французская политика была крайне прагматична, но одновременно популярна на континенте. Как замечает Фредерик Ансильон, кардинал Ришелье исходя исключительно из государственного интереса выступал поборником прав и свобод немецких соседей: «Политическая и религиозная свобода в Германской империи были лучшим средством, чтобы предотвратить ее превращение в новую великую державу под властью Австрийского дома, который эти принципы отвергал. В этом весь секрет французской политики: князья империи должны были противостоять Австрии, их сила — ее силе, и это одобряли все друзья гуманности, ибо существование подобных самостоятельных государств становилось гарантией общеевропейского спокойствия»[551].
Для того чтобы добиться таким способом общеевропейского спокойствия нужна была мощная военная сила. Первая фаза Тридцатилетней войны показала, что протестантские князья Германии сами себя защитить не могут даже с помощью французских и голландских денег. В январе 1631 года в Барвальде подписан договор со Швецией, а Густав Адольф получает от французов финансовые субсидии для ведения войны — 400 тысяч рейхсталеров в год[552]. Подводя итоги своей деятельности в знаменитом «Политическом завещании», Кардинал Ришелье произнес знаменитые слова: «Золото и серебро правят миром»[553]. С его легкой руки деньги стали одним из важнейших закулисных факторов международной политики.
Полученные от Ришелье средства позволили героическому шведскому королю развернуть широкомасштабное наступление против католических имперских войск. Но Швеция отнюдь не собиралась «вести войну за французские интересы вместо Франции (einen Stellvertreterkrieg), у нее были собственные военные и политические цели, собственные методы»[554]. В случае успеха не Ришелье, а шведский король Густав Адольф должен был контролировать ситуацию в Германии.
Если Франция благодаря кардиналу Ришелье сыграла решающую роль в дипломатическом оформлении антигабсбургской коалиции, то Швеция оказалась на протяжении 20 лет ее основной военной силой. Впечатляющие успехи, достигнутые этим, сравнительно небольшим, государством в преддверии и в ходе Тридцатилетней войны, требуют особого рассмотрения. В некотором роде именно Швеция выступила в качестве модели военно-государственного устройства, став образцом для подражания по всему континенту.
Из-за того, что после Полтавской битвы международное значение шведской державы резко понизилось, историки и социологи склонны недооценивать роль, которую эта страна играла в Европе в начале Нового времени. Однако если Голландию конца XVI и XVII столетия исследователи порой называют «первой современной экономикой»[555], то Швецию с таким же основанием можно было бы назвать «первым современным государством». В своей «Истории военного искусства» Ганс Дельбрюк констатирует, что шведы «образовали военное государство невиданной дотоле силы»[556]. Численность населения Швеции была существенно меньшей, чем в соседних странах, но политический порядок был совершенно иным, «и народ, и сословия, и король сомкнулись в одно неразрывное целое»[557].
Это достижение тем более поразительно, что еще в середине XVI века мало кто мог бы представить себе Швецию в качестве одной из ведущих европейских держав. Существенно большую роль в жизни континента играла соседняя Дания, господствовавшая на Севере Европы в течение большей части Средневековья. В отличие от Дании и западных стран, имевших длительную историю государственного строительства, восхождение Швеции происходило стремительно и драматично.
К началу XVII века Швеция была, по выражению американского историка, «вооруженной нацией с политической культурой, ориентированной на войну»[558]. Однако такое положение дел было далеко не характерно для государства, созданного Густавом Ваза, основные заботы которого были связаны не с военными, а с политическими и хозяйственными реформами. Преобразование государства по меньшей мере на полвека предшествовало созданию новой армии.
Шведская бюрократия была создана в кратчайший срок и практически на пустом месте. Государственная централизация была минимальной. К XIV веку эта монархия «представляла собой конфедерацию провинций, каждая из которых имела собственную ассамблею, судей, законы и военную организацию»[559]. В течение XIII века, происходит подчинение власти шведских королей Финляндии — новоприобретенные земли тоже пользуются изрядной автономией. Первоначально шведские колонии располагались по берегам Балтики и обслуживали торговлю с Новгородом. Постепенно королевская власть распространяется вглубь страны. Граница Швеции и Новгорода окончательно зафиксирована была мирным договором 1293 года и с тех пор долгое время оставалась без изменений.
Когда в XVI веке к власти пришел король Густав Ваза, основавший новую династию, страна, доставшаяся ему, включала собственно Швецию и Финляндию, имевших около миллиона населения в совокупности. Королевство представляло собой, по признанию скандинавских историков, «малоизвестную и малонаселенную аграрную страну на краю Европы»[560].
В отличие от более сильной Дании, здесь не было ни регулярной армии, ни постоянного военного флота. Войны с Данией возникали постоянно и на первых порах складывались для шведов неудачно. До Густава Ваза в Швеции не существовало четкого порядка престолонаследия, и смена короля почти всегда сопровождалась смутой. Торговля находилась в руках купцов Немецкой Ганзы, и королевскому двору мало что перепадало.
У государства даже не было нормальной столицы. Король и двор кочевали по стране, переезжая из замка в замок, а в Стокгольме, являвшимся номинально главным городом Швеции, население в лучшие годы не превышало 10 тысяч человек. Из них около трети прямо или косвенно работали на короля. На фоне явной бедности королевства особенно заметно было богатство католической церкви.
Реформация в Швеции имела один ясный и очевидный смысл — укрепить королевские финансы и создать условия для развития государства. В отличие от Германии, народного движения за Реформацию в Швеции не было. «Основная масса населения в Швеции и Финляндии ничего не имела против Папы и церкви», да и сам король Густав Ваза, по признанию историков, «не слишком интересовался вопросами веры»[561]. Зато его очень интересовал вопрос о пополнении бюджета.
Последней каплей, переполнившей чашу терпения короля, был кризис, вызванный необходимостью платить Дании за Алвсборг (Alvsborg). Этот город был единственным шведским портом на Северном море. После очередной войны с соседним королевством город был потерян, и теперь датчане требовали от Густава Ваза заплатить огромный выкуп, чтобы вернуть его. Денег в казне не было. Других способов получить средства кроме экспроприации церковного имущества просто не оставалось. Обратившись к Риксдагу (Riksdag), король получил поддержку дворянства и бюргеров, также надеявшихся получить свою долю церковной собственности. Созванные в 1527 году представители сословий большинством голосов принимают решение о Реформе Церкви.
Собственно религиозные вопросы в ходе шведской Реформации почти не затрагивались. На первом плане стояли вопросы экономические и организационно-политические. Отныне священники превратились в госслужащих, епископы назначались королем, а бюджет церкви соединился с бюджетом правительства. Тем не менее, превратив Церковь в государственное учреждение, Густав Ваза сам того, возможно, не понимая, дал в руки власти мощный идеологический институт, которым сумели успешно воспользоваться его наследники.
Реформация не привела к созданию «нового дворянства» в той форме, как это случилось в Англии, но укрепила позиции старого, поскольку дворянским семьям были возвращены имения, ранее переданные ими церкви. В казну стали регулярно поступать церковные налоги.
Вообще стремление повысить финансовую дисциплину и укрепить государственный бюджет проходит красной нитью через все реформы Густава Вазы и его последователей. Централизация налоговой системы стала его важнейшей целью. В прежние времена основной налог (Grundsteuer) выплачивался крестьянскими общинами в натуральной форме, тогда как правительство нуждалось в серебре. Однако деревня противилась подобным переменам. Даже в начале XVII века, несмотря на все нововведения «и новые, и старые налоги продолжали платить натурой, тогда как короне нужны были деньги»[562].
Большего успеха правительство достигло, поощряя создание новых поселений, колонизацию неосвоенных земель на Севере и Востоке, чтобы тем самым создать новые общины и новые объекты для налогообложения. При этом, однако, права сельских общин на осваиваемую ими территорию подверглись пересмотру. Незаселенные земли были по существу национализированы. В 1542 году Густав Ваза провозгласил их «собственностью Бога, Короля и Короны»[563].
Новые поселения были необходимы и для того, чтобы централизовать и упорядочить товарообмен. «Одной из самых срочных задач шведской короны было поставить под контроль правительства торговые потоки, которые раньше не контролировались вообще или в очень небольшой степени»[564]. Для этого вводились новые налоги и организовывались новые торговые центры, например Гельсингфорс (Helsingfors), основанный Густавом Ваза. Позднее таким же образом был основан и Гетеборг. Если Гельсингфорс должен был стать центром восточной торговли, то Гетеборг строился для развития торговли в северо-западном направлении. «Из Нидерландов пригласили специалистов, чтобы построить город и управлять его торговлей. Гетеборг стал единственным городом, населенным исключительно иммигрантами. Официальным языком здесь был голландский, законы были голландские и Церковь тоже была голландская»[565]. Впоследствии город был разрушен датчанами, но вскоре восстановлен на новом месте Густавом Адольфом, сохранившим в новом Гетеборге те же порядки.
Впрочем, шведская корона не только привлекала к себе иностранных иммигрантов и строила новые города на своей территории. Поощрение предпринимательства шведским правительством предполагало, как и в других европейских странах, поддержку колонизации. В 1638 году, в разгар Тридцатилетней войны, шведами была создана колония в Америке на реке Делавар, однако в 1655 году поселение перешло в руки голландцев. Не намного дольше просуществовала колония в Западной Африке (на территории нынешней Ганы), основанная в 1649 году. Она была потеряна в 1663 году. Несмотря на утрату Стокгольмом политического контроля над колониями, их население сохраняло приверженность шведскому и финскому языкам еще на протяжении нескольких десятилетий.
Социально-экономическая политика государства направлена была на максимальное упорядочение и рационализацию общественной системы, что облегчило бы задачи управления. Пытаясь увязать налогообложение с сословным порядком, правительство упорно стремилось провести четкую разграничительную линию между крестьянами и бюргерами, добиваясь, чтобы первые перестали торговать, а вторые заниматься сельским хозяйством. Но жизнь постоянно оказывалась в противоречии со схемами бюрократии. Крестьянское население сопротивлялось, причем зачастую чиновники из местных «покрывали» своих соседей.
Эта борьба продолжалась около ста лет и закончилась торжеством центральной власти: «К середине XVII века правительство наконец научилось собирать налоги с внутреннего рынка, что не удавалась ему делать ни 150, ни даже 50 лет назад. Конечно, подданные обманывали власть, уклонялись от уплаты налогов, жульничали, бюргеры продолжали потихоньку пахать, а крестьяне тайком торговать. Так продолжалось еще целых два столетия. Но все же корона к середине XVII века контролировала внутренний рынок в большей мере, чем раньше, а ее доходы заметно выросли»[566].
Реституция церковных земель, возвращенных дворянству, не только укрепила поддержку короля со стороны господствующего сословия, но и обогатила его лично: поместья, ранее пожертвованные Церкви семьей Ваза, перешли к нему. К концу жизни король был одним из богатейших людей страны, контролировавшим более 5 тысяч ферм и владевшим серьезными торговыми предприятиями. Король был не только удачливым коммерсантом, но и крупным банкиром.
Это был харизматический лидер, выдающийся оратор, автор блестящих и убедительных писем, энергичный администратор — имел еще одно бесспорное достоинство: ему постоянно везло. «Ему нравилось все контролировать и во все вмешиваться, он обожал принимать решения. Он постоянно ворчал, что вокруг нет ни одного компетентного сотрудника, и никто из его помощников не справляется со своим делом, но на самом деле это доставляло ему удовольствие — он мог влезать в любой вопрос, всем давать советы и указания»[567]. Удивительным образом подобная мелочная опека не повредила государственному аппарату. Именно Густав Ваза заложил основы знаменитой шведской бюрократии, которая в полном объеме сформировалась к 20-м годам XVII века. Административный аппарат создавался специалистами, приглашенными из Германии, которые наладили работу королевской канцелярии. Они же занялись и приведением в порядок финансов. Пришлось пригласить иностранцев также для организации армии и флота. Строились новые замки, в них размещались гарнизоны, призванные закрепить контроль центральной власти над регионами. В условиях внутреннего мира и стабильности начало быстро расти население, состоявшее преимущественно из свободных крестьян.
Как замечает американский историк, проводимая королями из династии Ваза политика «социально-экономической реконструкции» (of socioeconomic Reconstruction) преобразила страну и «трансформировала общество»[568]. Из отсталой аграрной страны на окраине континента Швеция стремительно превращалась в мощную передовую державу, обладающую не только военным, но и значительным экономическим потенциалом.
Чтобы преодолеть нехватку управленческих кадров власть занялась проблемами образования. К середине XVI века университет в Уппсале (Uppsala) влачил жалкое существование. Однако уже сто лет спустя Швеция становится одним из европейских лидеров в этой области. Новые университеты создаются во всех концах выросшего за эти годы государства. Для Ливонии в 1632 году основан университет в Дерпте (Тарту), для Финляндии — в Турку (Обо) в 1640 году, для внутренних районов Швеции созданы университеты в Грейфсвальде (Greifswald) в 1636 году и Лунде (Lund) в 1668 году. Школы открывались в каждом городе, было основано 20 гимназий для подготовки молодых людей к университетскому образованию. Для обучения офицеров была организована Военная академия (Krigskolleg).
При дворе в Стокгольме говорили по-немецки. В начале XVII века король Густав II Адольф вынужден был учить шведский как второй язык. Тем не менее Реформация и работа бюрократии делали свое дело. Национальные языки получили мощный стимул для развития. Перевод Библии на шведский и финский языки дал толчок развитию литературы и образования обоих народов. Книги стали выходить не только на шведском, финском и на немецком, но даже на эстонском и латышском языках. Был даже принят первый в Европе закон об охране памятников культуры и учреждено некое подобие национального музея.
Шведско-Финское королевство конца XVI века можно считать в некотором роде первым примером полиэтнического национального государства. Королевская администрация состояла во всех провинциях преимущественно из местных уроженцев и со времен Густава Ваза действовала по общим правилам. Финны могли участвовать в шведском парламенте, занимать официальные должности. Однако говорить о полном равноправии шведов и финнов в державе, созданной династией Ваза, все же не приходится. В основном должности в Финляндии доставались местным шведам, а финны, заседавшие в королевском парламенте, принадлежали преимущественно к низшим сословиям, и соответственно их политическое влияние было невелико.
Династия Ваза, получившая власть благодаря избранию на царство, старалась поддерживать лояльные отношения с представителями сословий, в числе которых оказывались не только дворяне, духовенство и бюргеры, но также офицеры, чиновники, крестьяне и даже шахтеры. В этом плане шведский Риксдаг, будучи по форме вполне еще средневековым сословным представительством, был гораздо демократичнее аналогичных собраний в большинстве других стран Европы.
Традиционные связи с Голландией и Немецкой Ганзой в условиях мира способствовали быстрому росту торговли, а успешные войны позволили не только расширить территорию королевства, но и поставить под его контроль новые рынки. Шведская военно-бюрократическая машина и голландский торговый капитал работали в тесном сотрудничестве, достигая впечатляющих результатов.
В период позднего Средневековья по мере того, как ганзейские города утрачивали свое политическое влияние, их купцы все больше нуждались в покровительстве датского и шведского короля. Происходивший параллельно рост влияния обеих держав обернулся острым соперничеством между ними за локальную гегемонию на Балтике. Возвышение Голландии в качестве ведущей торговой державы лишь усугубило это соперничество.
В начале XVII века исследователи наблюдают «переход от старой ганзейской системы, в которой Швеция занимала зависимое положение, к участию в мировой экономике, где лидировала Голландия», что можно четко проследить «по материалам стокгольмской таможни»[569]. Традиционная балтийская торговля с немецкими купеческими городами отнюдь не сокращается, напротив, она заметно растет. Но еще быстрее растет новый товарооборот, непосредственно связанный с новой мировой экономикой. Увеличились объемы внешней торговли, особенно экспорт меди и железа.
При этом внутреннее развитие Швеции находится в явном контрасте с принципами свободной торговли, которые исповедовались первыми поколениями лидеров Голландской республики. Можно сказать, что восхождение Швеции в качестве великой европейской державы и ее региональная гегемония соответствуют новому этапу в развитии мироэкономики, когда возможности свободной торговли были исчерпаны, а Европа переживала затяжной кризис, — стокгольмские короли великолепно почувствовали и сумели использовать возможности, которые открывал этот кризис перед ними, создавая трудности для других, более мощных и развитых государств. Однако жесткое государственное регулирование, проводившееся шведскими королями, отнюдь не представляло собой вызов голландской гегемонии или альтернативу ей. Напротив, эти две тенденции органически дополняли друг друга. Точно так же, как торговое господство Ганзы на Балтике нуждалось в военной мощи немецких рыцарских орденов, а позднее — датских и шведских королей, и голландская коммерческая гегемония — не будучи гегемонией политической — была невозможна без поддержки сильных военных держав, проводивших собственную экономическую политику. На Западе эту роль в начале XVII столетия выполняла (хоть и без особого энтузиазма) Франция, вовлеченная в конфликт с Испанией, на Востоке — Швеция. Лишь после завершения Тридцатилетней войны, по мере того как уходили в прошлое заботы и страхи, подтолкнувшие лидеров этих стран к объединению в Антигабсбургскую коалицию, исчезали и политические условия для голландской коммерческой гегемонии.
Между тем, Дания и Швеция, интегрированные в общую с Голландией коммерческую систему и формально принадлежавшие к общему протестантскому лагерю, вступили в острую борьбу за контроль над Балтийским морем. Эту борьбу подогревали голландские интриги. Купцам из Соединенных провинций категорически не нравились Зундские пошлины, которые король Дании брал с них за вход в Балтику.
В 1558 году вспыхнула Ливонская война. Стремясь захватить для России выход к Балтийскому морю, Иван Грозный напал на Ливонский орден, сославшись на многолетнюю неуплату Дерптским епископом дани, про которую обе стороны давно уже забыли. Армия царя вступила в Ливонию и захватила Нарву. Война привела к распаду и без того переживавшего острый кризис Ливонского ордена, после чего в события вмешались Швеция и Польша. В отличие от обессиленного внутренними смутами Ливонского ордена, эти противники оказались не по зубам русскому царю. В 1582 году война закончилась тем, что земли ордена были разделены между Швецией и Польшей, тогда как Московии не досталось ничего. Захватив Эстляндию, шведы получили плацдарм на южном берегу Балтики. Впоследствии, расширяя его, они установили свою власть над большей частью бывшей Ливонии, кроме ее южной части — герцогства Курляндского. Бывшие форпосты Ганзы на востоке Балтики — Рига и Ревель (Таллин) превратились в важные центры формирующейся шведской империи. Но отстаивая интересы шведского капитала, Стокгольм не слишком способствовал их развитию и процветанию, стремясь переместить торговые потоки из немецких городов в пользу Стокгольма, Гельсингфорса и Выборга.
Несмотря на политическую централизацию, противоречия, типичные для мироэкономики в целом, воспроизводились и внутри шведской империи. Положение балтийских провинций не улучшилось после окончания Ливонской войны. Если сама Швеция стремилась стать частью западного «центра», то Балтийские провинции превращались в «периферию» системы. «Сокращение численности населения было прямо связано с упадком коммерции; в равной степени и экономическая политика Московии, и решения, принимавшиеся Швецией, отводили балтийским городам второстепенную роль в торговле между Востоком и Западом, что резко контрастировало с их процветанием в Средние века. Теперь балтийские провинции были интересны шведской империи как поставщик и экспортер зерна»[570].
Это способствовало закрепощению крестьян и снижало социальную мобильность низов, что на практике означало исключение эстонских и латвийских земледельцев из немецкого и шведского «общества». Создание университета в Дерпте (Тарту) — кузницы кадров для новой шведской администрации — не изменило ситуацию для коренного населения. «Большинство студентов были шведами, немцами и финнами; нет вообще никаких сведений о том, что в XVII веке среди студентов был хотя бы один эстонец»[571].
После Ливонской войны Россия была обессилена и не могла считаться серьезным противником, зато неизбежным сделался военный конфликт с Польшей, с которой теперь Швеция имела общую границу. Внешнеполитическая ситуация осложнялась религиозными распрями. Сопротивление сторонников католичества в Швеции получало поддержку из Польши, где у власти оказалась другая ветвь все той же династии Ваза. Король Польши Сигизмунд Ваза, недолго находившийся и на шведском троне, был католиком. Как и в Англии в годы правления Марии Кровавой, попытки реставрации католицизма сверху привели к обратному результату. Если Реформация, проведенная правительством, не вызвала народного энтузиазма, то попытка восстановления старой Церкви при поддержке иностранцев спровоцировала мощный взрыв национальных чувств и способствовала идеологическому укреплению и консолидации протестантизма, сторонники которого «закалялись в борьбе». Карл IX, сменивший Сигизмунда на троне в ходе острого политического конфликта, не только использовал протестантизм в качестве своего идеологического оружия, но и захватил власть, опираясь на поддержку низших сословий, представленных в Риксдаге. Почувствовав угрозу, аристократия сплотилась вокруг Сигизмунда. Династическое столкновение переросло в социально-религиозный конфликт. В битве при Странгебро (Strangebro) войска Карла одержали победу, Сигизмунд вынужден был согласиться на созыв Риксдага, который официально лишил его короны. Перед тем как покинуть страну и вернуться в Польшу, бывший король провел вечер вместе с будущим за ужином в замке Линкопинг (Linkoping). «Их застольная беседа была вежливой, но не слишком интересной», констатировали присутствующие[572].
В 1607 году Карл IX был официально коронован в Уппсале, а Сигизмунд, покинув страну, начал военные действия против своего удачливого соперника. Карл оказался втянут в войну с Польшей, а затем и с Данией. Военное счастье вновь отвернулось от шведов, которые терпели одно поражение за другим.
Густав Адольф унаследовал от отца государство, находившееся в войне со всеми тремя своими соседями — Данией, Польшей и Россией. Правда, на польской границе продолжалось перемирие, но было ясно, что это не надолго. К тому же, несмотря на все усилия предшествующих королей, государственные финансы опять находились в плачевном состоянии. После очередного военного конфликта Алвсборг снова оказался в руках датчан, и опять надо было платить контрибуцию, хотя дипломаты из Англии и Голландии изо всех сил старались смягчить позицию Копенгагена.
Однако на сей раз Швеция имела во главе правительства талантливого и решительного короля, рядом с которым оказался не менее целеустремленный и эффективный канцлер, Аксель Оксеншерна (Axel Oxenstierna), по праву занимающий место в ряду выдающихся политиков той эпохи рядом с Ришелье и Кромвелем. Между королем и его канцлером сложилось счастливое разделение труда. Первый занимался военными вопросами, второй — бюрократией и дипломатией. И оба достигли блестящих успехов на своем поприще. Они великолепно понимали и дополняли друг друга. Густав Адольф являлся не только выдающимся полководцем, но и крепким администратором, к тому же способным убеждать людей и склонять их на свою сторону, используя личное обаяние. Канцлер Оксеншерна после смерти короля заявил: «В мире нет никого, кто мог бы сравниться с этим Королем, и уже несколько столетий, как никого подобного на свете не было, и трудно сказать, появятся ли столь выдающиеся люди когда-нибудь в будущем»[573].
По признанию историков, Оксеншерна превратил Швецию в бюрократическое государство. «И слово „бюрократическое“ надо понимать в положительном смысле» (And «bureaucratic» in this context has a positive ring to it)[574]. Совет королевства (Reichsrat) начал превращаться в некое подобие «современного кабинета министров»[575]. Аппарат придворных советников и помощников преобразовывался в более или менее регулярную правительственную бюрократию, а его сотрудники в государственных служащих. Чиновники получали регулярное жалованье, на что уходила изрядная часть постоянно недостаточных средств казны.
В стремительно развивавшемся государственном аппарате высшие должности остались за аристократами, но определенные каналы для социальной мобильности получили и низшие сословия, имевшие возможность продвигаться по службе. Если прежде в правительственных документах указывалось, что на ключевые должности могут быть назначены только «урожденные шведские дворяне», то при Густаве Адольфе была принята новая формула: «шведы, преимущественно дворяне»[576]. Иными словами, в порядке исключения, высшие государственные посты можно было доверить выходцам из «неблагородных» сословий. Именно эти низшие сословия стали основной опорой монархии в борьбе против аристократической оппозиции. Однако правительство стремилось не к революции, а к компромиссу, стараясь, не теряя поддержки низов, замирить и успокоить аристократию.
Извлекши уроки из социально-политических конфликтов, которые в очередной раз потрясли королевство на рубеже XVI и XVII века, Оксеншерна сумел обеспечить примирение и сотрудничество сословий, завоевав доверие аристократов. Иными словами, он проводил «бонапартистскую» политику лавирования между социальными силами, стремясь консолидировать общество вокруг удобной для всех власти. Но чтобы в таких условиях поддерживать стабильность, нужны средства. Дополнительные ресурсы могли быть получены за счет внешней экспансии или мобилизованы внутри страны во имя борьбы с внешним врагом.
«Монархия и аристократия готовы были прекратить свою затяжную борьбу на основе единственной общей программы, которая устраивала всех — за счет войны и экспансии, — констатирует английский историк. — В некотором смысле это была и национальная программа, по крайней мере ее так воспринимали»[577].
Первые успехи армии Густава Адольфа одержали в конфликте с Польшей. В 1610 году шведские войска находились в Москве, пытаясь защитить ее от поляков, но под давлением неприятеля вынуждены были оставить город. Хотя шведы пришли в Россию как союзники, их вмешательство в политическую борьбу Смутного времени завершилось открытой Русско-шведской войной.
Заключенный при посредничестве Англии Столбовский мир с Россией в 1617 году закрепил за Швецией земли на восточном побережье Балтики. Кампания в Ливонии привела в 1621 году к захвату у поляков Риги — крупнейшего порта в этом регионе. Доходы от балтийской торговли пополнили казну Густава Адольфа. Рига с ее 30-тысячным немецким населением стала крупнейшим городом королевства. Позднее, уже после гибели Густава Адольфа, датчане были вытеснены с южной оконечности Скандинавского полуострова (Skane), и Шведское королевство получило стабильный доступ к Северному морю. Все эти завоевания стали возможны благодаря радикальной военной реформе, предпринятой Густавом Адольфом.
В войнах XVI и начала XVII веков шведская корона все еще использовала, наряду со своими войсками, наемные контингенты. Их набирали в Германии, Шотландии и Англии. Во время Ливонской войны доходило до конфликта между контингентами. «Драка началась между шотландцами и немцами, когда кто-то отказался платить за съеденную свеклу. Кончилось тем, что убили несколько сотен шотландцев, среди которых были офицеры. Другие шотландцы дезертировали и перешли на службу к русским»[578]. В армии Якова Делагарди (Jacob de la Gardie), отправленной в Россию — формально для оказания помощи Москве против поляков — имелось 1200 шотландских и английских солдат. Не получив своевременного жалованья, эти войска взбунтовались и перешли на сторону неприятеля. В войнах с датчанами шведы регулярно терпели неудачи, наемные войска были ненадежны. Густав Адольф не мог больше терпеть подобное положение дел. Ему нужны были надежные и боеспособные войска.
Не имея достаточных средств, чтобы содержать дорогостоящую наемную армию, Швеция решила проблему, введя всеобщую воинскую повинность. Это дало основание историкам считать родину Густава Адольфа страной, создавшей первую регулярную армию в мировой истории[579]. Дельбрюк заявляет, что шведы «были первым народом, который организовал у себя национальную армию»[580]. Подобное утверждение, конечно, не совсем справедливо, ибо игнорирует английскую военную реформу XIV–XV веков, а также опыт Голландии, широко использовавшийся теми же шведами, однако в целом по отношению к Европе XVII века шведское военное строительство было безусловно новаторским и революционным.
Военная организация, созданная Густавом Адольфом, опиралась на классовую структуру шведской деревни, где преобладало свободное и экономически независимое крестьянство, с которым приходилось считаться как дворянскому сословию, так и правительству[581]. Именно это крестьянство не в меньшей степени, чем городская буржуазия становилась опорой королевской власти, стремившейся укрепить свои позиции перед лицом аристократии.
Шведское ведение военных действий, по словам американского исследователя, «напоминало тотальную войну современной эпохи»[582]. Королевство Густава Адольфа было разделено на 6 округов, каждый из которых должен был выставлять 18 пехотных и 6 кавалерийских полков. Рекрутская повинность была распределена по общинам, так что на определенное количество «дворов» приходилось и соответствующее количество рекрутов. Однако воинский призыв дополнялся добровольной вербовкой. Это позволяло создать многочисленную и хорошо мотивированную армию, резко отличавшуюся от феодальных ополчений и наемных войск соседних государств. Значительная часть подразделений формировалась в Финляндии, жители которой в тот момент были лояльными и патриотичными подданными Швеции. В соответствии со шведской системой, на войну призывался один человек из десяти боеспособных мужчин, а остальные числились в резерве. Однако в Финляндии обычно призывали больше. К тому же на русской границе действовали крестьянские ополчения. В итоге Финляндия была непропорционально численности населения представлена в вооруженных силах королевства, она формировала девять пехотных и три кавалерийских полка. Командиры этих войск прекрасно сознавали их значение для государства. Шведские офицеры вообще играли немалую роль в политике, причем, как отмечают историки, «особенно те, что происходили из Финляндии» (especially those from Finland)[583].
Финские войска играли активную роль уже в сражениях Ливонской войны и в конфликтах начала XVII века. Еще во времена пограничных конфликтов с новгородцами шведские короли оценили способность финнов-охотников к ведению партизанской войны. Эти войска оказались равно способны применять тактику геррильи и сражаться в поле, четко сохраняя строй и демонстрируя неколебимую дисциплину. «Роль Финляндии в войнах, происходивших в восточной Балтике, столь высоко оценивалась шведским правительством, что командующий финскими вооруженными силами был назначен первым генерал-губернатором Эстонии»[584]. В сельских общинах Финляндии до сих пор можно найти памятники героям Тридцатилетней войны. Финские солдаты получили прозвище hakkapelis от своего боевого клича «Hakkaa plle!» — что может быть переведено как «Круши, громи!»
Боевой дух шведско-финской армии был высок. «Патриотический и религиозный энтузиазм, резко отличал этих бойцов от солдат других европейских армий и начальство поддерживало его постоянной пропагандой в боевых частях», констатирует американский историк[585]. То же подчеркивает и Дельбрюк, замечающий, что «Густав Адольф строил мораль своих войск не только на начальственной власти командиров, но и на развитии в своих войсках религиозного чувства»[586]. В шведской армии был введен институт военных капелланов, выступавших по существу в роли политкомиссаров. Их главной задачей была не столько забота о душах солдат, сколько поддержание боевого духа и идеологическая пропаганда, разъяснение политики короля, целей и смысла войны.
В официальной шведской да отчасти и немецкой истории Густав II Адольф предстает идеалистом, вмешавшимся в Тридцатилетнюю войну для того, чтобы оказать «бескорыстную помощь протестантам в Германии»[587]. На самом деле король был в достаточной степени компетентным политиком, чтобы понимать действительный смысл происходящего. Как замечает немецкий историк, Густав Адольф при всем своем ревностном протестантизме был «насквозь практическим человеком» (durch und durch ein Mann der Praxis)[588]. Экономические интересы волновали его ничуть не меньше, чем вопросы религиозной солидарности. Он несомненно был искренним приверженцем протестантизма, но одновременно не упускал случая использовать религиозные чувства своих подданных для того, чтобы получить поддержку германского похода. Как отмечают финские историки, король и его канцлер Аксель Оксеншерна вели «целенаправленную и хорошо организованную пропаганду». Год за годом шведам и финнам рассказывали ужасные истории про то, как «немецкие протестанты страдают от ужасных гонений, как войска императора приближаются к границам Швеции, грозя принести те же бедствия ее народу»589].
Идеологическая обработка солдат дополнялась жесткими дисциплинарными мерами и суровыми наказаниями. Смертная казнь в шведской армии полагалась за 43 различных проступка. Это было самое жесткое военное законодательство в тогдашней Европе. Запрещено было любое насилие «против священников, стариков, женщин, девиц и детей, кроме тех случаев, когда те сами нападали на солдат»[590]. Для повышения дисциплины военнослужащих впервые в Европе стали сечь шпицрутенами.
«Наша пехота служит не за деньги, — говорил Густав Адольф. — И они не завлечены на службу обманом, не зная о тяготах и опасностях войны, в тавернах, где людей вербуют, выставляя им выпивку. Нет, мы отобрали лучших, среди множества наших сельских жителей, готовых служить стране. Они привыкли к труду и испытаниям, им не страшны ни жара, ни холод, ни голод, ни отсутствие сна и они готовы сражаться и работать, не щадя себя»[591].
Семидесятитысячная армия короля Густава Адольфа в начале XVII века была, как замечает Дельбрюк, по отношению к населению страны более массовой, чем армия, выставленная Пруссией против Наполеона в 1813 году[592]. Хотя данные о численности населения Шведского королевства, приводимые немецким историком, несколько занижены, это не меняет принципиальной картины[593]. Способность шведских королей мобилизовать людские и материальные ресурсы для достижения своих военно-политических целей превосходила все, что было известно в тогдашней Европе.
Несмотря на это призыв обеспечивал не более половины потребности короля: иностранных наемников все равно приходилось использовать. На шведской службе оставались шотландские и ирландские полки. В начале XVII века английские власти в Дублине сознательно отправляли непокорный элемент подальше от греха в Швецию, продавая мятежников в качестве пушечного мяса союзной монархии. Общее число шотландских (на самом деле — британских) полков достигло восьми к 1624 году. В следующем году еще один полк был сформирован для гарнизонной службы в Риге, как замечал Густав Адольф, «при обязательном условии, что шотландцев обеспечат теплой одеждой, чтобы выдержать холод»[594]. Изрядная часть солдат набиралась в горной Шотландии. Однако положение иностранных военных специалистов и их роль в армии изменились. Большинство шотландских офицеров, выживших в войнах Густава Адольфа, пополнили ряды шведского дворянства.
Не удивительно, что шведские войска, высадившись в Германии, вызвали ужас у немецких наемников, которые шли служить ради заработка. К тому же эта армия, приходя на неприятельскую территорию, не грабила!
Александр Нестеренко в качестве примера гуманности Запада — в противовес грабежам русских — приводит эпизод с захватом Новгорода шведами в разгар «Смуты». Описывая образцовое поведение победителей в занятом городе и великодушные условия капитуляции, он с пафосом заключает: «Предложи шведы сегодня на таких условиях признать Новгороду или любому другому городу России власть шведского короля, — это предложение с радостью было бы принято»[595]. Однако поведение шведской армии в XVII веке было удивительным исключением, которое потрясало не только новгородцев, но и немцев.
Дельбрюк называет Густава Адольфа «последователем военного искусства Морица Оранского», добавляя, впрочем, что тот «не только воспринял и развил новую тактику, но и положил ее в основу стратегии широкого масштаба»[596]. Уроки Морица Оранского действительно сыграли немалую роль в формировании шведского боевого порядка. Современники отмечали, что у Густава Адольфа войско было «дисциплинировано и обучено по нидерландскому образцу», в то время как в Германии «солдаты часто бродят как стадо быков или свиней»[597]. Однако напрасно Арриги представляет распространение военного опыта как своего рода «передачу технологий», сознательно организованную правящим классом Нидерландов. Показательно, что немецкие протестантские князья, непосредственные соседи и ближайшие союзники буржуазных Нидерландов, перенять и даже просто усвоить голландские уроки были не в состоянии. Совсем иное дело — Швеция, чья армия была уже в начале XVII века организована по новому образцу.
Именно поэтому шведы оказались способны не только воспринять идеи голландских военных реформаторов, но и далеко превзойти своих учителей. А французские деньги помогли им выполнить первое условие голландской военной реформы: обеспечить военных своевременным и регулярным финансированием.
Мощь шведской армии опиралась не только на организационные достижения Густава Адольфа, поддержанные его наследниками, но и на промышленное развитие, которому королевская власть придавала огромное значение. Благодаря улучшению качества литья шведская металлургия начала превращаться в основу настоящего военно-промышленного комплекса.
Частное предпринимательство и государственная политика были и здесь, как во многих других европейских странах, тесно связаны между собой. Шведские военные усилия финансировались амстердамским банкиром Луи де Геером (Louis de Geer), который создал транснациональную компанию, «империю, которая по своему значению и масштабам могла бы сравниться с позднейшими компаниями Круппа и Ротшильда вместе взятыми»[598]. За кредиты и поставки королевское правительство расплачивалось, предоставляя производственные концессии (часто на вновь завоеванных территориях). Данные концессии, в свою очередь, закладывали основу новой шведской промышленности. На свои предприятия де Геер и его коллеги, братья де Беше (de Besche brothers), привезли большое количество специалистов, как из Голландии, так и из Южных Нидерландов (главным образом из Льежа), которые поставили производство в соответствии с новейшими технологиями. Особое значение для шведской промышленности имели новые методы выплавки металла. По словам американского историка Франклина Скотта (Franklin Scott), де Геер был не только богатым инвестором, но и «гением организации, человеком, который перевел производство оружия из ремесленной формы в индустриальную, а затем наладил и экспорт»[599]. В 1627 году, после того как большая часть его предприятий сосредоточилась в Швеции, он сам, вслед за своими капиталами, перебрался в эту страну.
Агрессивная внешняя политика шведских королей в целом способствовала экономическому развитию. «Военные действия стимулировали экономику по целому ряду направлений. Правительство, как и во многих других странах, контролировало значительную часть горнодобывающей промышленности, а затем начинало брать на себя и другие функции. Стремясь увеличить свою мощь, Швеция подала другим странам пример того, как можно мобилизовать естественные ресурсы страны в военных целях. Запасы меди, открытые в 1570-х годах, наряду с железом разрабатывались теперь на экспорт, но этот экспорт использовался для целей внешней политики»[600]. Поскольку медь и железо использовались для производства оружия, их в полной мере можно назвать стратегическим сырьем. После окончания Тридцатилетней войны производство вооружения явно превышало потребности шведской армии. Разросшийся за годы непрерывных конфликтов военно-промышленный комплекс к середине XVII века стал работать на экспорт. Например, в 1655–1662 годах произвели 11 000 пушек, из которых экспортировали 9000[601].
Впервые в истории правительство не только снабжало свою армию оружием, но и занималось модернизацией и стандартизацией вооружения, проводя для этого специальные изыскания. Целенаправленная работа специалистов, проводившаяся по прямому указанию королевской власти, привела в 1629 году к появлению нового оружия — легкой «полковой пушки» (regementsstycke). Это четырехфунтовое орудие перевозилось одной или двумя лошадями, несколько солдат могли катить ее прямо по полю боя рядом с наступающими шеренгами пехоты, а стреляло оно картечью вместо ядер. Появление полковой артиллерии резко меняет тактику, повышая огневую мощь пехоты. Российский историк С.А. Нефедов замечает, что полковая пушка, стала «оружием победы» шведской армии в Тридцатилетней войне[602].
Благодаря усилиям шведского военно-промышленного комплекса произошла стандартизация и облегчение веса вооружения. Калибр мушкета был уменьшен. Новый облегченный мушкет был снабжен колесцовым замком (придуманным еще Леонардо да Винчи). Теперь мушкетеры могли обходиться без сошек при стрельбе. Были введены бумажные патроны и патронташи. Пехота стала более маневренной и стреляла быстрее, чем ее противники. Отлично обученные и дисциплинированные войска оказались способны совершать стремительные марши, появляясь там, где неприятель не ждал. В этом плане Густава Адольфа можно считать, с одной стороны, продолжателем традиции Генриха V английского, а с другой стороны, предшественником Фридриха Великого, генералов Французской революции и Наполеона Бонапарта. Неповоротливые колонны по 2000–3000 человек были заменены полками по 1200–1300 бойцов, неизменно состоявшими из 4 рот. Каждому полку были приданы две пушки. Кавалерийские полки были разделены на эскадроны по 125 всадников.
На протяжении всего XVI века полководцы экспериментировали, меняя соотношение пикинеров и мушкетеров. В армии Густава Адольфа пикинеры составляли всего одну треть пехоты, а остальные были вооружены мушкетами. Это соотношение, распространившееся позднее по другим европейским армиям, продержалось до начала XVIII века, когда пика окончательно была вытеснена штыком. Поскольку мушкет теперь играл большую роль, чем пика, изменилась и тактика. Глубокие колонны были заменены линейным построением, позволявшим более эффективно вести огонь. Снабжение войск было налажено с помощью организации складов и тыловых баз.
Тщательно подготовленная, хорошо обученная, обеспеченная всем необходимым, дисциплинированная и превосходно вооруженная шведская армия, вступив в Тридцатилетнюю войну, резко меняла соотношение сил. К тому моменту, когда войска Густава Адольфа высаживались в Германии, победа Габсбургов казалась неминуемой. Протестантские князья были разгромлены, попытка датского короля выступить на защиту единоверцев окончилась позорным провалом, и в Вене уже обсуждали планы послевоенного переустройства германского политического пространства, все еще носившего средневековое название Священной Римской империи. Именно эти планы и ускорили шведское вторжение. Формальным поводом для похода шведов в Германию был Эдикт о Реституции (Das Restitutionsedikt) от 6 марта 1629 года, которым император фактически пересматривал условия Аугсбургского мира. Возврат церковной собственности должен был сопровождаться активными мерами по контролю императорской администрации на территории, формально принадлежавшей протестантским князьям.
Франция тем временем был занята локальной войной за Мантуанское наследство — герцогской короны здесь добивался французский ставленник Карл Неверский, поддержанный венецианцами. Габсбурги, естественно, выступали против его кандидатуры. Военные действия складывались не лучшим образом для Франции и ее сторонников, тем более, что Ришелье смог направить для участия в конфликте лишь ограниченный контингент. В то самое время как в Германии французская дипломатия защищала интересы протестантских князей и свободу веры, ее вооруженные силы были заняты на внутреннем фронте экспедициями против гугенотов в Ла-Рошели и Лангедоке. Тем не менее, как часто бывало у Ришелье, с помощью дипломатии удалось добиться того, чего не удалось достичь силой оружия. Мантуя перешла к герцогу Карлу. В обмен Габсбурги получили от французов обязательство, что те не станут выступать против них с оружием в немецком конфликте, но мирный договор остался не ратифицирован, так что позднее, когда армии Ришелье и Людовика XIII все же двинулись в Германию, никто не мог формально уличить Париж в неисполнении своих обязательств.
Высадка Густава Адольфа резко изменила политическую ситуацию, расстановку и соотношение сил. «Шведская интервенция застала Германию совершенно неподготовленной, — пишет немецкий историк. — Протестантский лагерь был обессилен и дезориентирован, а в католическом лагере не было единства ни относительно целей, ни относительно способов ведения войны»[603]. После первых побед над имперскими войсками Густав Адольф фактически был хозяином положения. Но и силы Габсбургов были далеко не сломлены.
Решающее сражение с имперскими войсками Валленштейна при Лютцене (Luetzen) закончилось победой шведов, но Густав Адольф погиб, объезжая передовые позиции — короля подвела близорукость, стремясь разобраться в ситуации, он слишком близко подъехал к неприятельским боевым порядкам. Смерть лидера не остановила работу налаженной им военной машины, которая оказалась в значительной мере самодостаточной. Но по мере того как война затягивалась, ресурсы Швеции истощались. Армию, гордившуюся своей дисциплиной и боевым духом, приходилось пополнять за счет немецких наемников, в Финляндии просто не хватало мужчин для замены выбывающих из строя бойцов.
В 1634 году успехи сменились для шведов чередой неудач. После катастрофического поражения при Нердлингене (Noerdlingen) канцлер Оксеншерна бросился за помощью в Париж. Он был принят кардиналом Ришелье в апреле 1635 года. Канцлер показался кардиналу «несколько готическим и очень финским»[604], но в целом они легко нашли общий язык. По словам скандинавских историков, «союз с Францией вновь вернул Швеции былую славу и позволил ей в течение длительного времени содержать большую боеспособную армию, профессионализм которой постоянно возрастал»[605]. Шведы не остаются в долгу. Войдя в Эльзас и вытеснив оттуда имперские войска, они передают ключевые крепости французам, готовя переход этой территории под власть Парижа. В 1635 году были подписаны новые договоры со Швецией и Голландией. В 1640 году не без влияния французов разразился антигабсбургский мятеж в Каталонии. Как только Португалия получила независимость от Мадрида, она заключила с Францией договор о союзе. Эта политика альянсов уже после смерти Ришелье была закреплена Гаагским договором со Швецией и Копенгагенским договором о союзе с Данией. Не удивительно, что историки сходятся на мнении — что именно благодаря Ришелье «была предотвращена угроза испанско-австрийской гегемонии в Европе»[606].
Унаследовавшая власть в Швеции королева Кристина оказалась деятельной и добросовестной продолжательницей его политики, хотя значительную роль в управлении на первых порах по-прежнему играл канцлер Оксеншерна. Скандинавские историки называют дочь Густава Адольфа «одной из самых замечательных женщин в истории»[607]. Автор не слишком оригинальных, но хорошо написанных книг, главной из которых оказалась ее автобиография, поклонница Декарта, шведская королева была по своим склонностям скорее интеллектуалом, нежели политиком, что не помешало ей оказаться вполне эффективным руководителем государства. Густав Адольф «не скрывал своего разочарования, когда у него родилась дочь, но воспитывал Кристину как мальчика»[608].
Швеция продолжала борьбу энергично и настойчиво, демонстрируя всей Европе образец северной стойкости. По словам французского историка, после смерти Густава Адольфа начинания героического короля «превратились в общенациональное дело»[609]. Но отныне Стокгольм полностью зависел от Парижа, а Франция могла в полном объеме добиться своих целей, но лишь ценой прямого участия в военных операциях. Дипломатия в ходе конфликта эффективна лишь тогда, когда есть готовность и решимость применить силу. Несмотря на всю свою осторожность, Ришелье прекрасно понимал это.
Никакие дипломатические усилия не могли заменить успехов на поле боя. А здесь события складывались далеко не так, как хотелось парижским стратегам. Блестящих побед, одержанных шведскими войсками на первых порах после их прибытия в Германию, оказалось недостаточно, чтобы переломить ход борьбы, противостояние затягивалось. Протестантские князья Саксонии и Бранденбурга примирились с императором, а в марте 1634 года испанские войска захватили Трир, находившийся под покровительством Франции. Этой провокации Париж уже не мог оставить без ответа. Война была объявлена.
На первых порах, однако, военное счастье отвернулось от Франции. В августе 1636 года испанские войска стояли уже недалеко от Парижа, взяв прикрывавшую столицу крепость Корби (Corbie). Современники писали, что «с парижских стен видны были огни бивуаков испанской армии»[610]. Из-за непомерного налогового бремени в разных частях страны начались бунты. Новые фискальные эдикты «Парижский парламент регистрировал лишь под сильным давлением правительства. Бордосский парламент отказал в их регистрации, и в Бордо вспыхнуло восстание против налога на вино, парламент в Тулузе издал постановление о запрещении взимать новые налоги»[611]. Придворные заговорщики планировали убийство Ришелье. Но у Габсбургов уже не было сил для развития успеха, заговор был, как и все прочие, разоблачен, а французские войска вернули Корби. Ришелье удалось собрать новую мощную армию. Три года спустя французы, после длительной осады, овладели стратегически важной крепостью Брейзах (Breisach) на Верхнем Рейне. Заняв эту позицию, войска кардинала перекрыли «испанскую дорогу», по которой снабжались испанские войска в южных Нидерландах, отрезали эту территорию от Австрии и Баварии. Когда Ришелье умер в 1642 году, французские армии уже чувствовали себя хозяевами на западе Германии, заняв Эльзас и Лотарингию. В 1644 году французы заняли Рейнскую область. Войска маршала Тюренна и принца Конде (Cond) вместе со шведскими солдатами генерала Врангеля приближались к Вене. Вестфальский мир 1648 года и Пиренейский мир с Испанией 1659-го оказались торжеством Франции, превратившейся в сверхдержаву новой Европы.
Вестфальский мир, завершивший Тридцатилетнюю войну, сделал Париж вершителем судеб Европы. В публицистической литературе конца XX века нередко можно встретить мнение, будто Вестфальский мир положил конец средневековой политике, заменив феодальные группировки новой системой суверенных территориальных государств. В итоге «не-территориальные политические игроки — города-государства, лиги городов, феодальные правители и другие корпоративные игроки исчезли из международной политики»[612]. Историкам хорошо известно, что подобная интерпретация Вестфальского мира, есть не более чем миф. Вестфальский мир отнюдь не был всеобщей конвенцией о государственном суверенитете, какой его пытались представить публицисты конца XX столетия. Мир 1648 года был «весьма далек от того, чтобы сформулировать современные правила международных отношений». Напротив, он представлял собой кульминацию политического процесса, основой которого была «династическая и абсолютистская политика»[613]. Принцип неограниченного территориального суверенитета и формально равного статуса всех государств был закреплен лишь после наполеоновских войн Венским конгрессом 1814–1815 годов, когда Священная Римская империя перестала существовать.
Для развития международного права Вестфальский мир дал очень мало нового, поскольку воспроизводил принципы, сформулированные Аугсбургским миром. Он дополнял его условия тем, что фиксировал нерушимость обязательств правителей по отношению к церковным институтам, а также неизменность границы между протестантскими и католическими землями в Германии. Князь, решившийся сменить веру, отныне автоматически лишался короны.
Тем не менее Вестфальский мир действительно был переломным этапом в истории Европы. Он радикально изменил соотношение сил между ведущими европейскими государствами, положив конец доминирующему положению Габсбургов на континенте. И если Австрия к началу XVIII столетия сумела исправиться, то Испания обречена была превратиться во второстепенную державу.
По словам Ансильона, главная цель французской и шведской дипломатии состояла в том, «чтобы Австрийский дом не мог отныне считать князей империи своими подданными, а территорию империи — своими провинциями»[614]. Раздробленность немецких земель была закреплена международным правом. Главным политическим итогом войны стало то, что в качестве государственного целого Германия полностью перестала существовать, возродившись лишь во второй половине XIX века. Социально-экономические и демографические последствия были не менее катастрофическими. «Даже Вторая мировая война не имела для Германии таких разрушительных последствий, как Тридцатилетняя. Потери населения составили за период 1618–1648 годов в целом по стране около 40 %, а в городах примерно 33 %»[615]. Основной ущерб нанесли не сражения, а грабежи и насилия наемных войск, голод и эпидемии.
Если Германия — как протестантская, так и католическая — оказалась главной жертвой войны, то и страны-победители понесли немалый урон. Самые большие потери пришлись на долю Швеции. Около полумиллиона шведских и финских солдат погибли в боях или умерли от болезней за время Тридцатилетней войны[616]. Потери мужского населения были настолько велики, что во многих областях страны, особенно в Финляндии, женщины брали на себя мужские обязанности. Это касалось не только крестьянок, которым приходилось пахать и рубить дрова, но и аристократок, бравших на себя управление имениями. Возможно, в событиях того времени следует искать истоки культурной традиции, приведшей к стремительному распространению феминизма в Скандинавии середины XX века. «Слава Швеции обернулась горем для Финляндии» (Sweden’s glory had become Finland’s doom), — писал американский историк[617]. По мере того как увеличивались тяготы, связанные с поддержанием военных усилий стокгольмской монархии, усиливалось и недовольство. Налоги и рекрутские наборы нестерпимым грузом ложились на финскую деревню. Однако выступления протеста носили не национальный, а, прежде всего, социальный характер. Сельское население сопротивлялось политике центральной власти, региональные элиты высказывали недовольство столичным управлением.
Тем не менее число шведских подданных приумножилось — за счет территорий, захваченных в Германии и присоединенных к северной державе по Вестфальскому миру. Если к началу правления Густава Адольфа население его королевства составляло 1,3 миллиона человек, то к концу Тридцатилетней войны под властью шведской короны находилось около трех миллионов подданных. Впрочем, росту населения способствовало не только это. Политический успех Швеции сделал страну привлекательной для купцов и ремесленников, промышленных и военных специалистов, переселявшихся сюда с разных концов Европы, открывавших здесь свои конторы, нанимавшихся на службу. Королева Кристина, наследовавшая Густаву Адольфу, не ограничивалась приглашением технических специалистов, она, по словам французского историка, «поощряла науки и приглашала в свою страну людей искусства», хотя в последнем случае она так и не смогла найти гениев, которые прославили бы ее правление в Швеции — «блестящая эпоха литературы была еще впереди»[618]. Население Стокгольма выросло в шесть раз, в том числе за счет иммиграции. Многие купцы с континента открывали в Швеции свои конторы или даже сами перебирались сюда. В том числе относилось это и к выходцам из экономически процветающей, но политически приходившей в упадок голландской республики. Динамично развивающаясяшведская монархия открывала для нидерландских предпринимателей горизонты новых возможностей, заставляя их переносить сюда свои капиталы и самих переселяться в это северное королевство. Вестфальский мир был пирровой победой для Швеции. Силы страны были подорваны, но в коалиции с Францией она оставалась влиятельной политической силой.
Именно Франция стала главным победителем в Тридцатилетней войне. Она, говоря словами ее историков, завладев Эльзасом и Лотарингией, вышла к «своим естественным границам»[619]. Ее армии свободно перемещались по Западной Европе, диктуя свою волю побежденным. Слава ее генералов — Тюренна и Конде — не знала себе равных. Даже английский диктатор Оливер Кромвель, считавшийся при жизни великим полководцем, отправлял своих «железнобоких» служить под начало Тюренна. Испания, несмотря на огромные масштабы своей заокеанской империи, утратила значение в Европе. Австрии нужно было время, чтобы восстановить себя после поражения в 1648 году. Англия оставалась неостровным государством, поглощенным внутренними конфликтами. Ни один двор не мог сравниться по блеску с двором Людовика XIV, «короля-Солнце». Преодолев испытания Фронды и стабилизировав внутреннее положение, французская монархия выглядела самой мощной политической силой континента, а французская буржуазия, окрепшая благодаря политике Жана-Батиста Кольбера, выглядела столь же внушительной силой экономически.
Франция находилась на вершине славы и могущества. В ту блестящую эпоху, пишет Фредерик Ансильон, никто не решался открыто бросить вызов Парижу. «Все другие державы Европы были либо тайными и бессильными врагами, либо друзьями Франции; в делах мира и войны, в изяществе искусств и в духовных поисках — во всем монархия Людовика XIV лидировала на континенте, а другие государства взирали на нее с восхищением, признавали ее роль и подражали ей»[620].
И все же претензии Франции на гегемонию в Европе, оформившиеся еще при Ришелье и открыто продемонстрированные Людовиком XIV, наталкивались на сопротивление возрастающего числа противников, способных все более эффективно противостоять военной и политической мощи Парижа. Традиционный альянс со Швецией, сохранившийся до начала XVIII столетия, уже не компенсировал возникновения новых, все более широких коалиций, за которыми стояли после 1688 года совместные интересы правящих классов Голландии и Англии. Восстанавливающаяся Австрия и новое королевство Пруссия, сложившееся за счет слияния курфюршества Бранденбург с Прусским герцогством, выдвигали собственные претензии на влияние в Европе.
В первой половине XVII века успех франко-шведского союза был обеспечен сочетанием французской политики, основанной на новаторской централизации и эффективном бюрократизме, и шведского рационального милитаризма, на основе которого была сформирована первая национальная армия Нового времени. Однако уже к концу столетия и тот, и другой опыт начали активно перенимать другие правительства. С одной стороны, военные методы, принесшие успех шведам в XVII веке, уже не были ни для кого секретом (их военная организация превосходно имитировалась другими армиями), а с другой стороны, политическая организация французской монархии стала образцом, по которому преобразовывали себя государственные машины почти всех европейских стран.
В 1675 году курфюрст Бранденбурга Фридрих Вильгельм нанес пятнадцатитысячной шведской армии поражение при Фербеллине (Fehrbellin). Эта битва стала, как отмечает российский историк, «самым тяжелым поражением „северных львов“, известным до Полтавской битвы. На кровавых фербеллинских полях шведы были разбиты наголову армией курфюрста численностью всего 8000 человек и вынуждены уйти из Бранденбурга на территорию своих померанских владений»[621]. В ходе последовавших затем блестящих кампаний пруссакам удалось фактически вытеснить шведов из Германии. Попытка шведов вторгнуться в принадлежавшую Фридриху Вильгельму Пруссию завершилась очередным фиаско и бегством к стенам Риги. Однако последующий мирный договор лишил курфюрста его завоеваний, ибо в дело вмешалась Франция, не допустившая разгрома своего союзника. По мирному договору 1679 года Швеция вернула себе почти все утраченные земли.
Тем не менее Фербеллин не стал переломной точкой, но знаменовал возникновение нового расклада на континенте. Стокгольм все более зависел от Парижа в деле сохранения своей империи, а гегемония Франции, совсем недавно закрепленная Вестфальским и подтвержденная Пиренейским миром 1659 года, сталкивалась с растущим сопротивлением.
МЕРКАНТИЛИЗМ И ВОЕННАЯ ЭКОНОМИКА
Если возникновение регулируемого капитализма XX века было в значительной мере связано со Второй мировой войной, то в XVII веке меркантилизм точно таким же образом вырастал из военной экономики своего времени. Разница лишь в том, что идеи Дж. М. Кейнса, выступившего в XX веке пророком правительственного регулирования, были сформулированы в основном до того, как подобная практика стала нормой для большинства западных стран, тогда как Жан Батист Кольбер, с именем которого связано систематическое обоснование меркантилистской политики, обобщал практический опыт, стихийно накапливавшийся на протяжении по меньшей мере поколения.
Тридцатилетняя война и гражданская война в Англии, множество более мелких международных и внутренних конфликтов создавали новые условия, с которыми должны были считаться правительства, стремящиеся добиться успеха.
Русский историк начала XX века Н. Кареев определяет меркантилизм как «торговое направление», политику, «проникнутую торговым духом, ставящую на видное место интересы торговли, оказывающую особую поддержку торговой деятельности и занимающемуся ею общественному классу. В меркантилизме само государство стремится сделаться торговым, видя в торговле главный источник своего обогащения и полагая, что богатство государства или, точнее говоря, государственной казны заключается в приливе денег, звонкой монеты, золота и серебра»[622].
Между тем сам термин «меркантилизм», появившийся лишь задним числом в трудах Адама Смита и других теоретиков либерализма, использовался ими как раз для того, чтобы характеризовать всевозможные ограничения, накладывавшиеся государством на торговлю, стеснение ее свободы и рыночных отношений вообще.
Отсюда, однако, вовсе не вытекает, будто Кареев не прав, характеризуя «торговое направление» западного абсолютистского государства. Дело лишь в том, что с некоторых пор поощрение и развитие торговли отнюдь не связывалось со свободным рынком. Как раз наоборот. Опыт свободной торговли XVI и начала XVII века обернулся затяжным общеевропейским кризисом и перераспределением ресурсов со всего континента в пользу узкого круга голландской купеческой олигархии. Новая торговая политика государства отличалась от старой тем, что делала ставку, во-первых, на регулирование рынков, ограничение торговых операций, которые могли вести к оттоку ресурсов из страны, а во-вторых, непосредственно связывала поддержку торговли с развитием промышленности и накоплением капитала в собственной стране. Поскольку меркантилизм положил конец стихийному процессу глобального перераспределения и накопления капитала, заменив его новым типом накопления, сконцентрированного в рамках конкретных стран, постольку он оказался и важнейшим фактором развития национальных рынков и национального государства. Упорядочивая бюрократию, принимая единые правила в сфере образования и утверждая вокруг двора и правительства единые культурные стандарты, увеличивая роль столицы по отношению к провинции и заставляя все подвластные земли ориентироваться на ее нравы, правила и стиль, меркантилизм и абсолютизм, неразрывно связанные между собой, формировали не только новый тип национального государства, но и сами нации.
Рыночная экономика — не только обмен товаров в соответствии с законом стоимости, но в первую очередь, — производство ради обмена (в отличие от функции рынка в традиционной экономике, когда обмениваются излишки продукции, производимой для собственного пользования). При отсутствии непосредственной связи между потребителями и производителями вакуум заполняется торговыми посредниками, которые, в свою очередь, (со времен Античности) разными способами подчиняют себе и производителя, и потребителя. Именно посредническая торговля, мастерами которой были голландцы, становится в раннее Новое время самым быстрым и эффективным способом накопления капитала. Однако такой метод эксплуатации общества ведет к деградации производства и сдерживает рост потребления, что в конечном счете подрывает производственную базу самого торгового капитала. Переход от торгового капитала к производственному становится ключевым вопросом развития, но сам капитал собственными силами осуществить этот переход не может, поскольку это означает и отказ ориентации на использование «дешевых» ресурсов, и снижение нормы прибыли.
Кризис XVII века, как и аналогичные провалы рынка в более поздние эпохи, остро поставил вопрос о роли государства в экономике. Ответом европейских правительств был протекционизм, поддержка промышленности и создание торговых монополий под покровительством королевской власти. «Система протекционизма, — признает Маркс, — была искусственным средством фабриковать фабрикантов, экспроприировать независимых работников, капитализировать национальные средства производства, насильственно ускорять переход от старого способа производства к современному»[623]. Однако речь идет о чем-то большем, нежели просто ускорении процесса, который и так имел место. Одновременно с изменением хозяйственной политики государства происходит перелом в самом характере буржуазного развития. Благодаря вмешательству правительств происходит переориентация крупного капитала с торговли на производство, организация промышленных предприятий становится выгодным делом.
Точно так же как идеология свободной торговли, распространенная в XVI веке, демонстрирует явные черты сходства с теориями, сформулированными Адамом Смитом двумя столетиями позже, так и меркантилизм Кольбера и его последователей в значительной мере предварял идеи, разработанные в XX веке Дж. М. Кейнсом. Однако в отличие от более поздних времен раннему капитализму еще не свойственно жесткое разделение теории и практики, академического исследования и общественной деятельности. Люди, принимавшие решения, сами же обосновывали свою политическую позицию, опираясь на результаты практического опыта в гораздо большей степени, нежели на теоретические аргументы, которые, впрочем, они в случае необходимости сами же находили по ходу дела.
Хотя меркантилистская теория зародилась задолго до Кольбера, именно кризис XVII века придал актуальность идее защиты внутреннего рынка. Разумеется, речь шла о достаточно простом видении роли государства, которая сводилась к двум задачам. Правительство должно было заботиться о том, чтобы вывоз драгоценных металлов из страны ни в коем случае не превышал их приток, иными словами, сальдо торгового баланса должно быть положительным. Отсюда следует необходимость поощрять собственную промышленность таким образом, чтобы замещать импорт и расширять экспорт. Там, где частный капитал не может или не хочет вкладывать деньги в производство, особенно — в крупное, государство само становится инвестором, обеспечивая не только инвестиции, но и сбыт продукции, внедрение новых технологий, подготовку кадров и стратегическое планирование.
Классовая природа меркантилистской идеологии была более чем ясна. «Меркантилисты, — писал Кареев, — в сущности, проповедовали солидарность интересов фиска и капиталистических предпринимателей в областях торговли и промышленности. Теоретиков этой системы совсем не занимали интересы других классов общества, то есть ни потребителей, ни промышленных рабочих, ни сельских хозяев. Все должно было приноситься в жертву коммерции и индустрии»[624]. По сути, абсолютная монархия способствовала «возвышению торгово-промышленных классов, и притом верхних, капиталистических, предпринимательских слоев, среди групп, занятых промышленностью и торговлей»[625]. Для традиционных элит, сохранявших прежний статус, но постепенно терявших реальный социально-экономический вес, важнейшим источником благосостояния становилась государственная служба — военная и бюрократическая, позволявшая им использовать свой статус как своего рода конкурентное преимущество в рамках формирующегося капитализма.
Участие традиционных элит в формировании новой системы отнюдь не сводилось, однако, к паразитическому присвоению и перераспределению результатов хозяйственного развития. Взяв на себя заботу о военно-политическом обслуживании растущей торговли и промышленности, чиновники и военные играли огромную роль в успехе или неудаче инициатив, от которых зависело накопление капитала.
Значительный стимул к развитию промышленности дали военные заказы, которые размещаются как на частных предприятиях, так и на казенных заводах, обслуживающих армию и флот. Состояние почти постоянной войны или вооруженного противостояния, характерное для XVII и начала XVIII века, создает идеальную политическую обстановку для такой хозяйственной деятельности. Если раньше связь между капиталом и государством осуществлялась главным образом посредством кредита, то теперь наступает время прямого поощрения производства, причем происходит это далеко не только в форме военных заказов.
Подчеркивая роль военных расходов государства в становлении капиталистической экономики, Чарльз Тилли разумеется прав, поскольку, действуя таким образом, королевская власть не только финансировала развитие производства, но и способствовала накоплению капитала. Однако было бы неверно предполагать, будто военные потребности государств были единственным поводом для объединения усилий власти и капитала. Напротив, именно их постоянное сотрудничество во всех сферах, включая, не в последнюю очередь, формирование новой, буржуазной по своему происхождению и культуре бюрократии. Сотрудничество между централизованной монархией и буржуазией происходит на множестве уровней, начиная от формирования почтовой службы, заканчивая регулированием товарных рынков, поддержанием безопасности на дорогах и устройством роскошных увеселений двора. Сближение капитала и монархии формировало новую структуру интересов, а уже, в свою очередь, эти интересы, сталкиваясь, порождали международные конфликты, войны, противостояние государств и коалиций.
Меркантилистская политика предусматривала создание монопольных торговых компаний при активной поддержке правительства, индустриализацию, проводившуюся через субсидии промышленности и государственные инвестиции, даже создание королевских мануфактур. Высокие пошлины на импортные товары должны были обогатить казну и защитить местных производителей от конкуренции, способствуя развитию их предприятий. Замещение импорта стало важнейшим приоритетом экономической политики.
В переходе европейских держав от свободного рынка к меркантилизму тон задавала Франция, стремительно превращавшаяся в политического и экономического лидера континента. Протекционистская политика по отношению к промышленности начала проводиться здесь уже во времена Ришелье. Правительство не только размещало военные заказы и строило мануфактуры для производства оружия, но и способствовало развитию в тех отраслях, которые не имели к армии и флоту никакого отношения. «Усилия, направленные на защиту промышленности или, точнее, на ее развитие, в первую очередь способствовали росту текстильного производства», — констатирует Валлерстайн[626].
Как отмечает М. Покровский, теория и практика меркантилизма «не стояла все время на одном месте, и в то время как ранний меркантилизм опирался исключительно на торговлю ценным сырьем, особенно колониальным, в XVII веке стали осознавать всю выгодность сбыта фабрикатов, особенно когда в фабрикаты перерабатывалось местное сырье, которого не было у других»[627].
В середине XVII века, когда идеи меркантилизма (пусть еще не получившие этого названия) были сформулированы и последовательно воплощены в жизнь Жаном Батистом Кольбером, Франция совершает резкий экономический рывок, приобретая на рынках Европы вес, соответствующий ее политическому влиянию. «Первоначальный капитал, — констатирует Маркс, — притекает здесь в промышленность прямо из государственной казны»[628].
К аналогичным методам прибегали в XVII веке и в Англии, независимо от того, кто находился в тот или иной момент у власти — Стюарты, парламент или Оливер Кромвель. Экономический курс, сложившийся при протекторате Кромвеля, с небольшими колебаниями продолжал осуществляться последующими режимами. Для британской политики XVII и начала XVIII века типично сочетание свободы торговли с жестким государственным вмешательством на «стратегических» направлениях. Англичане первыми догадались подчинить логике меркантилизма финансовую деятельность. В 1664 году был учрежден Банк Англии (The Bank of England). Отныне правительство могло влиять на состояние финансов не только чеканя монету и собирая налоги, но и устанавливая банковский процент. В свою очередь, французская модель была взята на вооружение правящими кругами Пруссии, Саксонии, Австрии и даже России.
Военно-политический подъем Бранденбурга и Пруссии в конце XVII и на протяжении XVIII века тесно связан с меркантилистским курсом в области экономики. После Тридцатилетней войны, по словам французского историка, Бранденбург представлял собой сплошные руины. «Страна была разорена и обезлюдела; путешественник, проезжающий по ее дорогам, мог видеть только дымящиеся развалины и нищих»[629]. Однако энергичные усилия правительства быстро привели к восстановлению экономики. Государственная поддержка оказывалась всем ведущим отраслям — горнодобывающей, деревообрабатывающей, производству льняных тканей. Она принимала форму контроля над импортом или централизованного распределения вырубок древесины. Существовали государственные монополии на отдельные виды производства: шелка, стекла, позднее — фарфора и, разумеется, вооружения. Некоторые предприятия и отрасли отдавались правительством в концессии частным предпринимателям. Производство и продажа табачных изделий жестко регулировалось с середины XVIII века[630].
Эта политика, начатая еще Фридрихом Вильгельмом в XVII веке, была продолжена и усиливалась и его сыном Фридрихом Великим. Фридрих был известен как «усердный приверженец кольберовского меркантилизма»[631]. Основные усилия Прусской монархии в годы его правления были направлены на развитие текстильной промышленности и осушение болот. В 1747 году была установлена система валютного регулирования: никто не мог вывести из страны более 300 талеров. В 1753 году в преддверии Семилетней войны был создан Государственный банк. В 1765 году был учрежден Берлинский банк, а в 1772 году — Институт морской торговли. Строительство новых мануфактур было предметом постоянной заботы монарха не меньше, чем поддержание боеспособности знаменитой прусской армии. Собственно, боеспособность пруссаков поддерживалась не только постоянными маневрами и серьезной заботой о подготовке офицерского корпуса, но и способностью правительства поддерживать финансы в хорошем состоянии, создавая в мирное время резервные фонды на случай войны.
Когда ближе к концу века в моду стали входить либеральные идеи, Фридрих II жестко возразил своему французскому советнику, призывавшему покончить с протекционизмом, что в условиях Пруссии это преждевременно[632].
В Саксонии Августом Сильным было впервые в Европе налажено производство фарфора. Мануфактура в Майсене была организована по решению короля в 1710 году, после того как секрет изготовления фарфора был открыт алхимиком Иоганном Фридрихом Беттгером (Johann Friedrich Bttger). Маркс в «Капитале», описывая мануфактурный расцвет Саксонии, вспоминает замечание Мирабо. На вопрос о причинах этого расцвета наблюдательный француз ответил, что причина лежит на поверхности: «Достаточно обратить внимание на 180 миллионов государственного долга»[633].
В России первым проявлением меркантилизма стал Новоторговый устав 1667 года, где подчеркивалось, что все процветающие государства развивают «свободные и прибыльные торги», но правительства «остерегают торги с великим бережением»[634]. Комментируя соответствующий пассаж, Покровский пишет: «Фразы о „свободе“ и „вольности“ нас не должны смущать — речь тут идет не о „свободе торговли“ в том смысле, какой придал этому термину XVIII век, а об отмене всякого рода феодальных стеснений и поборов узко фискального характера, стеснявших обмен ради непосредственной грошовой выгоды царского, а раньше княжеского казначейства»[635]. Тем самым государство не только вмешивалось в рыночный процесс, организуя его, но одновременно «освобождало» рынок от феодальных пережитков, насаждая именно буржуазные принципы. Усилия первых Романовых были продолжены Петром Великим, при котором государство и само учреждало фабрики и стимулировало промышленное развитие, поддерживая частный капитал.
Экономическая политика Швеции может считаться классическим примером меркантилизма. Густав Адольф неоднократно повторял, что «процветание нации зависит от торговли и навигации»[636]. Однако достигался экономический подъем не за счет развития свободной торговли, а с помощью систематических усилий правительства. Этот подход сохранялся и после смерти короля в политике его наследников. Государство использовало любую возможность для пополнения казны. В середине XVII века власти стали даже вводить налоги на роскошь. Ввели налог на охотничьих собак, а потом и на парики.
«Весь XVII век может быть характеризован как время централизованного планирования, когда правительство направляет развитие экономики. Инициатива перемен шла из Стокгольма, зачастую — под влиянием иностранного примера, при поддержке иностранного персонала и капитала», — пишет американский историк[637].
Даже на фоне других европейских стран, проводивших схожую политику, пример Швеции выглядит по-своему исключительным. Дело не только в том, что здешние короли восприняли идеи меркантилизма одними из первых и реализовывали их с исключительным напором, энтузиазмом и эффективностью, которые вообще были свойственны большинству представителей династии Ваза. По существу их экономическая политика была меркантилистской еще до того, как эта идеология сложилась и распространилась по континенту. Швеция была не просто еще одним европейским государством, избравшим меркантилистский курс, она была государством, которое в значительной степени само было создано меркантилистской политикой.
Меркантилизм, как и кейнсианство в XX веке, обеспечил приток государственных средств для модернизации инфраструктуры. Франция при Кольбере в очередной раз показала пример всей остальной Европе, когда инициировала широкомасштабную программу ремонта, реконструкции и строительства дорог. Эти усилия уже не прекращались в последующие эпохи, несмотря на смену правительств и изменение приоритетов политики.
Надо сказать, что положение дел с сухопутными дорогами было в Европе почти повсеместно плачевным, что и предопределяло огромное значение водных артерий — не только морских путей, но также рек и каналов. Франция, находившаяся в стороне от великих европейских рек — Рейна и Дуная, уступавшая в развитии морской торговли Англии и Голландии, нуждалась в эффективной дорожной сети, чтобы развиваться. С 1661 года Кольбер систематически занимается этим вопросом, в 1669 году по всей стране назначены специальные комиссары, отвечающие за состояние мостов и дорог. Все сухопутные пути разделен на три категории — королевские дороги (chemins royaux), второстепенные дороги (chemins vicinaux) и местные дороги (chemins de travers). Для каждой категории введены свои стандарты ширины, нормы обслуживания. После смерти Кольбера в 1683 году усилия правительства в этом направлении постепенно сошли на нет, тем более, что заботы правительства были сосредоточены на внешнеполитических задачах. Показательно, что значение дорог как военного фактора в полной мере еще не осознавалось. Однако начатая работа возобновилась в середине XVIII века, когда во Франции была создана специальная академия дорожных инженеров. В 1668 году на строительство и ремонт дорог решено было выделять 0,8 % государственного бюджета, хотя на практике тратилось несколько меньше. В период между 1683 и 1700 годом правительство тратило на эти цели в среднем 771 100 ливров в год, в период 1715–1736 ежегодные расходы составляли уже 3 миллиона ливров, а накануне революции, в 1786 году затрачено на эти цели было уже 9 445 000 ливров[638]. Эти усилия дали впечатляющий результат. Если в 1660 году путь от Парижа до Бордо занимал 15 дней, то в 1789 году требовалось всего пять с половиной дней. Не было ни одного городка во Французском королевстве, куда нельзя было бы из Парижа добраться за две недели. Скорость движения по королевским дорогам достигала 20 километров в час, а выехав рано утром из Кале можно было к ночи быть в столице.
Эти впечатляющие достижения, впрочем, не сильно улучшили состояние дел с гужевым транспортом — в отличие от пассажирского сообщения перевозка грузов во Франции оставалась крайне медленной, поскольку направлялись они в обход «королевских дорог».
Подражая Франции, испанский монарх Карл III в 1767 году велел строить по всей стране «королевские дороги». В Германии на протяжении XVIII века почти каждое государство вводило у себя правила, аналогичные французским, начиная от Бадена в 1733 году, заканчивая Саксонией в 1781 году и Баварией в 1790 году. В Британии были приняты Дорожные акты (General Highway Acts) в 1766 и 1773 годах. На поездку из Эдинбурга в Лондон, которая в 1700 году занимала 11–12 дней, в 1800-м требовалось менее трех суток. В конце XVIII века, еще до изобретения паровоза, в Англии появились государственные железные дороги на конной тяге. Линия, проложенная между Кройдоном (Croydon) и Вандсвортом (Wandsworth), была предназначена для перевозки грузов, а другая, от Свонси (Swansea) до Мамблс (Mumbles) — для пассажирского сообщения. Именно существование этих дорог подтолкнуло инженеров к мысли о применении паровой машины на транспорте — первые экспериментальные паровозы появились в конце 1790-х годов, а в 1804 году прошло успешное испытание локомотива, способного тащить 10 тонн железной руды и 70 пассажиров со скоростью аж 8 километров в час.
Побочным эффектом развития дорожной сети оказалось распространение разбоя. «Чем больше на дорогах появлялось путешественников, — иронично замечает английский историк Тим Блэннинг (Tim Blanning), — тем больше появлялось и разбойников, которые хотели на них поживиться»[639]. Не удивительно, что развитие транспорта шло рука об руку с усилиями по поддержанию порядка и безопасности. Выяснилось, что от правительств требуется не только строить дороги, но и охранять их.
Странным образом в списке правительств, озабоченных улучшением внутренних коммуникаций, отсутствует Пруссия, что в очередной раз свидетельствует об отсутствии на тот момент понимания военного значения дорожной сети. В Европе ходили слухи, будто Фридрих Великий считал плохие дороги выгодными для экономики: «Чтобы иностранные купцы ехали дольше по плохим дорогам и, таким образом, оставляли в стране больше денег»[640]. Правда это или нет, но прусские дороги были в XVIII веке предметом сетований и издевательств большинства путешественников, включая русских.
С переходом от свободного рынка к политике поощрения промышленности многие регионы Европы переживают, по выражению Чарльза Тилли, «протоиндустриализацию»[641]. Это относилось не только к таким центрам текстильного производства, как Лион, близким к французской границе городам Северной Италии, быстро растущим городам Англии и нижней Шотландии, но и ко многим городам Московского царства (например, Туле). Правда в России по инициативе голландских предпринимателей правительство догадывается использовать крепостной труд в промышленности, тем самым в очередной раз демонстрируя принципиальное различие между тем, как развивается капитализм в «центре» и на «периферии». В Западной Европе, напротив, рост обрабатывающего производства на основе крупных мануфактур, использующих наемный труд, наблюдается повсеместно. Городская социальная структура начинает приобретать отчетливо капиталистические черты, разделяя основную массу населения на наемных рабочих и собственников средств производства.
Меркантилизм не препятствовал развитию торговли, но направлял ее потоки внутрь формировавшихся империй. Если в 1669 году на колонии приходилось 14,4 % английского импорта, то в 1773 году их доля выросла до 36,5 %[642]. Ограничивая вывоз и ввоз товаров, политика государства одновременно способствовала консолидации внутренних рынков и обмену между ними. Итогом был впечатляющий экономический рост как в «старой стране», так и в колониях. Бурное развитие трансатлантической экономики можно проследить по масштабам торговли. Если в конце 1720-х годов экспорт британских товаров в Северную Америку составлял в среднем 524 тысячи фунтов в год, то в 40-е годы речь шла уже о миллионе фунтов. Соответственно экспорт в Вест-Индию вырос с 473 тысяч до 732 тысяч фунтов в год. Но даже на этом фоне выделяется резкий рост поставок товаров в Индию — с 112 тысяч до 522 фунтов[643].
После того как меркантилизм восстановил европейские экономики, создав долгосрочные предпосылки роста, начинается и новый подъем финансового капитала, который, наряду с кредитованием государства и частных предприятий, пускается во всевозможные спекуляции — благо накопленный в прежнее время объем товарной и денежной массы это позволяет. В начале XVIII века бурный рост финансовых спекуляций привел к стремительному повышению биржевых курсов, за которым последовал столь же неизбежный крах.
Окончание войны за Испанское наследство сопровождалось бурным ростом стоимости акций на биржах. Этот рост создал благоприятную обстановку для финансовых спекуляций, которые закончились надуванием биржевых «пузырей» как в Англии, так и во Франции. В обеих странах это закончилось крахом и скандалами. В Англии эта финансовая катастрофа вошла в историю под именем «Пузырь Компании Южных морей» («South Sea Bubble»), а во Франции ее связывают с «аферой Джона Ло» (John Law).
В Голландии цена акции VOC выросла с 500 до 1200 гульденов, WIC — с 40 до 400 гульденов. Помещение биржи в Амстердаме «было слишком мало, чтобы вместить всех спекулянтов»[644]. Со столь же головокружительной быстротой росла стоимость акций британской Ост-Индской компании. Низшей точкой для котировок был 1698 год, когда из-за попытки учредить конкурирующую компанию цена акций упала со 100 до 39 фунтов. Но затем начался устойчивый рост. Акции снова котировались по 100 фунтов, а к 1717 году уже по 200 фунтов. В следующие три года биржевых игроков охватила настоящая эйфория. «Цена акции Ост-Индской компании в этот период увеличилась с 200 фунтов в конце 1719 года до 420 фунтов в июне 1720 года, но уже следующим летом рынок обвалился, и цена акции упала до 150 фунтов»[645].
Оба скандала имели политический аспект. Компания Южных морей (South Sea Company) создавалась при поддержке партии Тори, которые пытались сделать ее противовесом Ост-Индской компании, где доминировали Виги. Правда, стремительный рост ее акций автоматически привел и к повышению котировок акций Ост-Индской компании, да и других торговых предприятий, но на какой-то момент Тори и связанные с ними придворные круги могли считать, что добились своего — их состояния быстро росли, а компания привлекала в качестве акционеров знатных и влиятельных людей со всей Европы. Во Франции шотландский экономист Джон Ло и основанные им компании сумели добиться успеха благодаря тому, что получали поддержку регента Филиппа Орлеанского (Philippe d'Orlans). Созданный Джоном Ло в 1716 году Генеральный частный банк (Banque Gnrale Prive) получил от властей право эмиссии бумажных денег и вскоре, не перестав являться, по сути, частной акционерной компанией, обрел статус Королевского банка (Banque Royale). Однако деятельность Ло не ограничилась эмиссией бумажных денег, им была приобретена и реорганизована Компания Миссисипи, которая превратилась в акционерную Компанию Запада (Compagnie d'Occident). Затем произошло ее слияние с Компанией Восточных Индий (Compagnie des Indes Orientales), Китайской компанией (Compagnie de Chine) и несколькими другими торговыми предприятиями в Объединенную Индийскую компанию (Compagnie Perpetuelle des Indes). Ее акции стремительно дорожали. Формирование биржевой пирамиды подпитывалось эмиссией бумажных денег. Первоначальный успех этой деятельности заставляет одного из позднейших биографов Джона Ло говорить, что его герой «вел себя вполне как человек XX века»[646].
Летом 1720 года наступил крах. В Англии лопнула Компания Южных морей. Ее оставшееся имущество и финансовые обязательства были распределены между Банком Англии и Ост-Индской компанией, акции которой тоже изрядно упали в цене. Во Франции обесценивание бумажных денег сопровождалось падением биржевых курсов и дискредитацией правительства. Акции превратились в обычные бумажки.
Как бы абсурдны ни были финансовые авантюры начала XVIII века, они опирались на реальную основу — экономический рост, повсеместно возобновившийся в эту эпоху. Однако новая волна экономической экспансии сопровождалась для европейской миросистемы радикальными переменами. Изменилось соотношение сил между державами, изменились условия, на основании которых достигали своих преимуществ лидеры. Торговый капитализм в странах европейского центра постепенно уступал место промышленному.
Голландия оставалась — по вполне понятным причинам — единственной страной, последовательно отстаивавшей принципы свободной торговли на протяжении XVII столетия, что и стало одним из факторов, предопределивших потерю ею господствующего положения на рынках континента. Голландская промышленность, особенно текстильная, лишенная активной государственной поддержки во второй половине XVII века постепенно приходила в упадок. Однако укрепление государства было общей тенденцией XVII века, которая не обошла стороной даже Голландию. Конфликты между региональными элитами и сторонниками более сильной центральной власти завершились в пользу последних. Противостояние статхаудера (штатгальтера) Нидерландов Морица Нассауского, стремившегося к укреплению центральной власти, с великим пенсионарием провинции Голландия Йоханом ван Олденбарневелтом, отстаивавшим автономию регионов, закончилось торжеством Морица. Олденбарневелт был арестован, обвинен в государственной измене и казнен 13 мая 1619 года. Впоследствии борьба Оранского дома и его противников из числа купеческой олигархии неоднократно вспыхивала вновь, приводя к перераспределению власти в Республике, а в 1651 году после смерти принца Вильгельма II, должность статхаудера была объявлена «незанятой». Представителям Оранского дома, ранее по наследству получавшим этот пост, было запрещено занимать его. Однако торжество купеческой олигархии не привело к отказу от политики централизации государства, проводившейся домом Оранских. Были лишь смещены акценты. Вместо сухопутной армии, на которую опирались оранжисты, укреплялся военный флот, внешняя экспансия более агрессивно проводилась в колониях, тогда как планы присоединения к республике Южных Нидерландов, оставшихся под властью Габсбургов, были отложены.
Как отмечает российский историк, положение торговой олигархии и ее интересы на протяжении XVII века сильно изменились. «Баснословно разбогатевшая в первой половине XVII века торговая буржуазия стала переводить свои капиталы из торгово-предпринимательской и финансовой сфер в землевладение, приобретала ренты и займы, занимала доходные должности в государственном аппарате, штатах, городских муниципалитетах и консисториях. Образовалась своего рода политическая олигархия, постепенно превращавшаяся в замкнутое общество, куда деловая буржуазия по своему желанию проникнуть не могла»[647]. В провинции Голландия, самой богатой в Нидерландской республике, стремление к автономии сменилось последовательным курсом на использование центрального правительственного аппарата в своих интересах, на укрепление своего господствующего положения в Республике.
Несмотря на то что Соединенные провинции несомненно придерживались гораздо более рыночного подхода, чем Англия, не говоря уже о Франции, нет оснований представлять их в виде слабого и не вмешивающегося в экономические процессы государства. Эффективность голландской налоговой системы была беспрецедентна в тогдашней Европе, позволяя правительству мобилизовать для своих целей огромные суммы. Великий пенсионарий Голландии Ян де Витт (Johan de Witt) неоднократно жаловался на скупость своих соотечественников, которые не готовы были выложить из кармана денег даже «для собственной обороны»[648]. Однако находившаяся в его руках налоговая система показала свою высокую эффективность. Историки констатируют, что, «хотя население Голландской республики было вдвое меньше населения Англии, поступления в бюджет были больше — благодаря тому, что голландский налогоплательщик готов был отдавать государству в три раза больше денег, чем английский или французский»[649]. Отчасти это объясняется более высоким уровнем доходов, но также и политической дисциплиной, основанной на гораздо более прочной связи между гражданами и государством. Голландская буржуазия (включая мелких предпринимателей) готова была делиться с государством, сознавая свое с ним единство.
Меркантилистская политика защиты национального рынка была естественным результатом того, что на практике свобода торговли оборачивалась голландской монополией. Как замечает Тим Блэннинг, ведущие европейские державы вынуждены были прибегнуть к силе оружия, чтобы подорвать позиции голландской торговли. Это относится не только к Англо-голландским войнам, но и к войнам, которые вела Франция[650].
В начале XVII века, контролируя перемещение товаров между странами, голландские купцы получали своего рода монопольную ренту, присваивая себе значительную часть прибыли и перераспределяя ресурсы всех государств в свою пользу. Потому вполне закономерно, что переход от свободной торговли к меркантилизму означал и начало конца голландской коммерческой гегемонии. Как заметил Кольбер, голландская торговля порождала «одновременно их процветание и нашу бедность, без всякого сомнения укрепляя их могущество и ослабляя наше королевство»[651]. Подобное положение дел толкало правительства одно за другим к принятию протекционистских мер. Английские Навигационные акты, спровоцировавшие войны с Голландией, были лишь одним из проявлений общей тенденции. Большинство государств, следуя примеру Лондона, старалось ограничить голландскую торговлю, добиваясь, чтобы товары вывозились от них на их собственных судах.
Английские Навигационные акты представляли собой уникальный случай применения меркантилизма к морской торговле и продержались до середины XIX века, когда были, наконец, отменены в связи с возрождением идей свободного рынка на новом этапе развития капитализма. Однако эти законы остались бы пустым звуком, если бы за ними не стояла готовность государства навязывать их исполнение силой.
Смеяющие друг друга политические режимы в Англии были едины в своем стремлении покончить с торговой монополией голландцев, и они находили полную поддержку со стороны Франции. Совместные усилия двух крупнейших европейских держав — военные, дипломатические и экономические — не могли не дать результата. Соединенные провинции так же быстро утратили в конце XVII века лидирующие позиции, как в начале века приобрели их.
Упадок Голландии, однако, вел не только к превращению Англии в нового торгового гегемона, но и к укреплению Франции, как страны, претендовавшей на политическую гегемонию в масштабах Европы. Англо-французский конфликт становился неизбежным следствием победы двух поднимающихся военно-промышленных держав над торговой Голландией.
ОТ ДИНАСТИИ К НАЦИИ
Политическим итогом меркантилизма становится появление национального государства со всеми вытекающими отсюда последствиями вплоть до поэзии Пушкина и музыки Вагнера. Соответственно страны, лидировавшие в политическом и экономическом развитии — Англия, Франция и Голландия, стали своего рода образцом для остальной Европы, в то время как Австрия Габсбургов или Пруссия Гогенцоллернов выглядят на таком фоне скорее исключением, а Российская империя Романовых и вовсе парадоксом (историки до сих пор спорят, не стала ли имперская экспансия препятствием для развития национального государства в России). Между тем общие тенденции, свойственные передовым западным странам, четко проявлялись и в династических империях, несмотря на разноплеменность и разноязыкость их населения.
Первыми «национальными» государствами в современном смысле стали именно империи, прежде всего торговые империи, развивавшиеся за счет заморской экспансии XVI–XVIII веков. Англия и Франция были в XVIII и XIX веках ничуть не менее имперскими державами, чем Австрия или Россия.
Традиционная историография склонна разделять формирование национального государства в ключевых европейских странах (Испании и Португалии, Англии и Франции) и их колониальную экспансию. Обретение империи воспринимается как нечто значимое, но принципиально внешнее по отношению к нации, становление которой авторы пытаются отодвинуть по возможности на более ранние сроки, отыскивая корни и решающие этапы ее возникновения в событиях Средневековья (та же Столетняя война, Реконкиста, Реформация и т. д.). В действительности до начала Нового времени мы имеем дело в лучшем случае лишь с зарождающимися, потенциальными нациями, многие из которых так и не реализовали свой потенциал. «Европейское национальное государство, — пишет политолог Алла Глинчикова, — просто не могло по-настоящему оформиться и получить свою экономическую и политическую завершенность до и вне процесса колонизации. И европейские национальные государства с их представительной демократией, и европейский тип рыночных отношений с необходимым уровнем социальной равномерности есть продукт колонизации, причем колонизации совершенно особого типа, когда метрополия и колонии были разделены географически и политически. Именно это и создавало иллюзию и возможность абстракции национального государства-метрополии в качестве самостоятельной и изначальной „клеточки“ эпохи модерна»[652]. Схожую мысль высказывает американский историк Генри Кеймен применительно к Испании. По его словам, до начала колониального периода Испании «как таковой не существовало, она не сформировалась ни политически, ни экономически, ее народы не обладали ресурсами для экспансии. Сотрудничество же народов на полуострове в процессе строительства империи сплотило их и усилило, хотя и весьма несовершенным образом, их полуостровное единство»[653].
В этом смысле Россия представляет собой прямую противоположность Западу, ее, по мнению Глинчиковой, «следует сопоставлять не с Англией или Францией, а с Англией плюс ее колонии, с Францией плюс ее колонии». Это особый тип колониального развития, «при котором колонии и метрополии не только не были разделены географически, но оказались сращены на всех уровнях, включая политический».
В европейской абсолютной монархии, где не было граждан, а были подданные, страна и народ отождествлялись с короной, которая, со своей стороны, фактически брала на себя ответственность за превращение разнородных территорий и масс в единое просвещенное государство, соответствующее представлениям того века о прогрессе и гуманности. Формирование наций, начатое в рамках абсолютизма, было продолжено уже буржуазными режимами. Представительные органы, созданные в ходе революций, имели еще больше оснований для того, чтобы говорить от имени нации «в целом», чем королевская власть. И если под национальным государством понимать не только общность языка, религии и культуры, но в первую очередь наличие определенной системы политических и общественных институтов, то следует признать, что державы Центральной Европы двигались в том же направлении, что и лидеры Запада.
Раскол Германии на протестантскую и католическую часть усугубил раздробленность страны. И все же здесь государственная централизация происходила так же, как и в Швеции или во Франции. Для своего времени Саксония, Пруссия, Бавария, Австрия были вполне современными государствами с развитой бюрократической и военной организацией, собственной системой образования и политической традицией.