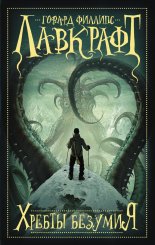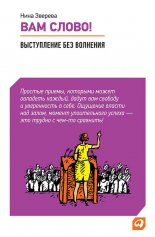От империй – к империализму. Государство и возникновение буржуазной цивилизации Кагарлицкий Борис
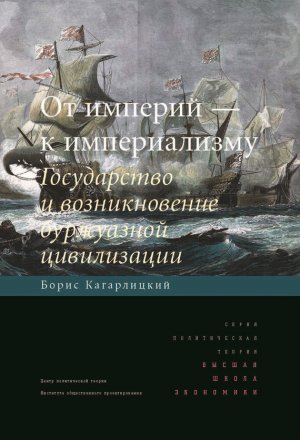
Проблема состояла не в ограниченности территории или соперничестве нескольких государств на общем культурном пространстве. Там, где сохранилось, пусть и в видоизмененной форме, государство династическое, решение новых задач оказывалось затруднено двусмысленностью самого политического статуса государства, о чем красноречиво свидетельствует история Австро-Венгрии.
В основе правления Габсбургов, как в Испании, так и в Австрии, лежало, по выражению испанского историка, «династическое единство (el systema de unidad dinastica), сочетавшееся с широкой региональной автономией»[654]. Несмотря на систематические и сознательные усилия Габсбургов, стремившихся превратить свою лоскутную империю в некое подобие современной нации, несмотря на централизаторские реформы Иосифа II и децентрализаторские компромиссы Франца-Иосифа, национально-государственная интеграция Центральной Европы не состоялась, к несчастью для этого региона, пережившего на протяжении XX века череду кровавых трагедий.
В XVI веке Габсбургам удалось наследственно закрепить за собой императорскую корону, сведя избирательные права курфюрстов к чистой формальности, но зато резко ослабели связи курфюрстов с империей — их владения начали превращаться в самостоятельные государства. Австрийский герцог, будучи в действительности правителем огромной империи, номинально таковым не был. Зато он считался императором Германии, над которой в действительности у него не было никакой власти.
После того как успешные войны с Оттоманской Турцией позволили Габсбургам не только овладеть всей территорией Венгрии, но и выйти на Балканы, геополитические интересы Вены начали смещаться в этом направлении, зачастую оказываясь в противоречии с ее германской политикой.
В 1526 году в битве при Мохаче (Mohcsi csata) турецкая армия разгромила венгров, после чего венгерский король признал себя вассалом турецкого султана. В 1541 году турки заняли Буду и Пешт, а вошедшие в состав Оттоманской империи венгерские территории были превращены в Будинский пашалык (paalik). Часть земель Венгрии оказалась под властью австрийских Габсбургов и позднее превратилась в плацдарм для контрнаступления против турок. По договору 1547 года к Габсбургам отошли земли со смешанным венгерско-славянским населением. После поражения, нанесенного туркам под Веной в 1683 году польским королем Яном Собеским (Jan Sobieski), началась австро-венгерская реконкиста. В 1687 году австрийские армии вытеснили османов из Венгрии и Трансильвании. В 1697 году Евгений Савойский одержал блистательную победу над турками при Зенте (Zenta). Освобождение венгерских земель продолжалось вплоть до 1718 года, когда австрийские войска заняи самые южные районы страны. В том же 1687 году на сейме в Пожони (Pozsony), нынешней Братиславе, представители сословий признали наследственные права на венгерскую корону за мужским потомством Габсбургов. Для венгерских протестантов, однако, освобождение обернулось притеснениями и резней. Результатом такой политики стало восстание Ференца Ракоци (Ferenc Rkczi) в 1703–1711 годах. В конечном счете протестантам была дана амнистия и дарована религиозная свобода. Правительственные должности в Венгрии должны были замещаться венграми.
В ходе войны за Испанское наследство к Австрии отошла территория Бельгии — тогдашних Испанских Нидерландов, а войны с турками отодвинули южную границу империи к Дунаю. Под властью Вены оказались обширные владения по всей Европе, от Южных Нидерландов до Северной Сербии, от Брюсселя до Белграда. Но это были разнородные территории, не интегрированные в единое целое. Власть династии оставалась «по сути дела единственным фактором, объединявшим подвластные Габсбургам народы»[655]. Подобное положение дел было хорошо понятно и самому венскому двору, который предпринимал отчаянные попытки консолидировать находившееся под его политическим контролем пространство. Эта задача становится центральной для сменявших друг друга императоров и их правительств на протяжении всего XVIII столетия, другое дело, что решалась она по-разному, в зависимости от того, кто находился у власти в Вене.
Только в середине XVIII века, когда династия австрийских Габсбургов прервалась по мужской линии, их «лоскутная империя» начала превращаться в полноценное государство, пусть и не имеющее «национальной» идентичности, но все же вполне устойчивое.
Первым шагом на пути имперской консолидации стала Прагматическая санкция 1713 года. Этим документом не имевший сыновей император Карл VI провозглашал неделимость своих династических владений и разрешал переход власти в Австрии по женской линии. «Всеобщее признание Прагматической санкции, — констатирует белорусский историк Я. Шимов, — стало главной целью австрийской политики при Карле VI»[656].
В 1725 году Прагматическую санкцию признала Испания — в обмен на отказ Австрийского дома от претензий на ее престол, который был занят Бурбонами по итогам войны за Испанское наследство. В 1726 году документ признала Россия, а в 1728 году — Пруссия. В 1731–1732 годах к ним присоединились Лондон и Гаага, а вскоре затем Прагматическую хартию поддержал рейхстаг Империи. И лишь в 1738 году было получено признание Франции. Казалось, цель была достигнута. Однако два влиятельных германских государства — Бавария и Саксония так и не согласились с Прагматической санкцией. Поскольку у Баварского дома имелись права на австрийский престол, его отказ принять новый порядок престолонаследия в Вене имел далеко идущие последствия. Несмотря на все усилия австрийской дипломатии, после смерти Карла VI разразился международный кризис, переросший в 1740–1748 годах в войну за Австрийское наследство.
Эту войну Австрия выиграла несмотря на территориальные потери. Решающую роль в исходе дела сыграла Венгрия. Права австрийской принцессы Марии Терезии на престол мадьярских королей являлись более чем спорными, ибо корона Святого Стефана закреплена была только за мужским потомством династии. Но признав Марию Терезию своей королевой, венгерские сословия фактически подтвердили исторический выбор в пользу общей Австро-Венгерской империи, сделанный за 200 лет до того.
Несмотря на то что победить и сохранить свою державу Мария Терезия смогла исключительно благодаря лояльности венгров, ее правительство проводило политику административной централизации и распространения немецкого языка. В годы правления Марии Терезии началась унификация законов и правил на всей территории, подвластной Габсбургам. Особое внимание уделялось преобразованию бюрократии. Реформы сделали австрийский государственный аппарат «мощным и эффективным, превратив его в настоящую опору монархии, каковой он оставался до самого конца правления Габсбургов»[657]. Однако реформаторская практика Марии Терезии сочеталась с идеологическим консерватизмом, что решительно отличало такой подход от политики ее сына Иосифа II, вдохновлявшегося идеями Просвещения.
Реформа габсбургской бюрократии, проведенная Иосифом II, дала историкам основания говорить, что при нем австрийское административное устройство «могло смело поспорить даже с прусским, считавшимся тогда образцовым», а один из современников жаловался, что император «хочет буквально превратить свое государство в машину, душу которой составляет его единоличная воля»[658]. Естественно, просветительский пафос Иосифа II отнюдь не предусматривал установления в империи Габсбургов деспотии или самодержавия. Скорее речь шла о введении повсюду единой системы гуманных и ясных правил, точное следование которым исключало бы как неповиновение властям, так и произвол правительства. Иными словами, вольтеровский идеал просвещенного абсолютизма осуществлялся Иосифом с максимальной полнотой, искренностью и последовательностью. И если результат существенно разошелся с идеалом, то винить в этом надо не австрийского правителя, а саму вдохновлявшую его теорию.
К началу XVIII века не только Англия, но и все основные державы Европы уже не являются в чистом виде феодальными монархиями, представляя собой результат классового компромисса между традиционными элитами и растущей буржуазией, причем буржуазия в возрастающей степени оказывается способна диктовать повестку дня, особенно в международной политике, логика которой тесно связана с общими условиями развития миросистемы[659]. Идеология «просвещенного абсолютизма» вполне адекватно отражает потребности и ожидания, которые поднимающийся класс связывает с государственной властью.
Многие историки позднее считали идеи просвещенного абсолютизма плодом наивности, утопического мышления или политической умеренности отстаивавших их французских философов XVIII века, а соответствующие высказывания прусского короля Фридриха II или русской императрицы Екатерины II — обычной демагогией. Оба монарха действительно были не чужды демагогии, но отсюда отнюдь не следует, будто они совершенно не принимали всерьез собственные высказывания. Задним числом, разумеется, крепостнические порядки, царившие в России и в Восточной Пруссии, воспринимаются как находящиеся в явном противоречии с просветительскими идеалами. Но если английское и французское Просвещение уживалось с рабством негров в Америке, то почему не с крепостным правом в России? Просвещение отнюдь не тождественно гуманности.
Французские мыслители Вольтер, Дидро, Даламбер и другие авторы их знаменитой «Энциклопедии» были не такими уж наивными и простодушными людьми. За утопией просвещенного абсолютизма, как и за многими другими политическими утопиями, вырисовывается вполне реалистическое описание норм и принципов государственного строительства, которые устраивают большую часть буржуазии на момент написания этих текстов. И даже если мы можем объяснять просветительские высказывания Фридриха II и Екатерины II как циничную пропаганду, то этого никак нельзя сказать про Иосифа II, в искренности которого никто не сомневался.
Просвещенный абсолютизм представлял собой не только идеологию, но и реальную политическую практику, которая в условиях Европы XVIII века воспринималась как вполне убедительная альтернатива «демократической» власти олигархии, господствовавшей в Голландии и Англии. Проблема состояла не в том, что монархам и чиновникам недоставало просвещения, а в том, что они были неэффективны, не могли оправдать надежд буржуазии, справиться с задачами капиталистического развития, которые изо всех сил пытались решить. И если во Франции, наиболее развитой из стран континента, это противоречие обозначилось с наибольшей остротой, то в России, Австрии или Пруссии развивавшийся там торговый капитал даже к концу XVIII века вполне удовлетворялся режимом просвещеного абсолютизма, не претендуя ни на что большее.
Успехи и неудачи Иосифа II лучше, чем любые общие теории, демонстрируют практические возможности политики просвещенного абсолютизма и границы этих возможностей. Иосиф II пытался консолидировать империю политически, экономически и культурно. В 1781 году Иосиф II издал указ о свободе печати, а вскоре после этого — о веротерпимости. На место традиционного для Габсбургов жесткого курса на защиту католицизма пришел принцип религиозного равноправия, распространившегося не только на протестантов и православных, но даже на евреев. Последние, правда, обретая гражданское равноправие, подвергались стремительной германизации — отчасти стихийной, а отчасти и сознательно осуществлявшейся правительством. В Чехии и других славянских землях империи евреи начинали становиться в культурном плане частью немецкого меньшинства. Что, в свою очередь, вполне соответствовало централизаторским устремлениям Вены.
Стремясь поддержать национальную немецкую культуру, Иосиф II начал наступление на итальянскую оперу в Вене. Создание новой немецкой оперы было поручено В.А. Моцарту, который по поручению императора написал «Похищение из сераля». Таким образом великому композитору и правителю-реформатору общими усилиями удалось «обратить вкус публики от итальянских опер к отечественным»[660]. В 1776 году венский Бургтеатр (Burgtheater) был передан немецкой драматической труппе, а придворной итальянской труппе разрешалось давать только 2 спектакля в неделю. В декабре 1777 года начала работать немецкая оперная труппа, а итальянская была в 1779 окончательно распущена. В этом плане Иосиф II резко отличался от Фридриха Великого, который «терпеть не мог немецких букв»[661]. Многотомное собрание сочинений Фридриха написано исключительно по-французски, а немногие деловые письма, которые он вынужден был диктовать по-немецки, полны ошибок и с трудом поддаются пониманию. Даже в конце его жизни, когда немецкая литература вступала в свою классическую пору, Фридрих продолжал убежденно доказывать окружающим, что на варварском немецком языке ничего достойного написано быть не может.
Австрийские монастыри подверглись при Иосифе II гонениям. Этот просвещенный правитель считал монахов «самыми вредными и бесполезными подданными страны»[662]. За время его царствования число монастырей сократилось с 2000 до 700. Это, однако, отнюдь не означало разрыва Габсбургов с католической церковью и культурной традицией. Задача Иосифа состояла не в уничтожении австрийского католицизма, а в его модернизации.
Одновременно правительство предпринимало усилия для того, чтобы убрать многочисленные таможенные барьеры, разделявшие различные части его империи. В 1775 году внутренние таможни были ликвидированы в Австрии и Богемии, однако в Венгрии этого сделать не удалось. Тим Блэннинг замечает, что сопротивление венгерского дворянства имело вполне основательные причины. По отношению к Австрии и Богемии положение Венгрии и Трансильвании было «колониальным», поскольку обе территории оставались источниками дешевого продовольствия и сырья, а также рынками сбыта для их товаров. В такой ситуации понятно беспокойство местного дворянства по поводу сохранения того, «что они считали своей долей прямых налогов, полагавшихся им по справедливости»[663].
Австрийская держава была отнюдь не единственным династическим государством, чье существование и развитие неотделимо от истории правящего дома. Точно так же, как Австро-Венгерское государство было разросшимся семейным уделом Габсбургов, Пруссия была фамильным владением дома Гогенцоллернов, а Бавария — вотчиной Виттельсбахов. Более того, владения Гогенцоллернов, разбросанные по разным частям Германии и часто не связанные между собой территориально, могли вплоть до середины XIX века называться «лоскутным королевством» даже с большим основанием, чем Австрия называлась «лоскутной империей». А уж позднее, когда Прусское королевство стало расширяться за счет разделов Польши, его можно было считать многонациональной страной с не меньшим основанием, чем Австро-Венгрию.
В свою очередь смена династии в рамках монархического государства была не просто побочным эффектом борьбы за власть и социальных катаклизмов, но и необходимым этапом структурных преобразований. В этом плане свержение Стюартов и последующая замена их Ганноверским домом в Британии сыграли гораздо большую роль, чем полагают многие историки. По крайней мере для Шотландии, все еще не преодолевшей к концу XVII века феодального порядка, крушение династии Стюартов имело важные символические и политические последствия. Личная уния с Англией заменялась государственным союзом, основанным на юридическом договоре, который, кстати, и оказался единственным зафиксированным на бумаге элементом Британской конституции. Королевская власть окончательно превратилась в гражданский институт, лишенный всякого мистического содержания.
Личная уния между Великобританией и Ганновером сохранялась до 1837 года, когда на английский трон вступила Виктория. Корона Ганновера наследовалась по салическому закону, иными словами, только по мужской линии, поэтому после смерти Георга IV и Вильгельма IV, возглавлявших оба государства, на ганноверский трон был возведен Эрнст Август герцог Камберлендский (Ernest Augustus Duke of Cumberland), пятый сын короля Великобритании и Ганновера Георга III.
Консолидация бюрократического государства и политическая централизация происходили во владениях австрийских Габсбургов точно так же, как и во Франции, Англии или Швеции, а позднее — в Пруссии, несмотря на то, что венским правителям не удалось консолидировать своих разноплеменных подданных в единую нацию. С другой стороны, австрийцы постепенно начинали осознавать себя отдельным народом по отношению к остальной Германии, что тоже можно расценивать как форму «национальной консолидации», которая, впрочем, постоянно подвергалась сомнению — вплоть до успешного Аншлюса Австрии, произведенного Гитлером накануне Второй мировой войны.
В то время как австрийские Габсбурги безуспешно добивались консолидации своих обширных владений, на севере Германии под властью дома Гогенцоллернов складывалось новое государство, которому суждено было превратиться в их соперника, победителя, а позднее и покровителя. Восхождение Пруссии началось в XVI веке с ее объединения с курфюршеством Бранденбург. В 1525 году Тевтонский орден превратился в герцогство Восточная Пруссия, а герцогский титул закрепил за собой перешедший в лютеранство бывший магистр Альбрехт Гогенцоллерн (Albrecht Hohenzollern von Brandenburg-Ansbach), дав историкам повод для иронических замечаний о том, что его намерения принять протестантизм шло «столько же от проповеди Лютера, сколько от собственного честолюбия»[664]. Как заметил один из позднейших авторов: «Случилось невероятное — духовно-рыцарский орден воинствующих монахов, в течение трехсот с лишним лет бывших верными слугами Рима и оплотом католичества на северо-востоке Европы, прекратил свое существование, а его последний великий магистр стал заклятым врагом Папы, прибрав к рукам земли и имущество церкви.(…) Бывшие суровые тевтонские рыцари-монахи же превратились в крупных феодалов, родоначальников прусского юнкерства»[665].
Польша в лице короля Сигизмунда I не только признала новое государство в качестве своего вассала, но и гарантировала позднее, что бранденбургские Гогенцоллерны унаследуют владение, когда пресечется мужская ветвь прусских герцогов. Что и произошло в 1618 году. Так возникло новое Прусско-Бранденбургское государство, которое два столетия спустя станет одним из участников раздела Польши.
Герцогство, возникшее на землях бывшего Тевтонского ордена в ходе Реформации, находилось в личной унии с Бранденбургом, пока в 1656 году не слилось с ним в единое королевство. В июне 1656 года бранденбургско-прусские войска вместе со шведами нанесли численно превосходившим их полякам сокрушительное поражение в трехдневной битве под Варшавой. Пруссаки рассеяли шляхетское ополчение, которое при бегстве через Вислу потеряло все свои пушки на рухнувшем мосту. Спустя год в Велявско-Быдгощском договоре Польша признала полную независимость Восточной Пруссии. Вскоре после этого Пруссия Фридриха Вильгельма вступила в новую войну, на сей раз против своего бывшего союзника — Швеции, нанеся ей сенсационное поражение при Фербеллине. Однако вмешательство Людовика XIV и французской армии положило конец успехам Пруссии. Истощенная войнами небольшая страна вынуждена была смириться, ограничившись весьма скромными территориальными приобретениями, но заявив о себе как о новом факторе европейской политики.
Легкость, с которой Фридрих Вильгельм менял союзников, переходя в восточноевропейских конфликтах с одной стороны на другую, вызвала осуждение историков, оценивавших его как циничного и беспринципного правителя. Впрочем, далеко не все авторы сходятся в этой оценке. Французский историк XIX века Фредерик Ансильон считает его одним из наиболее выдающихся монархов той эпохи, а его прагматизм — вынужденным. «Его силы были слишком малы, чтобы управлять событиями, но он всегда находил способ извлечь из них выгоду, он менял средства, но никогда не отклонялся от своей цели, гибкий, но упорный, он доказал на практике, что настойчивость и энергия могут преодолеть самые значительные препятствия, неутомимый, не поддающийся слабостям, гордый, но не тщеславный, жесткий, но не жестокий, религиозный, но не склонный к предрассудкам и фанатизму, он наряду со всеми этими замечательными достоинствами, обладал еще и привлекательной внешностью, его вид был благородным и солидным, свидетельствуя о величии духа»[666].
В 1701 году в Кенигсберге сын легендарного победителя при Фербеллине Фридриха Вильгельма — Фридрих III был коронован королем Пруссии, приняв титул Фридриха I. С тех пор название Пруссия было присвоено всему Брандербургско-Прусскому государству.
Абсолютизм опирался на прочную поддержку юнкеров — местных помещиков, строивших свое процветание на хорошо организованной и коммерчески ориентированной эксплуатации крепостного крестьянства. Известный поэт Адельберт фон Шамиссо (Adelbert von Chamisso) сформулировал отношения правительства и землевладельцев знаменитой формулой: «Und der Knig absolut, wenn er unseren Willen tut» — «А власть короля абсолютна, пока он во всем нам послушен»[667].
Впрочем, далеко не все историки разделяют уверенность современников во всесилии прусских юнкеров. Например английский исследователь Колин Моерс (Colin Mooers) считает, что «юнкеры нуждались в абсолютистском государстве больше, чем оно нуждалось в них»[668]. Слабость сословного представительства в Пруссии объясняется, с его точки зрения, не только тем, что буржуазия не имела достаточного влияния в обществе, но и зависимостью юнкеров от государства. С другой стороны, очевидно, что именно королевская власть оказывалась той организационной формой, в рамках которой помещичье хозяйство вписывалось в капиталистический рынок — тот самый «прусский путь развития капитализма», о котором неоднократно говорил Ленин[669].
В отличие от Франции, буржуазия не имела здесь прямого доступа к королевским финансам Пруссии, благодаря чему отсутствовала сколько-нибудь масштабная коррупция. Берлинские чиновники демонстрировали «бюрократическую эффективность, которой могли только позавидовать другие абсолютистские государства того времени»[670].
Прусская бюрократия уже в начале XVIII века славилась по всей Европе. «Эта административная машина, во многих отношениях неуклюжая, иногда с плохо прилаженными одна к другой частями, должна была, однако, точно и аккуратно исполнять желания того, в чьих руках был главный ее рычаг», — писал Николай Кареев[671]. Недостатки организации должны были компенсироваться дисциплиной и добросовестностью сотрудников. Стройность и логичность организации вообще редко когда были присущи государственному управлению континентальной Европы XVIII века. Абсолютистские режимы строили свои институты таким образом, что появление новых задач и функций всякий раз вызывало к жизни не столько реорганизацию или отмену старых учреждений, сколько появление наряду с ними новых. В итоге система постоянно усложнялась, становясь порой весьма хаотичной. Эти черты можно наблюдать и во Франции, и в Австрии, и даже в России, несмотря на то что культурно-политическая реорганизация, проведенная Петром Великим в начале XVIII столетия, придала политической системе Петербургской империи определенную стройность и рациональность — подражая европейским образцам, русский царь мог позволить себе проводить их в жизнь более последовательно и ломать старое решительнее, чем его западные учителя. Прусская модель управления в этом смысле была не лучше французской. И если ее эффективность была выше, то не потому, что бюрократия была более правильно устроена, а потому, что она была более вышколенной, дисциплинированной и послушной.
Именно наличие четко работающего чиновничьего аппарата позволило прусским королям создать мощную армию, сила которой была явно непропорциональна размерам и богатству государства. Взяв за образец Швецию, берлинские монархи достигли еще более впечатляющих результатов за счет последовательной милитаризации всех сторон государственной жизни. В 1770 году итальянский поэт Витторио Альфиери (Vittorio Alfieri), посетив Берлин, жаловался, что город показался ему «омерзительной огромной казармой», а вся Пруссия — «одной огромной гауптвахтой»[672]. А один из будущих лидеров французской революции, граф Мирабо (comte de Mirabeau), после поездки в Берлин иронично замечал: «Война — это национальная промышленность Пруссии»[673]. В этой шутке есть некоторая доля комплимента. Дело не только в том, что вся жизнь Прусского королевства оказалась подчинена задачам армии, но и в том, что именно у пруссаков война подверглась систематической рациональной организации, стала «промышленностью».
Если массовую армию, комплектующуюся из жителей страны, лояльных и готовых проливать кровь за свое правительство, следует считать одним из важнейших национальных институтов, то Пруссия, не будучи нацией в том понимании, которое дали этому слову идеологи XIX века, безусловно, опережала большинство своих соседей в деле формирования национального государства.
ОРИЕНТАЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ
В то время как Запад переживал революционные катаклизмы, в которых рождался новый буржуазный порядок, на Востоке Европы неуклонно и, как казалось, неудержимо росла сила, находившаяся в явном конфликте с формирующейся европейской миросистемой, — Блистательная Порта, Оттоманская империя. Разумеется, турецкая держава отнюдь не была изолирована от христианской Европы, с которой она взаимодействовала далеко не только на полях битв. Но восхождение османов в XV–XVI веках сопровождалось непрерывными войнами и победами над христианскими армиями. После Никопольской катастрофы правители Запада не предпринимали серьезных попыток сдержать турецкое наступление, которое приостановилось лишь из-за удара, нанесенного туркам с Востока — войском Тамерлана. Но держава Тамерлана быстро распалась, а Османская — оправилась от поражения и возобновила свою экспансию. Падение Константинополя в 1453 году оказалось переломным моментом не только в политическом и экономическом плане — подстегнув португальцев и испанцев на поиски западного морского пути в Индию.
Турецкая победа была не столько победой мусульман над христианами (хотя многим идеологам на Западе она представлялась именно таковой), сколько мощнейшим ударом венецианской военно-торговой гегемонии в Восточном Средиземноморье, тем более что вскоре заКонстантинополем настала очередь Бейрута и Александрии, основных центров венецианской посреднической коммерции.
На Западе захват древней византийской столицы мусульманами означал, с одной стороны, окончательное торжество Рима в качестве мирового центра христианской веры (православие, сохранившее свои политические позиции в одной лишь Московии, начинало выступать в качестве специфической «русской веры», не претендуя на роль глобальной духовно-религиозной альтернативы католицизму). С другой стороны, однако, падение Византии являлось концом Средневекового мира, его системы ценностей, геополитики и геоэкономики, демонстрируя современникам относительность и исчерпанность вековых традиций, — тем самым успех турок способствовал очередной волне перемен на Западе, в том числе и падению идеологической монополии Римских Пап.
С точки зрения средневекового правосознания, императоров могло быть только двое — Западный и Восточный, что соответствовало двум частям Древней Римской империи. Разумеется, различные авторы давали термину «империя» разное толкование уже в те времена, но именно данная точка зрения являлась господствующей в мире, где законность власти опиралась на право наследования и традицию. Именно потому в Германии сохранялось официальное название «Священной Римской империи», спустя много лет после того, как был потерян реальный политический контроль над Римом и итальянскими владениями.
Две империи соответствовали и двум центрам христианской церкви — Риму и Константинополю. После падения Византии вопрос о наследовании Восточного титула оказался открытым, но Великий князь Московский поступил вполне логично, взяв себе титул Царя (то есть Цезаря, аналогично немецкому императору — Кайзеру), переняв византийского двуглавого орла своим гербом и провозгласив Москву «Третьим Римом». Дело не только в родственных связях московских Рюриковичей с греческими Палеологами. В качестве правителя крупнейшей, а потом и единственной православной державы, он имел на это все основания точно так же, как позднее Петр Великий мог просто заменить русскую форму своего титула на западноевропейскую, назвав себя Императором (правда, новый титул был признан за ним не сразу, но несмотря на дипломатические проволочки, большинство западных держав сравнительно легко согласилось с новым статусом Российской монархии).
Интеграция России в формирующуюся капиталистическую миро-систему началась задолго до Петра Великого — со времен Ливонской войны Московия не только стремилась развивать торговлю с Западом, но и подчинила этой цели всю свою внешнюю политику. Реформы Петра лишь закрепили ориентацию, которую мы видим уже в политике Ивана Грозного, Бориса Годунова и первых Романовых. Крепостная система в России складывалась одновременно и в тесной связи с развитием рыночной экономики, и международных коммерческих связей. Продукция русских крепостных так же, как и хлопок, производимый чернокожими рабами в Виргинии, или сахар с карибских и бразильских рабовладельческих плантаций, стимулировала и субсидировала развитие свободного труда в Западной Европе, одновременно финансируя европейское потребление российского правящего класса.
По существу, Россия подвергалась колонизации, но не со стороны иностранной державы, а со стороны собственной элиты, которая благодаря этому смогла создать на Востоке Европы впечатляющую империю, способную оказывать политическое и культурное влияние на другие страны континента[674].
Рывок России на Запад и попытки модернизации начались, однако, задолго до Петра Великого, еще при Иване Грозном, во времена Ливонской войны. Между тем стремясь модернизировать Московию, Грозный царь, как отмечает С.А. Нефедов, многое заимствовал из «практики Османской империи»[675]. На первый взгляд может показаться, что подобные заимствования находятся в противоречии с не менее хорошо известной ориентацией царя на Запад: привлечение английских специалистов, его тесное сотрудничество с основанной в Лондоне «Московской компанией». Однако в действительности интерес к турецким образцам применительно к реальности XVI века отнюдь не контрастирует с ориентацией на Лондон. Османская Турция не была в то время отсталой и деградирующей страной, какой она сделалась два столетия спустя. Напротив, она являлась динамичной и хорошо организованной бюрократической империей, учиться у которой было не менее полезно, чем у английских купцов или шотландских военных.
Оттоманская Турция со своей стороны также претендовала на наследие Византии. В первое время после взятия Константинополя на монетах, предназначавшихся для обращения в Европе, турецкий султан даже именовал себя «экуменическим императором». Мехмед II Завоеватель, сделав своей столицей Стамбул, бывший Константинополь, не только сознательно поставил себя на место византийского императора, но и претендовал на роль «наследника классической Римской империи»[676]. Оттоманский султан назывался теперь главой римлян и главой мусульман. «Он был в одном лице и Kaisar-i-Rum — Римский император, наследник Августа и Константина, и падишах, что по-персидски значило наместник Бога»[677]. Терпимое отношение султана к христианству даже вызвало на Западе надежды о возможном его обращении в «истинную веру», что, конечно, было полной иллюзией. Со своей стороны, Греческая церковь еще в XV веке выдвинула лозунг «Лучше турки, чем латиняне»[678]. Теперь ей пришлось в буквальном смысле выполнить собственную программу — Константинопольский патриарх, сохраняя независимость от Рима, оказался подданным турецкого султана.
Доброжелательное внимание султана распространялось не только на православных греков. Все, кто готовы были сотрудничать с империей, получали поддержку. Были подтверждены коммерческие привилегии генуэзцев, которых соперничество с Венецией делало фактическими партнерами турок. Стамбул был восстановлен и населен греками, евреями и армянами, которых специально для этой цели пришлось привозить из других частей империи, взамен выселенных константинопольских греков. Экономика города начала бурно развиваться. Хозяйственный подъем продолжался на протяжении XVI века. «Стамбул динамично рос при преемниках Мехмеда, и через сто лет после завоевания он превратился в крупнейший город Ближнего Востока и Европы, с населением превысившим 400 000 человек»[679]. Причем возвышение Стамбула не помешало успешно развиваться и старым торговым центрам Оттоманской империи — Бурсе (Bursa) и Адрианополю (Эдирне — Edirne).
Поскольку султаны на протяжении XVI–XVII веков находились в конфликте с Испанией и Австрией, они широко открывали двери для всех, кого преследовали в этих странах. Кальвинисты, преследовавшиеся Габсбургами и католическими князьями Германии, бежали в оккупированную турками Венгрию и Боснию. Очередная волна эмиграции имела место в начале Тридцатилетней войны, когда казалось, что дело протестантизма в Центральной Европе проиграно. «Переселение в Турцию испанских евреев, изгнанных с их родины в 1492 году, хорошо известно, но это был далеко не единичный случай, — сообщает британский историк Бернард Льюис (Bernard Lewis). — Другие группы беженцев, христианские диссиденты, преследуемые господствующей церковью в своих странах так же, как и евреи, спасались в оттоманских землях. Когда турки вынуждены были покинуть свои европейские владения, христианские народы, которые жили под их властью, все сохранили свои языки, культуру, религии, а порой и свои общественные институты, и были вполне готовы к самостоятельному политическому существованию. Напротив, там, где мусульманские народы в Европе оказывались под властью христианских правителей, им не удавалось сохранить себя — это относится и к маврам в Испании, и к тем туркам, что остались на Балканах после краха Оттоманской империи»[680].
Терпимость султанов имела границы, но до тех пор пока иноверцы не претендовали на политическую власть, султаны готовы были предоставить их самим себе. К тому же исламское право предполагало, что именно иноверцы платили основную часть налогов в казну. В итоге правительство в Стамбуле было отнюдь не заинтересовано в том, чтобы массово обращать своих подданных в ислам. Делая это, они подорвали бы собственную финансовую базу.
«Правление империи — и светское, и религиозное — было подчинено идеям Ислама, — пишет другой английский историк. — Но это была все же космополитическая империя такая же, как и Византия, объединяющая народы разных рас и религий, живущих между собой в условиях порядка и гармонии»[681].
Такова была идеология стамбульских султанов, и если гармонию обеспечить им удавалось далеко не всегда, то порядок в империи успешно поддерживался вплоть до начала XIX века, когда начался ее постепенный распад, усиливавшийся давлением соседней России и интригами западных держав.
Однако быть одновременно покровителем православных христиан и халифом правоверных мусульман оказывалось чрезвычайно трудно, а внешнеполитические задачи начала XVI века требовали подчеркивать именно мусульманскую идентичность империи. На фоне сложной борьбы с державами Запада, самые серьезные успехи Оттоманское государство достигло на Юго-Восточном направлении, в кратчайший срок установив свой суверенитет над арабскими территориями Азии и Африки. Для своих новых подданных стамбульский султан был в первую очередь новым халифом, и это вполне устраивало стамбульскую бюрократию.
Наибольшего успеха на Западе турки достигли к середине XVI века. По Адрианопольскому миру 1547 года за Габсбургами осталась часть северо-западной Венгрии, но сама Австрия вынуждена была платить дань султану. Выплаты этой унизительной дани прекратились лишь после войны 1592–1606 годов. Морская сила османов была сломлена объединенными силами Габсбургов и венецианцев в битве при Лепанто в 1571 году. Однако поражения, которые начали терпеть турки во второй половине XVI столетия, свидетельствовали не столько об упадке империи, сколько о том, что, достигнув своих естественных границ (в значительной мере совпадавших с восточными границами Древней Римской империи времен ее расцвета), Османская держава не имела сил для дальнейшей экспансии. Победы Габсбургов не вели к серьезным территориальным завоеваниям, эти кампании были преимущественно оборонительными и лишь сдерживали давление турок на Запад.
Преимущество оттоманской армии состояло в наличии хорошо организованной и технически передовой артиллерии, а также корпуса янычар, по определению британского историка, «пехоты, уникальной для того времени, когда на Западе все еще господствовала кавалерия, которую турки неизменно побеждали»[682].
Пополнявшийся вырванными из семьи и обращенными в ислам христианскими детьми, этот янычарский корпус действительно представлял собой уникальное военное формирование, сплоченное религиозным фанатизмом, с детства воспитанной дисциплиной и внутренней солидарностью.
Военная сила османов держалась на солидной экономической основе, причем финансовое положение Турецкой империи было значительно лучше, чем у большинства западных держав той эпохи. В отличие от России, где земледельцы находились в крепостной зависимости от помещиков, турецкое крестьянство было одновременно зависимо от государства и свободно. Господствовавшая в Турции аграрная система во многом напоминала ранний европейский феодализм, с той разницей, что поместья так и не превратились в полноценную частную собственность их владельцев. Система раздачи государственных земель (тимаров) отличившимся участникам военных походов и правительственным служащим была заимствована османами у византийцев, а возможно и у сельджуков. «Право полной собственности на землю, называвшееся ракбе, принадлежало государству, право пользования и получения доходов с земли принадлежало владельцу тимара — тимариоту. Право владения тимаром передавалось по наследству от отца к сыну, однако тимариот не мог его подарить, передать постороннему лицу, отдать в залог или оставить в наследство кому-либо, кроме сыновей»[683]. С тимаров взымались налоги по шариатскому, а порой и по обычному праву.
Поскольку земля не только номинально, но и фактически принадлежала центральной власти, регулярно перераспределявшей крестьянские наделы, налицо была экономическая и правовая зависимость. Однако личный статус земледельцев не имел ничего общего с положением крепостных. «Имперская бюрократия вынуждена была постоянно заботиться о том, чтобы не дать помещикам расширить свою власть над крестьянами, одновременно борясь с попытками провинциальных чиновников превратить себя в местное дворянство. В этой системе крестьянин был одновременно зависимым и свободным: „зависимым“ в том смысле, что его мобильность и использование земли жестко регулировались правительством, заботившимся о том, чтобы получить от него заранее запланированный доход, и „свободен“ в том смысле, что никто не вмешивался в вопросы производства и не было принудительного труда»[684].
Подобное положение дел было в целом выгодно для земледельческого населения в покоренных турками странах. Как отмечает Бернард Льюис в истории Ближнего Востока, после турецкого завоевания крестьянство «обнаружило, что его положение в значительной мере улучшилось. Оттоманская империя обеспечивала безопасность, порядок и отсутствие разрушительных конфликтов»[685]. Социальная структура сельских районов претерпела существенные изменения: старая феодальная аристократия была в ходе завоевательных войн уничтожена, разорена или изгнана. Часть ее земель была распределена между турецкими солдатами, не получавшими, однако, наследственных прав на свои новые владения.
В итоге здесь не сложился мощный класс помещиков, как в России или Венгрии. Однако благополучное состояние крестьянского земледелия как раз и оказалось важнейшим препятствием для развития рыночных и, позднее, капиталистических отношений в деревне. Принуждение к рынку, характерное для европейских и колониальных стран, здесь до XIX века практически отсутствовало, что, в свою очередь, затрудняло накопление капитала и оборачивалось крайней слабостью местной буржуазии.
В известном смысле Оттоманская империя пала жертвой собственного военно-политического успеха. Основой процветания империи была стабильность, которую султаны неизменно стремились поддерживать, несмотря на любые дворцовые перевороты и конфликты при султанском дворе. В отличие от России Романовых, которая активно стремилась вписаться в формирующуюся европейскую миросистему — экономически и политически, усилия Оттоманской Турции были в значительной мере направлены на сохранение традиционного порядка вещей, однако чем более это удавалось, тем слабее становилась держава. В XVI–XVII веках военная и экономическая мощь Турции позволяла ей вести наступательную политику по всем международным направлениям, но парадоксальным образом ее успехи в Средиземноморье и в Восточной Европе лишь ускоряли общее смещение экономических центров Европы на северо-запад, создавая в перспективе новые проблемы для османов.
Противоречивость положения Оттоманской империи состояла в том, что она не могла (в отличие от Японии) ни изолировать себя от влияния и давления формирующейся на Западе миросистемы, ни занять в ней такое положение, которое устраивало бы если не население государства, то хотя бы значительную часть ее элит. Будучи достаточно сильной, чтобы избежать раздела и колонизации, Турция, однако, была слишком слаба, чтобы навязывать Европе свои условия.
Оттоманская империя сталкивалась во многом с теми же дилеммами, что и империя Романовых, но она не только решала их иначе — на протяжении длительного периода времени их вообще не решала. Подобное положение дел предопределило двухсотлетнюю историю упадка Турции, происходившего на фоне противоречивого и драматического, но все же очевидного подъема России.
Еще в середине XVII века турецкая мощь вызывала у соседей страх и уважение, армии султанов угрожали Польше и Австрии, ослабленных Тридцатилетней войной. Но к концу столетия соотношение сил изменилось радикально и необратимо. Переломом оказалась осада турками Вены в 1683 году. Дела Габсбургов были плохи и только вмешательство польского короля Яна Собеского спасло ситуацию. В битве при Вене 12 сентября 1683 года собранная им коалиционная армия Священной лиги разгромила османов. Турецкие источники признают: «Поражение и проигрыш — да убережет нас от них Аллах — были преогромными, неудача такая, какой от образования (османского) государства еще не случалось»[686]. Победители взяли колоссальную добычу, значительная часть казны была разграблена самими разбегающимся турецкими солдатами, а польский король с восхищением описывал своей жене захваченный им османский лагерь, где шатры начальников были «такие обширные, как Варшава либо Львов, городской стеной обнесенные»[687]. В лагере турок под Веной король нашел не только золото, оружие и драгоценные камни, но и животных: «визирь взял было здесь в каком-то императорском дворце живого страуса, удивительно красивого, так и его, чтобы нам в руки не достался, велел зарезать. Что за деликатесы имел при своих шатрах, описать невозможно. Имел бани, сад, фонтаны, кроликов, котов, даже попугай был, но он улетел, так и не смогли поймать»[688].
Эта блистательная победа почти ничего не дала Польше, которая вступает в период затяжного упадка, завершившегося ее крушением. Зато для австрийских Габсбургов битва при Вене стала началом триумфального движения на юго-восток, позволившего им восстановить силы после поражения в Тридцатилетней войне и вернуть себе положение ведущей европейской державы. Успехи Австрии были достигнуты за счет упадка Турции.
Отсталость Оттоманской империи в технической сфере нарастала непрерывно начиная с первой половины XVII столетия. Военные поражения, нанесенные туркам польскими войсками Яна Собеского, а затем и австрийской армией Евгения Савойского, свидетельствовали о том, что былая слава янычар безвозвратно ушла в прошлое. Некоторые историки даже утверждают, будто в XVIII веке «военная техника турецкой армии отставала от европейской по меньшей мере на полтора века»[689]. Это, разумеется, преувеличение, однако отсталость империи проявлялась в самых разных сферах удручающим образом. Уже в 1720 году султан Ахмед III вынужден был отправить во Францию специальное посольство с целью изучения новейших европейских изобретений. Турецкая делегация провела в Париже длительное время, посещая оперу, академию наук, обсерваторию, ботанический сад и фабрики, изучая организацию французской армии и ее вооружение. Результаты их изысканий были изложены в книге Мехмеда Челеби эфенди (Mehmed elebi Efendi) «Сефаретнаме» (Sefretnme) — «Книга посольства». В Стамбуле книга произвела эффект разорвавшейся бомбы: «Это сочинение стало настолько популярным среди придворных и высшей бюрократии, что ходило по рукам в списках»[690].
Однако несмотря на острую потребность в модернизации, осознанную значительной частью элиты, реальные изменения происходили крайне медленно, и мешала этому не косность господствовавшей в империи культуры и не исламская традиция, а в первую очередь боязнь разрушить лежавшую в основе государства систему социальных и политических отношений.
Между тем интеграция Турции в мировую экономику оказывала разлагающее воздействие на сложившуюся систему. Проникновение западноевропейского экспорта в Оттоманскую империю постоянно усиливалось так же, как и зависимость общества и экономики от этого экспорта. С Запада прибывали не только оружие и технологии, но и многие предметы повседневного обихода. «В XVIII веке серьезное снижение транспортных и производственных издержек в Европе привело к стремительному расширению торговли с османскими землями»[691]. Этот процесс получил дальнейшее развитие в XIX веке. Нарастающая зависимость от Запада находила свое проявление и в торговой политике, насквозь проникнутой принципами экономического либерализма. Права иностранных предпринимателей регулировались специальными «капитуляциями», предоставлявшими привилегированный статус представителям западных наций, с которыми заключались соответствующие соглашения. Первое такое соглашение было заключено с Францией в 1569 году, затем с Англией в 1580 году и с Голландией в 1612 году. «В долгосрочной перспективе коммерческие права, предоставленные османами западным странам, стимулировали развитие экономики этих стран»[692]. Увы, этого нельзя было сказать о самой Турции. С другой стороны, экономический либерализм, которого придерживалась Блистательная Порта, ничуть не способствовал развитию либерализма политического, что вызывало нарастающее разочарование столичной просвещенной интеллигенции, мечтавшей не только о европейских товарах, но и о европейских институтах.
Изменения, происходившие на Западе, отразились на экономической жизни империи самым негативным образом. На место венецианцев, являвшихся традиционными противниками султана, но и привычными партнерами оказавшихся под его властью арабских и греческих купцов, пришли голландцы, англичане и французы. Условия изменились. «Османская экономическая и денежная система рухнули в XVII веке в значительной мере из-за того, что венецианское торговое господство в Восточном Средиземноморье сменилось агрессивным наступлением стран, придерживавшихся принципов меркантилизма», — признают английские историки[693].
Поскольку турецкий внутренний рынок оставался сравнительно узким, а на мировой рынок Оттоманская империя не могла поставлять какую-либо уникальную продукцию, которую Европа уже не получала бы из других регионов, внешняя торговля развивалась не слишком успешно. «Рост международной торговли Оттоманской империи был весьма существенным, но все равно отставал от общемировых темпов», — отмечает американский исследователь Доналд Куатерт (Donald Quataert). Если в мировом масштабе внешняя торговля за XIX век выросла в 64 раза, то по отношению к турецким владениям этот показатель едва достигает 16 раз. Хотя Турция играла очень большую роль в европейской торговле начала XVII столетия, на протяжении двух последующих веков «значение Оттоманской империи для мировой экономики неуклонно снижалось»[694].
Постоянные войны на разных фронтах истощили казну, необходимость содержания военного флота обернулась разорительной нагрузкой для государства, которое не вело активной внешней торговли — большая часть турецкого экспорта вывозилась на иностранных судах.
Армия, раньше славившаяся своей дисциплиной и боеспособностью, постепенно разлагалась. Грозный корпус янычар втягивался во внутриполитические интриги, раздиравшие столичную элиту, превращаясь из инструмента внешней экспансии в орудие дворцовых переворотов. А сами янычары в свободное от служебных обязанностей время занимались ремеслом и торговлей — сословие профессиональных воинов, наводивших ужас на всю Европу, превратилось в класс мелких лавочников.
V. Возникновение гегемонии
В начале XVII века Англия была важной, но переживающей непростые времена страной, которую вряд ли можно было считать гегемоном формирующейся капиталистической миросистемы. У системы вообще не было гегемона, как и не был вполне сложившимся и законченным целым сам капитализм, несмотря на то что все основные элементы нового общественного порядка уже были налицо не только в пережившей революцию Голландии, но и во многих других странах.
Сто лет спустя капиталистическая система выглядит уже вполне оформившейся, а сохраняющиеся в западном обществе элементы феодализма вынуждены в возрастающей тепени подстраиваться под логику этого нового порядка и обслуживать его. Британия буквально на глазах превращается в империю, не только доминирующую на мировом рынке, но и претендующую на ключевую роль в мировой политике. Сами представления о гегемоне миросистемы, его роли и возможностях складываются уже задним числом именно на основе британского опыта. Маркс неоднократно замечал, что равенство торговых возможностей немыслимо между двумя государствами принципиально неравной политической силы. А процесс централизации и концентрации капитала не может не иметь политических последствий. В свою очередь, политически господствующие государства оказываются в привилегированном положении по отношению к тем, кто находится от них в зависимости. Возникновение в миросистеме гегемонии закономерно и естественно порождается общей иерархией неравенства и логикой накопления капитала, диктующей потребность в централизации, в том числе и на политическом уровне. Однако это не происходит сразу и само собой, а лидирующая роль Британии оспаривается — политически и экономически — Францией. Системная гегемония возникает и формируется именно в процессе этой борьбы и несет на себе отпечаток своего происхождения. Противоборство двух ведущих европейских держав становится глобальным. Оно разворачивается в Америке, Азии и Африке. В него так или иначе вовлекаются страны, еще недавно не имевшие отношения к европейским конфликтам. Соперничество двух держав даже опережает их колониальную и коммерческую экспансию.
ПОЧЕМУ БРИТАНИЯ?
Для большинства историков не является секретом, что «происхождение современных международных отношений неразрывно связано со становлением капитализма в Англии раннего Нового времени»[695]. Между тем к началу эпохи Великих географических открытий Англия, хотя и принадлежала к числу ведущих западных стран, не была ни самой богатой, ни самой обширной по территории и населению, ни самой мощной державой в военном или даже морском деле. По всем этим показателям она уступала Франции, Испании, в определенные периоды даже Голландии. После поражения в Столетней войне и серии междоусобных конфликтов, вошедших в историю под именем Войны Алой и Белой Розы, ослабевшее и потерявшее прежний престиж английское государство уже не могло претендовать на лидирующую роль в Европе, где шла борьба между двумя поднимающимися сверхдержавами — Францией и Испанией. Военная слабость Англии была очевидна современникам. Даже успехи Королевского флота и победа над испанской «Непобедимой армадой», одержанная сэром Френсисом Дрейком (Francis Drake) и его соратниками в 1588 году, еще не сделали ее владычицей морей. К тому же новообретенная морская мощь не компенсировала слабости сухопутных сил и постоянной нехватки денег.
Историки констатируют, что «английское оружие не одержало ни одной значимой победы за пределами Британских островов со времени между экспедицией в Булонь (1547 год) и завоеванием Ямайки (1655 год)»[696]. Самая серьезная военная катастрофа произошла в середине XVI века, когда Англия втянулась в войну с Францией по научению Испании, с которой все еще сохранялись союзнические и династические связи (Мария Кровавая была женой Филиппа II). Результатом этого бессмысленного для англичан конфликта стало падение Кале в 1558 году.
Рост международного влияния Англии, начавшийся в эпоху царствования Елизаветы, сменился новым упадком в начале XVII века, когда династия Стюартов, пришедшая на смену Тюдорам, втянулась в затяжные конфликты с парламентом. Англия не играла почти никакой роли в Тридцатилетней войне и никак не могла повлиять на ее исход, определявший соотношение сил между державами континентальной Европы. А место ведущей морской державы — торговой и военной — было с поразительной быстротой занято Соединенными провинциями, которые еще во времена Елизаветы с трудом отстаивали свое право на независимое государственное существование.
И все же к концу столетия Англия не только выходит на европейскую сцену в качестве ведущей политической, военной и коммерческой силы, но и побеждает всех своих соперников, обладающих куда большими силами и ресурсами. Английская коммерция обгоняет голландскую, британские генералы одерживают верх над прославленными французскими армиями, производство, еще недавно сравнительно отсталое, становится передовым, даже в сфере литературы, искусства, науки и философии, где традиционно лидировали французы и итальянцы, англичане занимают одно из ведущих мест.
Эти победы были бы невозможны, если в основе их не лежало бы преимущество английских социальных и политических институтов, порожденное тем самым кризисом XVII века, который на первых порах так ослабил страну, выведя ее фактически за рамки европейской политики. Что же все-таки произошло такого, что резко и явно выделило Британию на общем европейском фоне?
Политическая система, основанная на парламентском представительстве, оказалась идеальным механизмом для политического развития поднимающейся буржуазии. Причем эта система не только позволяла новому правящему классу наилучшим образом формулировать и реализовывать стоящие перед ним цели и задачи, но одновременно помогла консолидировать вокруг этих целей гораздо более широкие слои общества. Дело не только в том, что в Англии сформировалась буржуазная власть, но и в том, что эта власть была авторитетна и стабильна.
В середине XIX века британский историк Томас Маколей (Thomas Macaulay), анализируя развитие парламентских институтов, задавался вопросом: почему представительные органы, которые существовали в большинстве монархических стран Европы, к концу XVII столетия укрепляются в Англии, но в эту же эпоху они уничтожаются или ослабевают во всех остальных странах: «Один за другим, влиятельные общественные собрания в континентальных монархиях, ничуть не уступавшие нашему парламенту в Вестминстере, теряли свое значение и впадали в ничтожество»[697].
Действительно, борьба между монархической властью и представительными органами развернулась в XVII веке по всей Европе, от Англии до России. На протяжении почти столетия, по словам западных историков, короли и министры «противоборствовали с кортесами, парламентами, коммунами, фрондами и „пуританами“, причем как правило результаты этих конфликтов были схожими»[698]. Центральная власть вынуждена была преодолевать не только сопротивление буржуазии, требовавшей прямого участия в принятии решений, но и бороться с региональными вольностями, автономиями и учреждениями, унаследованными от Средневековья. Организации, исторически созданные для того, чтобы представлять местные феодальные интересы, нередко оказывались теперь в руках провинциальной буржуазии.
Уничтожение или сведение к политическому бессилию органов сословного представительства наблюдается в Европе повсеместно во второй половине XVII века. Во Франции последнее до Великой революции собрание Генеральных Штатов состоялось в 1614 году, в Кастилии кортесы собрались в последний раз до Наполеоновских войн в 1664 году. В 1669 году состоялся последний ландтаг в Баварии. В России Тишайший царь Алексей Михайлович в те же годы исподволь, но весьма эффективно, сводит на нет значение Земских соборов.
В Бранденбурге Фридриху Вильгельму удалось в 1688 году ограничить сословное представительство, укрепив централизованную администрацию за счет фактического подкупа представителей сословий. В отличие от других стран, где испытывавший финансовые трудности двор вынужден был выпрашивать разрешение на новые налоги у сословий, в Бранденбурге все сложилось наоборот: курфюрст заплатил долги сословий дважды — в 1683 и 1686 годах. Население было разорено, а двор скромен в своих запросах и бережлив.
В Австрии, где под властью Габсбургов сословное представительство полностью лишилось политического значения, оно превратилось в весьма полезный административный инструмент, эффективно сдерживающий бюрократическую коррупцию. Выбранные ландтагами представители ведали местными финансами, судами, набором рекрутов и многими другими вопросами, требовавшими строгого контроля. Однако такая система являлась медлительной и неповоротливой — во время войны за Австрийское наследство, когда держава Габсбургов оказалась на краю гибели, Мария Терезия заменила выборных уполномоченных коронными чиновниками. При Иосифе II венгерский сейм вообще ни разу не созывался, а местные сеймики окончательно утратили свое значение.
Тем не менее говорить о полном исчезновении представительной власти в странах с абсолютистскими режимами не приходится. В Швеции функционировал сословный Риксдаг, в котором наряду с дворянами, духовенством и буржуазией (горожанами), представлено было и крестьянство. Во Франции, несмотря на то что Генеральные Штаты не собирались в течение длительного времени, действовали региональные собрания. Британский историк Ричард Бонни (Richard Bonney) отмечает, что во Франции, как и в других странах континентальной Европы, провинциальные сословные собрания в XVI–XVII веках «обладали значительными налоговыми полномочиями»[699].
Королевская администрация во Франции вела систематическую борьбу за то, чтобы консолидировать в своих руках всю полноту власти. В разных частях страны ситуация складывалась различно. Тем не менее «большинство провинций, которые обладали какими-то сословными представительными органами, сохраняли их до самого конца Старого режима»[700].
Уникальность английской монархии, таким образом, состояла не в том, что она сохранила представительные институты, а в том, что эти институты на протяжении XVII века взяли верх над монархией, создав политический строй, который по понятиям континентальной Европы был, как признает Маколей, «аномальным»[701].
Подобная «аномалия» объясняется, с точки зрения историка, двумя факторами. С одной стороны, в отличие от континентальных монархов, у английских королей не было необходимости постоянно вести сухопутные войны и они не нуждались в создании мощного военно-политического аппарата, который в конечном счете стал основой абсолютизма. С другой стороны, «наш парламент, полностью сознавая природу и масштабы опасности, своевременно выработал последовательную тактику, которая в ходе противостояния, продолжавшегося на протяжении жизни трех поколений, доказала свою успешность»[702].
Безусловно, успехи парламента были предопределены его политической эффективностью. Но эта эффективность, в свою очередь, опиралась на развитие британской буржуазии, которая сумела консолидироваться в виде класса, вполне осознанно поставившего перед собой цель контроля над государством. Если во Франции, после поражения революционных движений времен Столетней войны, буржуазия жила с XV по XVIII век в коррупционном симбиозе с государством, используя в своих интересах слабости феодального режима, то английская буржуазия, напротив, ставила перед собой цель изменить государство, подчинив его полностью своим задачам и принципам. Разумеется, дело тут не только в специфических политических традициях, восходящих к Великой хартии вольностей, но и в том, что социальная база буржуазного развития в Англии была шире за счет активного проникновения капиталистических отношений в деревню. Новые социальные условия давали возможность политическим лидерам буржуазии вырабатывать на этой основе стратегию, которая была одновременно достаточно радикальной и реалистической. А успех этой стратегии (осуществлявшейся через парламентские институты еще задолго до революции) способствовал дальнейшему изменению социальных отношений и постепенному возникновению нового соотношения сил между классами, социальными группами и партиями.
ВЛАСТЬ И СОБСТВЕННОСТЬ
Главным достижением западного общества с точки зрения либеральных идеологов более позднего времени была защищенность собственности и уважение к ней. В этом отношении уже в середине XVIII века Британия представлялась многим мыслителям и публицистам образцом либеральных институтов, без которых невозможен ни социальный, ни культурный прогресс. Однако институт частной собственности складывался постепенно на протяжении позднего Средневековья и Англия далеко не сразу стала лидером в этом процессе. В феодальном обществе, даже там, где частная собственность существовала, она отнюдь не являлась универсальным и всеобщим экономическим принципом. Имущественные отношения регулировались на основе многочисленных правил, постановлений и обычаев, описывавших права владения, пользования, наследования, которые зачастую были не связаны друг с другом, а порой и противоречили друг другу. Как замечает Энгельс, «бюргерская собственность Средних веков была еще сильно переплетена с феодальными ограничениями, состояла, например, главным образом из привилегий». И лишь позднее она смогла превратиться в «чистую частную собственность»[703]. Крестьянский надел или феодальное имение часто могли наследоваться, но не отчуждаться их владельцами, и точно так же земли, принадлежавшие общине, не были в строгом смысле ее собственностью, ибо само существование общины предполагало ее связь с этой территорией, а потому вопрос об отчуждении земли, сдаче ее в аренду или коммерческом использовании просто не мог быть поставлен, даже если соответствующие формы хозяйственных отношений уже имели место в обществе. Права далеко не всегда фиксировались документально, будучи закреплены обычаем.
Начиная с XIII века обращение Античности, провозглашенное новой культурой Ренессанса, не в последнюю очередь было связано с возвратом к принципам римского права, которое должно было прийти на смену многочисленным «правдам», «законам» и обычаям феодальной эпохи. «Как короли, так и бюргеры, — писал Энгельс, — нашли могущественную поддержку в нарождавшемся сословии юристов. Когда было вновь открыто римское право, установилось разделение труда между попами — юридическими консультантами феодальной эпохи — и учеными юристами, не имевшими духовного звания. Эти новые юристы, разумеется, по самому существу своему принадлежали к бюргерскому сословию; да к тому же и то право, которое они изучали сами, которому учили других и которое применяли, по характеру своему было, в сущности, антифеодальным и в известном отношении буржуазным»[704].
Римское законодательство с его четкими и непротиворечивыми формулировками, кодифицированное и регулирующее различные стороны жизни на основе общих принципов, было идеалом буржуазии. Другое дело, что реальное понимание частной собственности и частных прав в Античности отличалось от сложившейся впоследствии буржуазной собственности так же, как древняя экономика — от современной. Римское право было воспринято эпохой Возрождения как юридическая утопия, точно так же, как и Античность в целом превратилась из реальной исторической эпохи в нравственно-эстетический идеал, необходимый для решения идеологических задач нового времени.
Между тем для практического становления института частной собственности одного только юридического идеала было недостаточно, требовалась систематическая «дрессировка общества»[705], которая могла быть осуществлена только государством с помощью принуждения, а порой и насилия. Маркс в «Капитале» отмечает, что аграрные отношения в Англии, основанные на соединении крестьянского индивидуального хозяйства с общинным землепользованием, радикально отличались от системы, построенной по капиталистическим принципам. Такие отношения при одновременном расцвете городской жизни, характерном для XV столетия, создали условия для повышения народного благосостояния, «но эти отношения исключали возможность капиталистического богатства»[706]. Для того чтобы на место вольному крестьянскому труду пришел наемный труд буржуазной фабрики, был необходим настоящий переворот, в ходе которого «значительные массы людей внезапно и насильственно отрываются от средств своего существования и выбрасываются на рынок труда в виде поставленных вне закона пролетариев. Экспроприация земли у сельскохозяйственного производителя, крестьянина, составляет основу всего процесса»[707].
В Англии этот переворот происходит в середине XVI века в связи с «огораживанием», когда владельцы крупных имений присваивали себе и захватывали общинные земли, а также в ходе Реформации, когда были экспроприированы и разделены между представителями «нового дворянства» земли монастырей (жившие там крестьяне были изгнаны или поставлены в положение батраков). В горной Шотландии тот же процесс развернулся значительно позже, в XVIII столетии, когда главы кланов переписали на себя земли, ранее принадлежавшие клану в целом.
Маркс акцентирует внимание прежде всего на том, что буржуазная частная собственность возникает за счет экспроприации мелких производителей — чтобы произошло накопление капитала в руках немногих на одном полюсе системы, надо отнять собственность у массы людей на другом ее полюсе. Даже если у этой аграрной революции есть «экономические пружины», все равно необходимы оказываются «насильственные рычаги»[708].
Однако массовая экспроприация трудящихся, о которой пишет автор «Капитала», «освобождение» людей от находившихся в их руках средств производства, требовала не только государственного насилия в дотоле невиданных масштабах, но и целенаправленной работы над юридическим и институциональным оформлением новой системы. Формирование частной буржуазной собственности опирается на замену старого закона новым, обычая писаным правом, неформальных взаимных обязательств коммерческими контрактами. Установление частной собственности основывается на отрицании прежних имущественных прав, которые вроде бы и не являются правами вовсе, коль скоро не закреплены через новую юридическую практику, которая для низов общества оказывается принципиально недоступна. В этой ситуации государство выступает в двоякой роли, применяя насилие для ликвидации старых имущественных отношений и одновременно устанавливая новые отношения собственности. Оно обеспечивает уважение к новой собственности, ценой игнорирования и нарушения старых прав.
Между тем распространение буржуазных отношений далеко не всегда происходило за счет пролетаризации крестьянства. Как показал опыт стран, оказавшихся на периферии капиталистического мира, экспроприация непосредственных производителей зачастую принимала иные формы, сохраняя связь крестьянина с землей, но лишая его контроля над производимой им продукцией, которая, изымаясь помещиками и властями, поступала на рынок, где включалась в процесс накопления капитала. Однако и в «западном», и в «восточном» варианте принципиальную роль играло государственное принуждение.
Сопротивление традиционного большинства введению буржуазных порядков продолжалось с большей или меньшей интенсивностью на протяжении нескольких столетий. Даже применительно к Западу было бы ошибкой считать, будто западноевропейская деревня была насквозь буржуазной в XVII или середине XVIII века. В Шотландии огораживание удалось эффективно провести только после окончательного объединения с Англией и разгрома «якобитских восстаний» (когда горные кланы пытались вернуть на престол наследников низвергнутого в 1688 году Якова II). Во Франции традиционные общинные права оставались фактором, сдерживавшим развитие капитализма в сельском хозяйстве вплоть до падения Старого режима в 1789 году. Алексис де Токвиль (Alexis de Tocqueville) подчеркивает, что еще до революции крестьянин «стал собственником земли»[709]. Он отмечает, что во время французской революции захват и раздел церковных имений не привел к резкому увеличению числа собственников — те, кто приобрел новые земли, по большей части, уже владели недвижимым имуществом. Революция не разделила землю, но освободила ее, поскольку ранее «собственники были страшно стеснены в пользовании своими землями и терпели множество повинностей (beaucoup de servitudes), от которых не имели возможности освободиться»[710]. Иными словами, во Франции, как и в Англии, потребовалась политическая революция для того, чтобы сельская буржуазия получила возможность вести хозяйство последовательно капиталистическими методами, на основе неограниченного права частной собственности.
В других странах Европы преобразование земельной собственности происходило еще позднее, в значительной мере уже под влиянием французского опыта. Таким образом, можно сказать, что в плане аграрного капитализма Англия вплоть до конца XVIII столетия являлась скорее исключением, но и здесь вплоть до середины века парламенту приходилось принимать акты, ликвидирующие остатки традиционных отношений и обязательств в деревне. То, что в Британии власти вели с этими «пережитками Средневековья» решительную и успешную борьбу, объяснить не трудно, поскольку, как замечает историк Тим Блэннинг, с одной стороны, «парламент представлял интересы землевладельцев», а с другой стороны, его акты «осуществлялись на местах теми же землевладельцами, выступавшими в роли мировых судей»[711].
На протяжении XVI и начала XVII века королевская власть в Англии, ссылаясь на прерогативы короны, сохраняла возможность вмешиваться в отношения собственности, регулируя взаимные обязательства помещиков и арендаторов. Потребовалась революция, чтобы освободить новое дворянство от этого вмешательства и последовательно утвердить принцип частной собственности на землю. Однако революция, ставшая возможной только благодаря участию городских и сельских масс, создавала для собственников новую угрозу, на сей раз — снизу, в политическом смысле — слева. Когда республика в Англии сменилась протекторатом Оливера Кромвеля, интересы новых земельных собственников оказались в центре внимания власти. Английский историк Лоуренс Джеймс отмечает, что в те годы «армия фактически заменила гражданское правительство»[712]. Однако армия управляла страной отнюдь не в собственных интересах, являясь прежде всего жестким и эффективным инструментом новой собственнической элиты, укрепившей свои позиции в ходе революции. Для народных масс, поддержавших парламентскую власть в борьбе против монархии, это была плохая новость. Избирательный ценз, установленный в годы диктатуры Кромвеля, сделал парламент еще менее демократичным, чем во времена монархии, а политика новой власти по отношению к сельским массам оказалась еще более жесткой. «Протекторат, — писал советский историк М. Барг, — еще более откровенно, чем Долгий парламент, взял под свою защиту огораживателей общинных земель — этих злейших врагов деревенской бедноты»[713].
Военная диктатура была эффективна, подавляя брожение масс, недовольных социальными итогами революции, но ей недоставало легитимности. Потому реставрация Стюартов, свершившаяся на условиях победившей буржуазии, оказалась не менее необходима для закрепления нового экономического и правового порядка, чем прежде — революция. «В целом, „консервативная“ реставрация сыграла важнейшую роль в укреплении капитализма», — подводит итог Колин Моерс[714].
Томас Гоббс (Thomas Hobbes) и Джон Локк (John Locke) суммировали итоги революции на философском уровне, с той лишь разницей, что первый подчеркнул роль государственного насилия, тогда как второй акцентировал необходимость правовых норм и либеральных институтов. Несмотря на кажущееся противоречие, эти два мыслителя великолепно дополняют друг друга, демонстрируя читателю не только две стороны сложившегося политического порядка, но и два этапа его формирования. Государственное насилие, описанное Гоббсом в «Левиафане», не могло не находиться на первом плане в эпоху революционных переворотов, когда институты либерального порядка еще только создавались — с помощью того же насилия. И напротив Локк, живший в более позднее время, заставший торжество «Славной революции» и нового социально-политического порядка, мог позволить себе куда более гуманный взгляд на вещи, акцентируя необходимость свободы, благодаря которой в обществе будет достигнуто состояние мира и доброжелательности. Однако не надо заблуждаться относительно классового характера идей Локка. Понятие гражданина для него неразделимо с понятием собственности. И хотя собственность является, с точки зрения Локка, таким же естественным правом, как и право на жизнь, она, парадоксальным образом, не только не распределяется равномерно между людьми (как сама жизнь, например), но и вообще недоступна для значительной части — большинства людей, которые, таким образом, не могут являться полноценными представителями гражданского общества.
По сути доброжелательная философия Джона Локка, легшая в основу последующих идей либерализма, является гораздо более жестокой и бесчеловечной, чем трезвые констатации Томаса Гоббса, который лишь сформулировал принципиальную неизбежность для государства принуждения и насилия. Но именно Локк сумел выразить ключевые идеи нового политического порядка, удивительным образом совмещавшего неравенство граждан с уважением к личности и постоянную готовность власти к насилию и принуждению — с уважением к правам человека.
«Власть на основе закона (rule of law), с одной стороны, отнюдь не означала отказа от классового интереса, который в первую очередь был выражен в последовательной защите капиталистической собственности, а с другой стороны, позволяла замаскировать эксплуатацию так, как не могло ни одно из докапиталистических обществ», — пишет английский историк Колин Моерс[715]. По его мнению, «историческая новизна английского государства состояла в том, что оно могло одновременно активно вмешиваться в экономические и правовые отношения и преобразовывать их в интересах капитала, но в то же время сохранять видимость нейтральности и незаинтересованной объективности»[716].
В свою очередь собственники, доверяя правительству, представлявшему именно их интересы, готовы были с гораздо большей легкостью расставаться со своими деньгами, превращаясь в добросовестных налогоплательщиков, а парламент, со своей стороны, контролируя министров, предоставлял им широчайшие полномочия, которых часто не было у должностных лиц монархических режимов. Установление нового буржуазного режима в Англии привело к тому, что полномочия, которые парламент упорно не желал предоставлять правительству Стюартов, были с легкостью предоставлены парламентом новой власти. «Отныне, — иронизирует Брендан Симмс, — сильное государство и большое правительство стали такой же естественной чертой английской жизни как ростбиф и теплое пиво» (Strong government — and a large state — were thus to become as English as roast beef and warm beer)[717].
Английская буржуазия после революционных потрясений XVII века добилась своей цели — получить дешевое правительство. «Небольшая численность бюрократии, однако, контрастировала с ее потрясающими успехами», замечает Колин Моерс[718]. Британия тратила на содержание чиновников и военных куда меньше средств, чем соседняя Франция, но раз от раза выигрывала войны. Тем не менее масштабы проблем, с которыми приходилось иметь дело правительству, постоянно росли, а вместе с ними увеличивались и расходы казны. Однако в отличие от династических государств континента, постоянно находившихся на грани разорения, британские власти не только справлялись с собственными тратами, но и способны были предоставлять субсидии своим союзникам на континенте. К тому же правительство легко могло занимать деньги у буржуазии. Из 49 миллионов фунтов, потраченных во время войны с Францией в 1688–1697 годах, 16 миллионов было получено через внутренние займы[719]. Национальный долг Англии неуклонно рос на протяжении XVIII века. К концу войны Аугсбургской лиги он составил 16,7 миллиона фунтов, к концу войны за Австрийское наследство — 76,1 миллиона, а в 1783 году, когда завершилась американская война за независимость — 242,9 миллиона. К концу Наполеоновских войн он достиг 744,9 миллиона фунтов[720]. Тем не менее правительство справлялось со своими финансовыми обязательствами, британский фунт был стабилен, а производство росло. Траты казны находились под строгим контролем парламента, который, в свою очередь, превратился, говоря языком Маркса, в нечто вроде исполнительного комитета правящего класса.
Парламент XVIII и XIX веков, избранный на основе имущественного ценза, представлял собой идеальное представительство буржуазии. Это была буржуазная демократия в самом точном смысле слова, иными словами, — демократия, для участия в которой и избирателям, и политикам надо было являться буржуа, точнее собственниками, причастными к образу жизни и ценностям господствующего социального класса. Но и низам общества данная система на первых порах давала определенные преимущества, такие как неприкосновенность личности и шанс повысить собственный статус, приобщившись к имущим классам. А главное, экономическое развитие, сопровождавшее политические успехи британского капитализма, вело к постепенному повышению жизненного уровня масс. Заработная плата английских рабочих была не только самой высокой в Европе, но и вполне достаточной для того, чтобы создать у трудящихся масс ощущение процветания — так продолжалось вплоть до индустриальной революции XIX века, которая была вызвана именно стремлением капиталистов повысить норму прибыли, усилив эксплуатацию наемного труда с помощью новых машин. Не удивительно, что сопровождавшее индустриальную революцию падение заработной платы привело не только к росту числа социальных конфликтов, но и к подъему политического движения чартистов, потребовавших избирательных прав для рабочих. Это, однако, произошло много позже, а в XVIII веке британский рабочий чувствовал себя свободным человеком и без избирательных прав и гордился институтами своей страны не меньше, чем представители имущих классов[721].
В XVI–XVII веках Англия переживала демографический взрыв. Население по всей Европе росло, но здесь оно росло существенно быстрее, чем в соседних странах. По оценкам историков, население Франции увеличилось между 1500-м и 1650-м годами с 16,4 до 20 миллионов человек, Австрии и Богемии — с 3,5 до 4,1 миллиона, а Испании — с 6,8 до 7,1 миллиона. В последнем случае население выросло до 8,1 миллиона к 1600 году, но затем начало сокращаться за счет массовой эмиграции в американские колонии. Между тем в Англии за тот же период число жителей увеличилось с 2,6 до 5,6 миллиона, иными словами, более чем удвоилось[722]. Отчасти этот прирост объясняется более высокой продолжительностью жизни на острове по сравнению с континентом. Если в Англии она составляла около 35 лет, то на континенте не более 30. Разумеется, все эти оценки являются весьма приблизительными и нередко оспариваются, но не подлежит сомнению, что общая тенденция была именно такова.
Общественный прогресс был далеко не безболезненным, но череда революционных потрясений, переворотов и контр-переворотов превратила английское государство в уникальный политический механизм, обеспечивающий защиту буржуазных интересов при поддержке значительной части масс. «Другие общества обладают писаными конституциями, где все куда более упорядочено, — гордо констатирует Маколей. — Но ни одно другое общество не сумело так соединить революцию с соблюдением привычных рецептов, прогресс со стабильностью и энергию молодости с величием древних традиций»[723].
НАЦИЯ И ФЛОТ
Оценивая перспективы Англии, один из авторов XVII века заявил: «Море это единственная империя, которая естественным образом может нам принадлежать» (The sea is the only empire which can naturally belong to us)[724]. Надо сказать, что выход Британии на передний план мировой истории в качестве морской державы совпадает с периодом серьезного прогресса в мореплавании. В процессе экономического развития не только улучшались навигационные качества кораблей, увеличивался их тоннаж, но и менялись, оптимизировались маршруты. К началу XVIII века английские суда, пересекавшие Атлантику, проходили этот путь на неделю быстрее, нежели в середине XVII столетия — не столько потому, что стали быстроходнее, а потому, что был успешно отработан маршрут. Усовершенствовались паруса, а команды сокращались численно, становясь более профессиональными.
Американский адмирал Альфред Т. Мэхэн (Alfred Thayer Mahan) главной причиной неизменных успехов британского флота видел то, что, несмотря на смену правительств в Англии, ее лидеры постоянно занимались вопросами военного флота и «деятельность властей в этом направлении была последовательной и систематичной»[725]. На самом деле история выглядит несколько сложнее. Вопреки мнению Мэхэна, английское правительство далеко не всегда уделяло флоту достаточное внимание. Для того чтобы британские элиты в полной мере осознали стратегическое значение флота и обеспечили ему эффективное управление, потребовалось немалое время.
Появление в начале XVI века галеонов, новых морских судов водоизмещением до 1500 тонн, дало толчок гонке вооружений, когда вслед за Испанией другие европейские государства — Франция, Дания, Англия и Шотландия — развернули масштабные программы создания океанского флота. Любопытно, кстати, что в этом плане даже такая второразрядная держава, как Шотландия, стремясь противостоять давлению соседней Англии, была способна предпринять усилия, сопоставимые с теми, что делали ведущие европейские страны. Между тем английские судостроители быстро обнаружили недостатки плавучих крепостей, создававшихся по испанскому образцу. Тяжелым высокобортным кораблям испанцев были противопоставлены более легкие и маневренные суда, являвшиеся по сути плавучими артиллерийскими батареями. Это дало английскому флоту явное превосходство в водах Ла-Манша, а позднее и в Атлантике. Однако стоимость судостроительной программы оказалась для того времени невероятно высокой. С 1574 по 1605 год только на создание флота (корабли, набор, обучение и содержание команд, привлечение для вспомогательной службы купеческих судов и т. д.) было потрачено 1,7 миллиона фунтов[726].
В начале XVII века армия Стюартов была в еще более жалком состоянии, чем морские силы, а потому укрепление флота в условиях Тридцатилетней войны воспринималось как наиболее простое решение. Карл I Стюарт, сталкиваясь с постоянной нехваткой средств на строительство кораблей, ввел в 1634 году специальный «корабельный сбор» (Ship-money). В результате удалось создать внушительную силу в составе 19 королевских боевых кораблей и 26 вооруженных купеческих судов. Правда, эта его инициатива, как и другие финансовые начинания, не вызвала особого энтузиазма у подданных — надвигалась революция. Деньги на строительство кораблей охотно давала лишь буржуазия портовых городов, которая нуждалась в защите своей торговли. Однако, как отмечает историк Пол Кеннеди, это еще не был тот флот, который будет властвовать на морях, а «плохо обученные команды, плававшие на плохо построенных судах» (poor personnel and badly-designed vessels)[727].
Несмотря на заботу Стюартов о строительстве новых кораблей, в гражданской войне флот поддержал парламент. Это более чем понятно — моряки военных судов были тесно связаны с моряками торгового флота, которые, в свою очередь, жили общей жизнью и общими интересами с купечеством, большая часть которого одобряла революцию. Со своей стороны парламент в условиях противостояния с европейскими монархиями, поддержавшими Стюартов, быстро осознал значение флота для защиты острова. Отныне флот «начинает рассматриваться как „национальная“ сила, как сила, о которой должна заботиться вся страна, общее дело нации — и сопротивление, которое раньше оказывали „корабельному сбору“ уходит в прошлое»[728].
В годы Реставрации, хотя Стюарты и проявляли интерес к делам флота (особенно в связи с колониальной экспансией), он перестал получать необходимое финансирование и пришел в упадок. Даже во время войны с Голландией ситуация была плачевной. «Палата общин с легкостью выделила на войну беспрецедентные средства, суммы, превышавшие все, чем располагал Кромвель для поддержания своих армий и флотов, при упоминании которых трепетал весь мир, — писал со свойственным ему пафосом Маколей. — Но бессовестные, некомпетентные и капризные руководители, правившие страной после него, оказались неспособны разумно использовать эти средства. Придворные интриганы, в подметки не годившиеся такому выдающемуся политику, каким был голландский лидер де Витт, не говоря уже от таком великом адмирале, как де Рюйтер, быстро сколачивали себе состояния, тогда как матросы голодали и бунтовали, доки оставались без охраны, суда выходили в море с течью и плохо подготовленными к плаванию»[729]. Голландская эскадра умудрилась свободно войти в устье Темзы и поджечь стоящие там боевые корабли. Военные операции флота были неэффективными и нерешительными. И если в конечном счете условия мира оказались выгодными для Лондона, то лишь потому что объективное соотношение сил было слишком явно в пользу англичан — голландские политики были в достаточной степени реалистами, чтобы не сознавать этого. К тому же бюджет Соединенных провинций находился на грани истощения. Победы обходились ему почти так же дорого, как поражения, а потому в Гааге старались прекратить войну поскорее, даже ценой односторонних уступок.
После окончания Англо-голландских войн, когда необходимость в активных боевых действиях на море отпала, состояние английского флота стало еще хуже. Эскадры перестали выходить в море, матросов не хватало. «Корабли гнили, стоя в реках, на бортах уже выросли, как известно из официального отчета, грибы-поганки размером с руку, обшивные доски рассыпались и разваливались под дождем и снегом»[730]. К середине 1680-х годов положение дел несколько улучшилось, но даже «Славная революция» и последовавшая за ней война с Францией далеко не сразу придали флоту то значение, которое он обрел в последующие эпохи британской политики.
Задним числом принято считать, что «Славная революция», способствовавшая укреплению парламентских институтов и государственного аппарата, привела к резкому увеличению мощи армии и флота. Однако это произошло далеко не сразу, а главное — усилия правительства далеко не всегда были эффективны. Скорее даже наоборот.
Кадровые решения, принимавшиеся Вильгельмом Оранским, оставляли желать лучшего. Король подбирал людей на основе личной преданности. В результате добросовестный и компетентный командующий Артур Герберт граф Торрингтон (Arthur Herbert, Earl of Torrington) был заменен на бездарного карьериста Эдварда Расселла (Edward Russell), который к тому же был замешан в коррупционных скандалах. После смещения Расселла флот возглавил в 1693 году триумвират в составе адмиралов Шовеля (Shovell), Делаваля (Delaval) и Киллигрю (Killigrew). В 1693 году из-за безудержного пьянства, которому предавалось командование на базе в Торбее (Torbay), основные силы флота не оказали должной защиты богатейшему Смирнскому конвою (Smyrna convoy), который был перехвачен французами. В сложившейся обстановке даже такой выдающийся флотоводец, как Джордж Рук (George Rooke) оказался бессилен что-либо сделать. Французская эскадра адмирала Турвилля (de Tourville) смогла захватить и потопить более 100 английских, голландских и ганзейских торговых кораблей. Победителям досталась добыча на 3 миллиона фунтов, сумма по тем временам фантастическая.
Однако готовность парламента выделять средства на строительство новых боевых кораблей и наличие многочисленного кадрового резерва сыграли свою роль. Если во Франции после страшного поражения при Ла-Хог (La Hogue) король Людовик XIV волновался в основном не о кораблях, а о судьбе адмирала Турвилля, то в Англии правительство могло с легкостью менять адмиралов. С пополнением рядового состава проблем было больше. Хотя в стране и не было недостатка в опытных моряках, военная служба была для матросов куда менее выгодной, чем плавание на торговых кораблях. Властям часто приходилось принуждать моряков к военной службе силой. Лишь к середине XVIII века положение дел стало меняться за счет повышения жалованья для служащих Королевского флота, которым теперь платили намного лучше, чем армейским солдатам и офицерам[731].
В 1702 году Вильгельм Оранский внезапно умер от воспаления легких, начавшегося после того, как он сломал плечо при падении с лошади. После его смерти положение дел на флоте стало выправляться. Королева Анна в дела Адмиралтейства сильно не вмешивалась, судостроительная программа позволяла вводить в строй все новые боевые корабли, а командование перешло в руки проверенных профессионалов подобных Джорджу Руку. Это немедленно сказалось на ходе боевых действий. Если даже под командованием трусливого и бездарного Рассела англо-голландский флот смог побеждать французов — главным образом за счет численного перевеса и выучки команд, — то теперь, получив решительного и компетентного руководителя, он начал одерживать одну победу за другой.
На фоне неудач регулярного флота Людовик XIV и его морское министерство все более делали ставку на каперов и корсаров, которые должны были подорвать англо-голландскую торговлю. Расчет правительства был не лишен коммерческой составляющей: «каперы довольно часто снаряжаются частными лицами (то есть государство не тратится на постройку кораблей, наем и содержание команды и т. п.), за выдачу корсарского патента берутся живые деньги, призы, приведенные в порты, продаются, а довольно большая часть от проданного поступает в казну короля и морское министерство»[732]. После того как адмиралу Турвиллю удалось одержать верх над англо-голландским флотом у Бичи-Хед (Beachy Head), морской министр Луи Поншартрен (Louis Pontchartrain) писал ему: «Захват вражеского конвоя стоимостью 30 миллионов ливров имеет гораздо большее значение, чем новая победа, подобная прошлогодней»[733]. Однако несмотря на отдельные успехи вроде захвата Смирнского конвоя, французские корсары и флот не смогли нанести решающего удара по британской торговле. За время войны Аугсбургской лиги в Англию и Голландию пришло более 30 тысяч судов, тогда как французам удалось перехватить около одной тысячи. В самые трудные для союзников годы — 1691 и 1693 — они потеряли соответственно 15 и 20 % торговых судов, что, конечно, означало серьезный удар по экономике. Но очень скоро налаженная система конвоев, блокирование каперских баз и эффективное патрулирование опасных зон кораблями Королевского флота изменили ситуацию. С другой стороны, в ходе ответных ударов англичане захватили 1296 французских судов, многие из которых принадлежали корсарам[734]. Значительная часть потерянных судов была отбита назад. Эта система защиты морских конвоев и блокад успешно показала себя и в ходе войны за Испанское наследство, когда господство на море окончательно закрепилось за англичанами.
«ИРЛАНДСКОЕ СЧАСТЬЕ» И «ШОТЛАНДСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ»
Эра экспансии началась для Англии не только завоеванием колоний и морскими победами над голландцами, но и и борьбой за объединение Британских островов в рамках единого государства. На протяжении нескольких столетий Ирландия была сферой влияния Англии, хотя Лондон периодически утрачивал власть над ней, а контроль англичан, то усиливавшийся, то ослабевавший, редко распространялся на остров в целом. Напротив, Шотландия оставалась независимым королевством, успешно отстаивавшим свою самостоятельность, имевшим собственную армию и флот и даже предпринимавшим — правда, без успеха — собственные колониальные инициативы.
Точно так же, как разной была судьба этих двух королевств до их объединения с Англией, непохожей она оказалась и после объединения. Имея, после восхождения на лондонский престол Стюартов, формально общего монарха, три королевства сохраняли самостоятельные институты, различия в политической системе и общественной жизни. Каждая смена власти в Англии оборачивалась гражданскими войнами и конфликтами в Шотландии и Ирландии, за которыми следовали английские интервенции. Несмотря на то, что в XVII–XVIII веках восстания в Ирландии происходили с завидной регулярностью, было бы неверно представлять эти события как межнациональный конфликт или борьбу за независимость. Ирландские католики выступали против Лондона не для того, чтобы отделиться от него, а для того, чтобы вернуть к власти в Англии сочувствовавшую католицизму династию Стюартов. Иными словами, то что задним числом могло восприниматься как англо-ирландское противостояние, для современников в первую очередь являлось гражданской войной, то и дело охватывавшей все Британские острова.
К началу XVIII века и Шотландия, и Ирландия в социально-экономическом плане явно превратились во внутреннюю периферию английского капитализма, но политические различия оставались более чем значимыми. Потому консолидация английского капиталистического режима закономерно требовала и политической консолидации Британских островов. В отношении Шотландии эти усилия завершились успехом к середине XVIII века, в то время как Ирландия формально была включена в Соединенное Королевство лишь в 1801 году.
Социально-культурные и экономические результаты объединения в Шотландии и Ирландии разительно контрастировали. В Шотландии, несмотря на экономический кризис в отсталых горных районах, буржуазия и аристократия с энтузиазмом включились в общий проект Британской империи, тогда как Ирландия, несмотря на политическое единство с Англией, оставалась поставщиком ресурсов для более богатого и развитого соседа.
На фоне успешного социально-экономического развития Шотландии и более или менее удачной интеграции Уэльса в состав Соединенного Королевства возникает вопрос о том, почему этот процесс обошел стороной Ирландию. Из трех окраин Британской монархии, именно Ирландия приобрела к середине XIX века твердую репутацию «белой колонии», а к началу XX столетия стала ареной мощного национально-освободительного движения. Между тем было бы совершенно неверно описывать всю историю английского господства в Ирландии в категориях национального или религиозного угнетения. Как отмечает ирландский историк Эон Нисон (Eoin Neeson), в Средние века нормандцы, уже завоевавшие в 1066 году Англию, были «приглашены» на соседний остров «прийти на помощь союзникам — так же как позднее Соединенные Штаты и Советский Союз были приглашены спасать близкие им режимы во Вьетнаме и Афганистане — хотя, конечно, политические нравы того времени отличались от того, что мы находим в XX веке»[735].
На протяжении нескольких столетий, находясь формально под властью английских королей, Ирландия, с одной стороны, не была вполне завоевана, а с другой стороны, не имела и собственного государства. Здесь периодически вспыхивали восстания и мятежи, но ни по своему характеру, ни по масштабам они не отличались от того, что регулярно происходило и в самой Англии. Сопротивление власти Плантагенетов было в Ирландии несравненно слабее, чем в соседней Шотландии, которая, несмотря на разобщенность кланов и областей, все же отстояла свою независимость, и даже в Уэльсе, где Гарри Ланкастерский столкнулся с многолетней партизанской войной. Что касается дискриминации коренного населения, то она не принимала таких суровых форм, как в том же Уэльсе.
Одной из проблем политической организации в Ирландии было отсутствие «собственной» элиты, которая имела бы цели, аналогичные английской, и могла бы договориться с Лондоном об условиях компромисса. Повторное завоевание Ирландии Тюдорами в XVI веке и последующие экспедиции, организованные сторонниками парламентского правления в Лондоне, были направлены против старой англоязычной феодальной элиты (old English), по крайней мере, в той же мере, что и против сопротивлявшегося британскому владычеству коренного населения. «В 1600 году и позднее ирландская политическая система отличалась крайней фрагментированностью. Разные народы, по-разному определявшие себя как „ирландцев“, то отвергали законность официальной власти, то жили собственной жизнью, игнорируя ее»[736].
Как отмечает ирландский историк, первоначально Тюдоры в Ирландии не преследовали каких-либо четких экономических целей: «Это завоевание было осуществлено исключительно из стратегических соображений»[737].
Ирландия была для любого военного противника Англии великолепным плацдармом для последующего вторжения на остров. Миф, согласно которому иностранных армий не было на территории Англии со времен Нормандского завоевания в 1066 году, сложился гораздо позднее, благодаря провалу планов высадки французского десанта, который готовился несколько раз на протяжении XVIII века. Тем не менее более скромный по численности французский экспедиционный корпус высаживался и в Шотландии, и в Ирландии неоднократно. Ирландия и Шотландия также использовались и в качестве баз роялистскими силами, разгромленными в Англии. Планы вторжения в Англию через Ирландию не раз обсуждались в XVIII веке во Франции, а в XX веке — в Германии.
Но, как замечает ирландский историк, государство, в котором буржуазия играла растущую роль, не могло ограничиться только военно-стратегическими задачами: «после того, как завоевание было закончено, стратегические соображения уступили место коммерческим»[738]. Ирландия поставляла Англии сельскохозяйственную продукцию и людей. Ирландские бойцы сражались уже в армии Генриха VIII, наводя ужас на французов во время экспедиции в Булонь.
В начале XVII века в Северной Ирландии бастионом сопротивления английскому господству был Ольстер, где королева Елизавета и наследовавшие ей Стюарты конфисковали владения старой кельтской знати, раздав их протестантским колонистам, основная масса которых прибыла из Шотландии. Так Ольстер — еще до начала освоения британцами Северной Америки — превратился в первую колонию, «общебританскую» по составу населения и политическому статусу. Это было начало Империи.
Правительство Кромвеля, как и положено бонапартистскому режиму, склонно было к внешней экспансии, однако территориальные амбиции лорда протектора выглядят на первый взгляд довольно скромными. Революция и замена монархии парламентским правительством не изменила политику Англии в Новом Свете. «В годы республики (Commonwealth) интересы колониальной коммерции отстаивались даже более энергично, чем прежде», — констатирует Робин Блекборн (Robin Blackburn)[739]. Однако основные усилия Лондона были направлены в первую очередь на то, чтобы установить эффективный контроль над всей территорией Британских островов, окончательно подчинив Ирландию и поставив своих людей у власти в Шотландии. Как и более поздние постреволюционные режимы, протекторат Кромвеля находился во враждебном внешнем окружении, а потому его наступательные планы были, в известной мере, продолжением оборонительных.
При Карле II, задолго до того, как три королевства официально соединились в единое государство, началось формирование единого офицерского корпуса — король перемещал военных не только с одной должности на другую, но и между армиями. Молодые шотландские дворяне, которые раньше искали славы и денег, нанимаясь служить иностранным государям (особенно активно — в Россию и Польшу), теперь имели возможность сделать карьеру в Англии. При этом сам офицерский корпус, сохраняя старые традиции и звания, становился все менее аристократическим и все более буржуазным по своему составу. Тем самым армия выполняла важную функцию социально-культурной интеграции нового правящего класса. Шотландские военные, попавшие в эту систему, участвовали в процессе формирования новой элиты еще до того, как сама Шотландия формально слилась с Англией в одном государстве[740].
Но хотя политика Лондона в отношении Ирландии и Шотландии основывалась на схожих принципах, к концу XVIII столетия и Уэльс, и Шотландия оказались, хоть и относительно бедными, но вполне интегрированными в британское общество территориями, чего нельзя сказать об Ирландии. Религиозная проблема, легко преодоленная в Шотландии, здесь превратилась в серьезный идеологический конфликт. А экономика Ирландии, в которой доминировали крупные землевладельцы, демонстрирует явные черты периферийного развития.
Именно в характере ирландского аграрного общества, скорее всего, и надо искать причину нерешенного национального вопроса. Протестантская землевладельческая элита острова заинтересована была в сохранении своего положения и, демонстрируя неизменную лояльность Лондону, одновременно требовала от центра поддержки своих, феодальных, в сущности, привилегий. Если буржуазная элита Нижней Шотландии (Lowland) оказалась способна, опираясь на поддержку Лондона, преодолеть сопротивление феодальных кланов Горной Страны (Highland), то в Ирландии буржуазия, сосредоточенная в окрестностях Дублина и на Севере, была значительно слабее, а главное, как и в странах периферии, оказалась органически связана с помещичьим земледелием, чего мы не обнаруживаем в Шотландии, где старая аристократия обуржуазилась по английскому образцу. Именно в сохранении полуфеодальных отношений, а не в этнических или религиозных различиях между англичанами и ирландцами следует искать причину все более глубоких противоречий, разделивших две части Британских островов.
Другое принципиальное отличие Шотландии от Ирландии состояло в том, что в первом случае существовало собственное государство, как и собственная буржуазия, развивавшиеся в тесной взаимосвязи с английскими партнерами, но все же самостоятельно. Это государство показало себя крайне неэффективным в плане создания национальной общности, так же как и буржуазия — в процессе накопления. По сути структуры шотландского капитализма, тесно переплетенные с феодальными, напоминали скорее полупериферийное общество, вызывая у историков сравнение с Восточной Европой[741]. Однако само по себе существование шотландского государства, как и осознание местными элитами его недееспособности, сыграли значительную роль в преобразовании общества. Шотландский «национальный проект» был завершен буржуазией и модернистски настроенной частью аристократии при помощи Англии и в рамках британской нации (и империи). Ничего подобного ирландская буржуазия или ирландская аристократия предложить не смогли. Английская власть была слишком слаба, чтобы реально контролировать остров, но слишком сильна, чтобы предотвратить формирование там другого государства. Многочисленные представители британской интеллектуальной и политической элиты XVIII и XIX веков родились и выросли в Дублине — Эдмунд Бёрк, Джонатан Свифт (Jonathan Swift), Артур Уэлсли, 1-й герцог Веллингтон (Arthur Wellesley, 1st Duke of Wellington) и многие другие. Но их карьера и успех связаны исключительно с Англией, независимо от того, как они относились к «ирландскому вопросу».
Напротив, шотландская элита, активно поддерживавшая имперский проект, не склонна была рвать связи с родной страной. Глазго превратился в один из важнейших торговых и позднее индустриальных центров Британской империи, а Эдинбург оставался важным политическим и интеллектуальным центром, — эти города не только не утратили своего значения после объединения с Англией, но, напротив, продолжали успешно развиваться. В XIX веке Глазго прочно закрепил за собой позицию «второго города Британской империи». Даже в архитектурном плане с буржуазными кварталами, «сравнимыми по изяществу с Парижем и Веной» (elegance comparable to those of Paris or Vienna)[742]. Идеологическим выражением этого успеха были не только труды теоретиков «Шотландского просвещения», самыми известными представителями которого стали экономист Адам Смит и философ Дэвид Юм (David Hume), но и последующее творчество шотландских романтиков — литераторов и историков. И те и другие закладывали общие основы господствующей в империи либеральной идеологии и самой британской идентичности. Парадоксальным следствием этого оказалось размывание собственной «английской» культурной и политической идентичности, которая была поглощена «британской», тогда как «шотландские» культурные и этнографические особенности тщательно культивировались как одна из важнейших опор единой британской нации. Исторические мифы формирующейся империи включили в список своих положительных героев не только королей, политиков и писателей, прославивших Англию, но и шотландских феодальных вождей, одержавших победы над англичанами. А военно-административные кадры, вышедшие из Шотландии, заняли непропорционально большое место в аппарате империи — вплоть до ее ликвидации в XX веке.
Шотландский вопрос решался в значительной мере за счет ирландского, о чем, в частности, свидетельствует история Ольстера, который подвергся скорее шотландской, чем английской колонизации. Социальный конфликт, наложившийся на религиозное противостояние крестьянского католического большинства с протестантской элитой и колонистами в сочетании с периферийным характером экономического развития, создавал почву для национального противостояния. Чем более отсталыми были аграрные отношения, чем более консервативным оставалось ирландское общество, тем более в нем зрели условия для сопротивления.
Если Шотландия разделила с Англией ее успех, то Ирландии досталось лишь бремя империи. То самое «ирландское счастье», о котором жители острова вспоминают со смесью горести и гордости.
ФРАНЦУЗСКИЙ ВЫЗОВ
На протяжении XVII века Англия и Франция, как правило, выступали союзниками — сначала против Габсбургов, а потом и против Голландии. В 1657–1658 годах солдаты Оливера Кромвеля, знаменитые «железнобокие», под командованием французского маршала Тюренна сражались с испанцами во Фландрии. Победа позволила лорду-протектору Англии присоединить к своим владениям Дюнкерк, который должен был стать для англичан воротами на континент. Данное приобретение отнюдь не пугало французов, точно так же как позднее, во времена Реставрации, когда нуждающийся в деньгах английский монарх Карл II продал этот порт своему французскому союзнику, в Лондоне не воспринимали подобное решение как серьезный удар по стратегическим позициям. Разумеется, многие были недовольны, сетуя на то, как король разбазаривает плоды побед, достигнутых в годы протектората, но мало кто мог тогда подумать, что Дюнкерк станет базой для французских корсарских рейдов против английской торговли. В 1672 году Франция и Англия в очередной раз выступают союзниками против Голландии.
«Славная революция» резко меняет расклад, превращая Англию и Голландию из противников в союзников. Последовавшая затем череда англо-французских конфликтов и войн не только определила основные черты европейской политики на протяжении следующего столетия, но и оказала огромное влияние на экономическое и социальное развитие.
Оценивая британскую политику XVIII века, английский историк Брендан Симмс подчеркивает, что она «была движима не экономическими, а стратегическими соображениями»[743]. Полемизируя с историками, которые представляют английскую внешнюю политику просто как продолжение коммерческих интересов, Симмс постоянно ссылается на военно-политические цели, ради которых то и дело приходилось жертвовать текущей коммерческой выгодой. В готовности преследовать подобные цели он видит принципиальное отличие политики либералов-вигов, Вильгельма Оранского и позднее ганноверского режима от ориентации на узко понимаемые выгоды колониальной экспансии, за которую ратовали Стюарты и позднее консерваторы-тори. Действительно, именно наличие такой политической и военной стратегии отличало британскую олигархию XVIII века от голландской, расцветшей на сто лет раньше. Однако нельзя забывать, каким целям и интересам в конечном счете была подчинена стратегия.
Идеологические соображения вроде «защиты протестантизма» несомненно играли некоторую роль, но никогда не были определяющими (не мешая бороться с протестантской Голландией или Швецией и на определенных этапах сотрудничать с католической Францией, Португалией или Австрией). Интересы британского капитала в целом (а не только его торговые выгоды) постоянно оставались в центре внимания государственных деятелей, определяя как стратегические ориентиры их политики, так и границы их свободы в выборе партнеров и союзников.
Лоуренс Джеймс замечает, что в вопросах колониальной политики, несмотря на острую межпартийную борьбу Тори против Вигов, наблюдалось «очевидное единство интересов среди политически активных классов»[744]. Для богатых людей не было особой проблемы в том, чтобы получить место в парламенте, зачастую за счет подкупа избирателей. Купцы и плантаторы, имевшие значительную собственность в колониях, директора Ост-Индской компании, а также офицеры армии и флота составляли значительную часть депутатского корпуса, Лоуренс Джеймс насчитал не менее трех сотен таких депутатов в Вестминстере за период с 1754 по 1780 год[745].
Британские элиты прекрасно понимали, что основная угроза для их интересов и на европейском континенте, и в колониях исходит из Франции. И они не жалели ни сил ни средств для того, чтобы обеспечить себе долгосрочное стратегическое преимущество над этим противником.
Противостояние английского и французского торгового капитала, развернувшееся в конце XVII века, существенно отличалось от предшествовавшего ему англо-голландского конфликта. Англия и Голландия были державами во многом похожими друг на друга, и их правящие круги исповедовали во многом схожие стратегические принципы. Разница была лишь в том, что Англия обладала большими ресурсами, имела более выгодное географическое положение, а главное, ее элита оказалась более способна мыслить на перспективу, в том числе и жертвуя сиюминутной коммерческой выгодой. Это и предопределило исход борьбы.
Напротив, в лице Франции английской буржуазной монархии противостояла держава совершенно иного типа, выработавшая собственную стратегию гегемонии. Эта стратегия была основана на использовании политических и военных возможностей французского абсолютизма, выгодного географического положения страны и отчасти даже ее культурного влияния, — превращая свой версальский двор в образец для подражания всех европейских королей, Людовик XIV добивался не только восхищения соседей, но и признания ими Франции в качестве ведущей страны континента. По этой же самой причине лондонское высшее общество оставалось менее восприимчиво к французским культурным влияниям и французской моде, чем немецкое, польское или русское.
Если английская торговая гегемония опиралась на морское господство, контроль над океанскими путями и поставками в Европу заморских товаров, то Франция Людовика XIV противопоставила этому попытку политического контроля над европейским континентом. Военно-политическая стратегия «короля-солнце» ограниченно увязывалась с протекционистскими идеями Кольбера. Англии нужно было держать континентальные рынки открытыми. Колониальная торговля недорого стоила без доступа к европейским рынкам, поэтому континентальная стратегия Лондона на протяжении двух с лишним столетий сводилась к простой формуле равновесия. Не допустить, чтобы политическое господство над континентом оказалось в руках какой-либо одной державы — за политическим контролем в условиях меркантилизма неминуемо следовал контроль над рынком. Напротив, французская стратегия гегемонии диктовала необходимость агрессивной территориальной экспансии, подчинения соседей и военно-политического доминирования, что давало возможность Британии выступать в роли защитника «европейской свободы». Таким образом, весь XVIII век прошел в плане международной политики под знаком противостояния французской стратегии континентальной гегемонии и английской концепции морской гегемонии, опирающейся на геополитическое «равновесие» сухопутных держав.
Первой пробой сил между соперниками стала война Аугсбургской лиги, разразившаяся в 1688–1697 годах, а высшей точкой полуторавекового стратегического противостояния оказалась континентальная система Наполеона, пытавшегося закрыть европейские рынки для английских товаров[746].
В этой борьбе Лондон не только стремился ослабить Францию, но и добивался сохранения на континенте устойчивого политического равновесия, которое не позволило бы ни одной стране контролировать ситуацию. Поэтому, как отмечают историки, несмотря на то что англичанам воевать приходилось в основном с французами, проводимая Лондоном внешняя политика отнюдь не сводилась к соперничеству с Парижем. «Британская политика создания сдержек и противовесов, — пишет Бенно Тешке (Benno Teschke), — формировалась в эпоху, когда в Европе существовала своего рода „смешанная“ система государств, еще не ставших капиталистическими, но вовлеченных в геополитический процесс накопления капитала»[747]. Будучи единственным (за исключением слабеющей Голландии) капиталистическим государством, Англия имела неоспоримые преимущества, используя в своих целях династические, конфессиональные и территориальные конфликты континентальных держав, противопоставляя их друг другу, а иногда и сталкивая между собой. В конечном счете этот процесс «трансформировал династические монархии континента, дав толчок долгосрочному и неравномерному социально-политическому и геополитическому процессу»[748].
Тем не менее было бы неверно представлять себе британскую элиту как единственную подлинно сознательную силу, действовавшую в европейской политике, а английскую буржуазию в качестве единственной движущей силы глобального капиталистического развития.
В династических государствах континента не только активно формировались буржуазные отношения, но и складывались собственные влиятельные группы интересов, способные не только направлять развитие по капиталистическому пути, но и бросать вызов английской гегемонии и британскому сценарию развития глобального капитализма. Именно в этом состоял смысл противостояния между Францией и Англией («второй Столетней войны») на протяжении всего XVIII века.
Если в Англии и Голландии итогом борьбы было торжество буржуазных институтов власти, то в других странах победу одержала абсолютная монархия. Однако победившая монархическая власть обречена была решать те же вопросы, что и буржуазные парламентские режимы. А буржуазные парламенты в полном соответствии с философией Томаса Гоббса должны были действовать жестко и эффективно, выступая в качестве коллективного монарха. Различия между британской моделью ограниченной (но еще не конституционной) монархии и континентальным абсолютизмом, разумеется, велики, но речь не идет о двух принципиально несовместимых системах. И в том и в другом случае основой власти является не народный суверенитет, не демократия, а компромисс элит. Только в Британии мы видим общественный договор, формализованный и четко зафиксированный на основе уже буржуазного права, а на континенте — неформальный, подверженный произвольному пересмотру сговор, опирающийся на феодальные нормы и традиции.
Французское государство играло еще большую роль в развитии капитализма, нежели британское. Задним числом либеральные идеологи именно в излишнем вмешательстве правительства видели причину неудачи, которую потерпела Франция в борьбе с Англией. Однако французский опыт может считаться неудачным лишь на фоне британского и лишь в той мере, в какой критерием успеха является не больше не меньше, как мировая политическая и экономическая гегемония. Напротив, на фоне других европейских держав (особенно на фоне Испанской империи с ее грандиозными ресурсами) развитие Франции в XVII–XVIII веках вполне может рассматриваться как история успеха. Сама по себе способность вести на протяжении полутора столетий (несмотря на череду неудач) борьбу за глобальную гегемонию, свидетельствует о мощи и эффективности как французского государства, так и французской буржуазии.
Французская модель коррупционного партнерства между государством и капиталом стала стихийным образцом для других европейских монархий, включая и Российскую империю. И если во Франции она была уничтожена революцией вместе со Старым режимом, то в других странах оказалась куда прочнее, будучи закреплена сложившимися на этой основе обычаями и культурой. Другое дело, что к середине XIX века французское политическое влияние, которое испытывали не только правящие круги и верхушка буржуазии, но и все образованные слои общества, способствовало распространению на континенте демократических идей в гораздо более радикальной форме, чем они формулировались в Англии. Аристократическое подражание элит французскому двору создавало почву для восприятия французских просветительских идей в средних слоях, способствуя возникновению интеллигенции Германии и России.
Однако не случайно и то, что идеи буржуазного демократического радикализма, овладевая умами интеллектуалов, были менее свойственны самой буржуазии Центральной и Восточной Европы, которая по своему развитию и социальной организации во многом напоминала коммерческие элиты французского Старого режима. Неформальное соглашение с государством позволяло осуществлять накопление капитала, сводя к минимуму риск и перекладывая издержки на низшие слои общества, наименее вовлеченные в буржуазную экономику.
Как пишет английский историк Джордж Тейлор (George Taylor), «самые впечатляющие капиталистические предприятия в эпоху Старого режима стали возможны благодаря королевским финансам и политическим комбинациям, а не частной инициативе в сфере промышленности или морской торговли»[749]. Правительство играло решающую роль в организации торговых компаний и налаживании мануфактурного производства. Однако, как отмечают современные исследователи, будет совершенно неверно полагать, будто «частные торговцы страдали под этим бременем»[750]. Буржуа наживались на казенных подрядах, созданные правительством предприятия они использовали в своих интересах. Убытки короны то и дело оборачивались частной прибылью. Другое дело, что подобная практика коррупционных и неформальных связей между буржуазией и монархией (начало которой можно наблюдать уже во времена Столетней войны) не способствовала превращению предпринимателей в политический класс, развитию представительных институтов и модернизации правовой системы.
Во Франции при Старом режиме коррупция была неискоренима, поскольку оказалась своеобразной формой компромисса между традиционными элитами и буржуазией, формой приватизации государственных средств. Именно поэтому «третье сословие», вернее его верхушка, имевшая доступ к финансовой и хозяйственной деятельности государства, не только не боролась с подобной практикой, но до определенного момента сама была в ней непосредственно заинтересована. Эта коррупция была частично институционализирована (например — сбор налогов и других поступлений в бюджет через откупщиков).
«На бумаге экономические ресурсы Франции превышали английские, но из-за плохого управления они не могли быть использованы должным образом», — констатирует английский историк Лоуренс Джеймс. Причина такого положения очевидна: «Сбор доходов в казну был приватизирован, благодаря чему администраторы могли присваивать себе огромные суммы денег, снижать налоговое бремя для богатых и перекладывать его на тех, кому и так приходилось тяжелее всего — на беднейшие слои населения»[751].
Разумеется, далеко не всегда во Франции казенные средства разворовывались. Кольберу на недолгое время удалось установить режим жесткой экономии и эффективного расходования средств. Его сын Жан-Батист маркиз Сеньелэ (Jean-Baptist, marquis de Seignelay), будучи морским министром, сумел построить сильный флот, потратив сравнительно небольшие средства. За 19 лет правления семьи Кольберов на флот потратили 216 миллионов ливров. Во Франции в начале XVIII века военные расходы поглощали три четверти государственного бюджета[752]. Особые усилия были затрачены на создание морского флота. Еще во времена Кольбера правительство развернуло широкомасштабную программу военно-морского строительства, включавшую не только спуск на воду мощных линейных кораблей, но и создание баз для флота. По мнению Мэхэна, в этом плане рациональное французское планирование за несколько лет достигло того, на что англичанам и голландцам потребовалось несколько поколений: «В течение недолгого управления Кольбера видна вся теория морской силы, проведенная в практику излюбленным Францией путем систематической централизации»[753].
Однако французское правительство, несмотря на всю централизацию власти, свойственную абсолютизму, оказалось в создании флота куда менее последовательно, чем английское. Причину надо искать в классовых интересах буржуазии, которые оказались более последовательно и систематически представлены в вестминстерском парламенте, нежели в версальском дворе Бурбонов. Слишком многое зависело от отдельной личности. После смерти Сеньелэ в 1690 году ситуация мгновенно изменилась. Расходы стали стремительно расти. Если в последний год деятельности маркиза содержание эскадр и портовых сооружений обходилось в 17 миллионов ливров, то в 1691 году уже в 24 миллиона, а в 1692 на те же цели потратили 29 миллионов. Стоимость одной порции питания для матросов выросла с 5 до 12 су, хотя кормить моряков лучше не стали. Если сравнить эпоху Кольберов и последующие 19 лет, то видно, что расходы выросли более чем в два раза (495 миллиона ливров), а флот терпел одно поражение за другим[754]. В 1701 году смерть графа Турвиля лишила Францию единственного адмирала, способного одерживать победы над англичанами и голландцами.
ОШИБКА «КОРОЛЯ-СОЛНЦЕ»
Война Аугсбургской лиги была первым столкновением английских и французских интересов, развернувшимся не только в Европе, но и по всей Атлантике. Она закончилась тактическим успехом британцев — цели, которые поставил перед собой Людовик XIV, достигнуты не были, но обе стороны прекрасно понимали, что мир между ними был не более, чем кратковременной передышкой. Новым поводом для войны оказался династический кризис в Испании.
Когда Карл II, последний из испанских Габсбургов, умер в ноябре 1700 года, Людовик XIV не только провозгласил Филиппа Анжуйского королем Испании, но несколько месяцев спустя объявил его и своим наследником. Французский монарх отныне пытался сам управлять Испанией и ее заокеанскими владениями, заявив, что между Францией и Испанией «нет больше Пиренеев» (il n’y a plus de Pyrnes)[755]. Армии Людовика оккупировали Испанские Нидерланды, поставив под свой контроль их портовые и торговые города. Первым следствием испано-французской унии оказалось закрытие испанских владений для английской и голландской коммерции. Конфликт вокруг испанского наследства, который еще за год или два до того, выглядел запутанным династическим спором, превратился в очередной раунд торгового соперничества.
Людовик XIV, возможно, не сознавая этого, пытался возродить глобальный проект «мира-империи», не удавшийся Карлу V и Габсбургам. Теперь Франция, усилиями которой этот проект был похоронен, сама стремилась занять то же место. Однако времена изменились и шансов на успех у «короля-Солнце» было немного, несмотря на его военную мощь и политическое влияние. Вооруженные силы Франции были по-прежнему самыми значительными в Европе, а ее флот, как показала война Аугсбургской Лиги, был вполне способен бороться за морское господство с Англией и Голландией, даже объединившими свои силы. Но исход войн решают не только большие батальоны. Политическая и социальная организация парламентской Англии была тем преимуществом, значение которого пока еще в полной мере не оценили другие державы Европы.
Английская монархия, действовавшая в тесном согласии с буржуазией, оказалась крайне эффективной в мобилизации ресурсов для войны. Успешно действовала и ее дипломатия, быстро сформировавшая против Людовика широкую коалицию. Неудача французских попыток вернуть на лондонский трон низвергнутого Якова II продемонстрировала всей Европе, что с Парижем можно бороться. Это убеждение крепло вместе с английскими финансовыми субсидиями, поступавшими в казну союзных с Лондоном государств, а порой и просто в карманы заинтересованных лиц.
В 1706 году французы осадили Турин, который был в то время столицей герцогства Савойского. Австрийские войска, пришедшие на помощь союзнику, нанесли поражение французам. Северная Италия оказалась под контролем австрийцев. В 1708 году французы были разбиты ими при Ауденарде (Oudenaarde). Английские десанты захватили остров Менорку и Гибралтар, первым губернатором которого стал знаменитый адмирал Рук (Rook). С помощью британского флота эрцгерцог Карл высадился в Испании. Его поддержали традиционно недовольные властью Мадрида восточные провинции — Каталония и Арагон. Для Каталонии эта война была продолжением борьбы за самоуправление и традиционные вольности, которую в XVII веке провинция вела против правивших в Мадриде Габсбургов при поддержке Франции, а теперь совместно с англичанами и австрийскими Габсбургами — против французских Бурбонов, захвативших власть в столице. Династический вопрос был не более чем поводом для отстаивания специфических региональных интересов. В свою очередь, это предопределило неудачу эрцгерцога Карла. Захватив Мадрид при помощи англичан и каталонцев, он не нашел там поддержки и вынужден был покинуть столицу. Английский экспедиционный корпус капитулировал, эрцгерцог покинул страну, а каталонцы в очередной раз были преданы союзниками и предоставлены самим себе.
В то время как на Западе Европы развернулась война за Испанское наследство, Россия, Дания и Саксония начали боевые действия против Швеции. Этот конфликт, вошедший в историю как Северная война, оказался настоящим подарком для английской политики, поскольку сковал силы шведов, не дав им возможности поддержать Францию — своего традиционного союзника. На Западе друг другу противостояли две коалиции — Франция и Бавария боролись против Англии, Голландии и Австрии, в то время как в самой Испании, престол которой оспаривался, развернулась гражданская война между сторонниками французских Бурбонов и австрийских Габсбургов. Напротив, на Востоке шведы сражались в одиночку против союза России, Дании и Саксонии, составленного при поддержке англо-голландской дипломатии. Однако соотношение сил оказалось далеко не благоприятным для союзников, терпевших неудачи всякий раз, когда на поле боя появлялись основные шведские силы, возглавляемые Карлом XII, быстро снискавшим славу непобедимого полководца. В 1707 году шведский король, разгромив саксонцев, колебался — двинуться на Восток, нанеся удар России, войска которой, пользуясь его отсутствием, захватывали один за другим города в Прибалтике, либо выступить на помощь своим французским союзникам, положение которых становилось все более критическим. Английское правительство отреагировало на эту опасность дипломатической миссией, возглавлять которую поручено было не кому-либо, а герцогу Мальборо — командующему британскими силами на континенте, уже прославившему себя победой при Бленхайме. Лестью, уговорами и, возможно, угрозами английский генерал сумел убедить шведского короля отказаться от похода на Запад, после чего армии Карла XII двинулись против Петра Великого в Россию. Итгом этой кампании был разгром шведов под Полтавой.
В стратегическом смысле Полтавская битва решила проблемы Англии ничуть не меньше, чем способствовала возвышению петровской России, ибо раз и навсегда убрала «шведский фактор», занимавший на протяжении 90 лет важнейшее место во французской военной стратегии. Однако благодаря этим успехам империя Петра Великого явно выходила за пределы, отведенные ей в английской концепции «баланса сил». Русские войска вскоре оказались уже в Мекленбурге и в Дании, что не могло не вызвать опасений у курфюрста Ганновера Георга I, в скором времени оказавшегося по совместительству королем Великобритании. Хотя проблемы Ганновера не были первостепенными для лондонского кабинета, их не могли не учитывать, тем более, что опасения курфюрста в целом совпадали со стремлением Англии к поддержанию равновесия. Эскадра адмирала Норриса (Norris), первоначально направленная на Балтику для защиты судоходства от шведских корсаров, получила теперь инструкцию оказать давление на тех самых русских, которым первоначально должна была помогать. Однако большого впечатления на русских Норрис произвести не мог, даже если бы проявлял больше решимости. Флот Петра состоял преимущественно из галер, сражавшихся со шведами в шхерах северной Балтики, куда тяжелые линейные корабли Норриса войти не могли. Вплоть до смерти Петра отношения между созданной им Петербургской империей и Британией оставались крайне двусмысленными и напряженными, что, впрочем, не препятствовало бурному росту торговых связей и технического сотрудничества.
Тем временем на Западе события развивались своим чередом. Во Фландрии 11 сентября 1709 года произошло сражение при Мальплаке (Malplaquet), оказавшееся самым кровопролитным за все время войны. Французская армия пыталась деблокировать крепость Монс. Герцог Мальборо и Евгений Савойский заставили французов отступить, но потери победителей были больше, чем потери побежденных. В октябре 1709 года союзники захватили Монс (Mons) и обсуждали вторжение во Францию, однако в Лондоне и Гааге правящие круги понемногу теряли интерес к войне.
Как отмечает Ансильон, герцог Мальборо и австрийский главнокомандующий Евгений Савойский «вели войну как суверенные правители, не отчитываясь ни перед кем, кроме друг друга»[756]. Такое положение дел не слишком нравилось Вестминстерскому парламенту. Зависть к удачливому полководцу усугублялась борьбой партий — Мальборо принадлежал к либеральной партии вигов, с которой вели борьбу консервативные тори. Внешняя политика вигов всегда была более агрессивной и более направленной на укрепление роли Англии в Европе, тогда как тори уделяли больше внимания колониальной экспансии, полагая, что если заморским делам англичан никто из европейских держав не мешает, то и англичане должны оставить своих соседей в покое, предоставив континентальные монархии их собственной судьбе.
Теперь французы были настолько ослаблены, что угрозу для континентального «равновесия» уже представляли не амбиции Людовика XIV, а возможное усиление Австрии. Первоначально австрийский эрцгерцог Карл претендовал только на испанский престол, но в 1711 году после смерти Иосифа I он оказался правителем Австрии и императором Священной Римской империи. Если бы Карлу Австрийскому удалось соединить под одной короной владения Австрии и Испании, могла возникнуть новая мировая держава. К тому же обладание бывшими Испанскими Нидерландами, современной Бельгией, делало Австрию атлантической державой и потенциальным торговым соперником. Уже в 1720-е годы в Лондоне нервничали из-за успехов Остендской компании (Ostende Company), которая успешно вела дела в Вест-Индии. Англия и Голландия стали сворачивать свое участие в военных действиях. Мальборо был отозван с континента. После того как Англия в 1711 году вышла из войны, счастье изменило австрийцам, которые в 1712 году потерпели поражение при Денене (Denain).
Несмотря на тактические успехи, достигнутые в заключительных кампаниях войны, Франция была разорена и обессилена. Война завершилась двумя мирными договорами — Утрехтским (Utrecht Treaty) 1713 года и Раштадтским (Rastatt Treaty) 1714 года. В Утрехте Англия и Пруссия признали права Филиппа Бурбона на испанский престол, а по Раштадтскому миру его права подтвердила и Австрия. Вопрос об объединении или унии Франции и Испании больше не стоял. Франция, в свою очередь, отказалась от поддержки британских и ирландских якобитов, сохранявших верность свергнутым Стюартам, признала право Ганноверских курфюрстов наследовать английский трон после смерти бездетной королевы Анны. Испания сохранила свою заморскую империю, но ее европейские владения подверглись разделу. Савойское королевство получило Сицилию. Территория современной Бельгии стала Австрийскими Нидерландами, Вена захватила также часть испанских владений в Италии. Англия приобрела Гибралтар и Менорку, которые превратились для британцев в ключевые военные и торговые станции на Средиземном море. Еще одним достижением британской буржуазии стало право асьенто — монополия на ввоз негров-рабов в испанские владения в Америке, а также ряд французских островов в Вест-Индии и Северной Америке.
Испанские Бурбоны на протяжении XVIII века ориентировались на Францию, но доставшаяся им империя продолжала самостоятельное существование, постепенно деградируя. Самоуправление Каталонии было ликвидировано. Попытки его восстановить предпринимались впоследствии неоднократно — во время каждой испанской смуты и революции вплоть до короткого, но яркого периода «красной Барселоны» в годы гражданской войны 1936–1939 годов. Однако окончательно самоуправление было возрождено лишь в конце XX века, после смерти генералиссимуса Франко. По иронии истории оно было восстановлено одновременно с очередной реставрацией династии Бурбонов, чье восшествие на престол знаменовало конец каталонской свободы.
ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНФЛИКТ
Поражение Франции в войне за Испанское наследство утвердило гегемонию Британии в мировой капиталистической системе, но гегемония эта не была ни прочной, ни общепризнанной. Английское процветание вызывало зависть правящих кругов Франции, которые, в свою очередь, должны были иметь дело не только с восхищенным подражанием, но и с ревностью соседних монархий. После провала экспансионистских планов Людовика XIV потребовалось около двух десятилетий, чтобы французская экономика оправилась, но уже к середине XVIII столетия на фоне общемирового роста торговли и производства мы видим заметный подъем и в этой стране. Вместе с восстановлением хозяйства возрождались и амбиции Парижа.
Поводом для нового большого европейского конфликта стала нерешенная проблема с наследованием владений австрийского Габсбургского дома, где пресекалась мужская линия. Прагматическая санкция, обеспечивавшая передачу власти над империей Марии Терезии, была признана большинством государств Европы, включая Францию, но ее не приняла Бавария, что, в свою очередь, создавало условия для возникновения конфликта, в который втягивались другие немецкие государства.
И все же войну развязала не Бавария, а Пруссия. Фридрих II, просвещенный прусский монарх, интеллектуал и поклонник Вольтера, при жизни названный Великим, попросту напал на Австрию и оккупировал в 1740 году Силезию. Действия Фридриха вызвали возмущение даже среди его приверженцев. Спустя сто с лишним лет немецкий «железный канцлер» Бисмарк признавал, что прусский король попросту «украл Силезию»[757]. Кризис, разразившийся в Германии, вызвал цепную реакцию по всей Европе. Англо-французские противоречия наложились на вековое франко-австрийское соперничество и новый внутригерманский конфликт между Берлином и Веной. Англичане поддержали Австрию, французы — Пруссию и Баварию. И хотя Пруссия официально не воевала с Британией, Англия и Франция быстро оказались в состоянии войны.
На сей раз французские армии почти всюду одерживали победы. Их армии захватывали в Австрийских Нидерландах один город за другим, преодолевая сопротивление англо-австрийских войск. Военные действия, развернувшиеся в Индии, тоже складывались для англичан неблагоприятно. Однако британская дипломатия оказалась сильнее французского оружия. Потратив изрядные суммы денег, Лондон сумел урегулировать прусско-австрийский конфликт. Вена, скрепя сердце, примирилась с потерей части Силезии, а Фридрих Великий, достигнув своих целей, предпочитал не искушать судьбу, конфликтуя с могущественной Британией. В 1742 году между двумя германскими державами был подписан мир, позволивший австрийцам сосредоточить все силы на борьбе с Францией. Правда, в 1744 году война между Пруссией и Австрией возобновилась — вновь по инициативе Фридриха, который, видя неудачи англо-австрийской коалиции, решил воспользоваться ситуацией, чтобы прибрать к рукам оставшуюся часть Силезии. Эта провинция была густо населена и богата минеральными ресурсами, ее присоединение резко увеличивало экономические и финансовые возможности Пруссии, причем еще до конца войны Фридрих сумел эффективно использовать возможности завоеванных земель для пополнения войск и казны. Протестантское население, не особенно жаловавшее католическую власть Габсбургов, склонно было поддержать прусского короля. Английская дипломатия вновь проявляла активность, добиваясь от Вены отказа от Силезии в обмен на признание Марии Терезии законной наследницей Габсбургов, а ее мужа — Франца I Лотарингского — германским императором. После ряда поражений Марии Терезии пришлось согласиться с потерей силезских владений, хотя в душе с этим поражением она никогда не примирилась — возвращение Силезии оставалось своего рода идеей-фикс австрийской внешней политики вплоть до смерти этой могущественной женщины.
Несмотря на дипломатические успехи, в Лондоне понимали, что войны выигрывают все же силой оружия. Ответом на успехи французов в Индии и Нидерландах был захват англичанами в 1745 году в Америке крепости Луисбург (Louisburg). Стратегическое значение этого пункта было столь велико, что, в ходе последующих мирных переговоров в обмен на его возвращение, французы вынуждены были отказаться от занятого ими Мадраса (Madras) и вывести свои победоносные войска из Австрийских Нидерландов. Контролируя Луисбург и господствуя на море, Англия была в состоянии полностью блокировать Канаду и другие французские владения в Северной Америке. Взятие Луисбурга было, однако, важно не только тем, что обеспечило Британии сильные козыри в ходе мирных переговоров. После многочисленных неудачных попыток британцы наконец научились проводить крупномасштабные десантные операции. Взаимодействие армии и флота, отработанное во время штурма Луисбурга, стало моделью для будущих побед Семилетней войны — десантов в Квебеке и Гаване.
Мир в Экс-ла-Шапель (Aix-la-Chapelle) в 1748 году в основном восстановил предвоенное положение, заставив обе боровшиеся стороны вернуть захваченное. Для Англии главный итог войны состоял в том, что она показала ключевое значение флота для исхода борьбы на глобальном уровне. Собственно, именно этот опыт лег в основу позднейших теорий адмирала Мэхэна о значении морской силы в истории. Британские успехи на море уравновесили и свели на нет все сухопутные победы французов. В Индии флот также показал свою силу. Если на суше французам удалось потеснить англичан, то в водах Индийского океана королевские корабли и английские корсары добились решающих побед. Убытки французской компании в Индии оценивались в 750 тысяч фунтов, а ее акции упали до одной десятой от той цены, за которую их продавали в 1741 году[758]. Другим достижением Англии было окончательное подавление якобитских движений в Шотландии и создание Соединенного Королевства. Объединение парламентов и вооруженных сил Англии и Шотландии обеспечило государственную централизацию Великобритании и позволило сконцентрировать ресурсы двух королевств на общих целях.
Во время войны за Испанское наследство, несмотря на то, что ставкой были глобальные интересы сторон, боевые действия велись преимущественно в Европе, а противостояние в Атлантике было преимущественно морским. Война за Австрийское наследство развивалась иначе, демонстрируя нарастающую глобализацию конфликта. Боевые действия в Азии и Америке велись не только на море, но и на суше, причем обе стороны стремились расширить зону своего контроля за счет вовлечения в борьбу местных правителей в Индии и индейских племен в Америке. Пол Кеннеди (Paul Kennedy) считает, что распространению европейского влияния за океанами способствовало соперничество (rivalries) между западными державами «и без того острое, оно теперь распространилось на трансатлантическое пространство»[759].
Наибольшую выгоду войны за Австрийское наследство получила Пруссия, закрепившая за собой захваченную и удержанную в ходе двух военных кампаний Силезию. Для молодого прусского монарха Фридриха II это было очень ценное приобретение, ибо оно увеличивало не только территорию его королевства, но и его экономический потенциал — силезские рудники и промышленность играли важную роль в дальнейшем развитии Пруссии. Под властью Фридриха Великого это второстепенное немецкое государство становится ключевым игроком европейской политики. На протяжении своего царствования Фридрих непрерывно увеличивал территорию и благосостояние подвластного ему королевства, но особое внимание — в соответствии с традициями Гогенцоллернов — уделялось вооруженным силам.
Для Фридриха Великого техническое оснащение армии было важнейшим делом, требовавшим постоянной заботы. Прусские ружья были снабжены железными шомполами вместо часто ломавшихся деревянных, которые использовались в других армиях, конная артиллерия имела более легкие пушки, а потому быстрее передвигалась. При населении в 4,2 миллиона человек Пруссия могла во время Семилетней войны выставить армию в 154 тысячи солдат, лишь немногим уступавшую по численности русской и французской[760]. К тому же эта армия отмобилизовывалась в три раза быстрее, чем армии соседних государств, что зачастую давало ей не только тактическое, но и стратегическое преимущество. Когда во время войны за Австрийское наследство российское правительство решило прийти на помощь Марии Терезии, потребовалось три года, чтобы принять решение, подготовить экспедиционный корпус и направить его в Германию. Русские войска появились на театре военных действий лишь к самому концу конфликта — в 1748 году. К тому времени в Лондоне уже не видели никакого смысла в этой экспедиции, а потому прекратили финансирование. Не получив обещанной субсидии, русские войска повернули назад.
Пруссия к началу XVIII века имела образцовую армию, отличавшуюся не только безупречной дисциплиной и выучкой, но и эффективной, продуманной системой управления. Прусский король Фридрих Вильгельм «заставлял свои полки стрелять побатальонно, поротно и повзводно с такой быстротой и точностью, как будто играл на фортепиано»[761]. Во время сражений на противника наводили ужас «живые стены» прусской пехоты. В 1740 году во главе этого королевства оказывается молодой Фридрих II, которому досталась не только сильная армия, но и здоровые финансы, не растраченные на придворные развлечения. Как заметил один из биографов Фридриха, его просветительские увлечения «странным образом переплетались с самым радикальным милитаризмом»[762]. Уже в начале своей военной карьеры молодой король приобрел славу выдающегося полководца, но большая часть его побед были бы невозможны, если бы не великолепный командный состав. Прусские офицеры и генералы были способны не только четко выполнять приказы, но и проявлять инициативу там, где это было необходимо. Неоднократно случалось, что Фридрих терял управление войсками, а при Мольвице даже покинул поле боя, но это никак не отразилось на ходе битвы: каждый командир на месте понимал общий замысел и самостоятельно находил наилучшее решение.
Вооружение и снабжение прусской армии тоже было образцовым. Артиллерийский парк королевства при Фридрихе Великом вырос за период 1761–1778 годов со 145 пушек и 30 гаубиц до 595 пушек и 216 гаубиц[763].
По замечанию Чарльза Тилли, прусская армия воспроизводила сельскую социальную структуру: дворяне — офицеры, свободные крестьяне — сержанты, а закрепощенные крестьяне — солдаты[764]. В этом отношении Пруссия не так уж сильно отличалась от России, а войска Фридриха Великого — от противостоявших ей русских армий Елизаветы Петровны.
Надо отдать должное прусскому королю, который не испытывал особых иллюзий относительно чувств своих подданных и прекрасно отдавал себе отчет в классовых противоречиях, лежавших в основе созданной им военно-государственной системы. В разговоре с одним из своих генералов, восхвалявших преданность и надежность прусских солдат, Фридрих цинично заметил: «Меня более всего удивляет то, что мы безопасны среди этих людей; каждый из них — и ваш и мой непримиримый враг, их сдерживает одна только дисциплина и дух порядка»[765].
Не удивительно, что в армии практиковались жесточайшие наказания, поддерживавшие этот «дух порядка» не только моральным, но и вполне телесным воздействием. Не удивительно и то, что русская армия, несмотря на неприязнь патриотически настроенных отечественных дворян к «пруссачеству», взяла за основу именно этот подход к порядку и дисциплине.
СЕМИЛЕТНЯЯ ВОЙНА
Война за Австрийское наследство не ослабила Францию экономически. Напротив, бурное развитие французской торговой буржуазии, поддержанное монархией Бурбонов, продолжалось настолько успешно, что вызывало панику на другой стороне пролива. В середине 1750-х годов один из британских авторов писал: «Я больше боюсь сегодня французского кредита и французской торговли, чем французских флотов и армий»[766].
Обе стороны рассматривали мир в Экс-ла-Шапель скорее как перемирие, другое дело, что ни та ни другая держава не видели необходимости форсировать события. Однако в Индии столкновения между французскими и английскими силами практически не прекращались, а в Америке назревал новый кризис. Не прошло и десяти лет после завершения войны за Австрийское наследство, как Европу потряс новый, куда более масштабный конфликт, вошедший в историю под названием Семилетняя война.
Эта война могла бы именоваться мировой даже с большим основанием, чем конфликт 1914–1918 годов. Театрами военных действий стали Европа, Америка, Африка, Индия. Английские и французские силы сражались друг против друга на Карибах и в Сенегале. В конфликт оказались втянутыми почти все европейские державы — от Англии и Франции на Западе до России и Австрии на Востоке. Эта война оказалась не только решающим раундом в столетнем противостоянии британской и французской монархий, но и поворотным пунктом в истории Центральной Европы. Россия, ставшая при Петре Великом важнейшей региональной державой, приобретает в эти годы значение в качестве силы, влияющей на общий ход европейской политики, впервые — правда, вынужденно и без особого успеха, — пытаясь обособиться от Англии. Пруссия закрепила за собой статус великой державы, тогда как Австрия уже не могла считать себя ведущей силой в Германии.
Вдобавок ко всему, этот конфликт сопровождался «дипломатической революцией», когда распались старые испытанные союзы и вместо них образовались новые. Петербург впервые поссорился с Лондоном, а Вена договорилась с Парижем. Англичане, видевшие в Австрии противовес Франции, теперь поддерживали Пруссию в противовес Австрии.