Узник в маске Бенцони Жюльетта
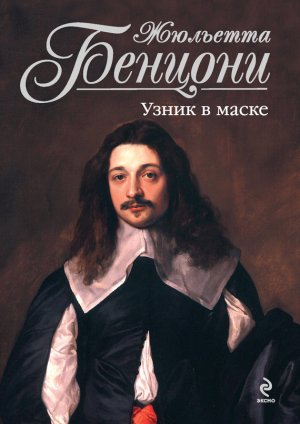
— Этого можно добиться и без него. У негодницы остается единственный выход, этой же ночью перепрятать мальчика.
— Есть и другой, убить его! — мрачно проговорил Бофор.
— Не думаю, что она на это пойдет. Эта женщина умеет взвешивать степень риска. В данном случае риск был бы недопустимо велик. Убийство оставляет следы, поэтому сам убийца не миновал бы колесования, а она лишилась бы головы. Где ваш оруженосец?
— Снаружи, наблюдает за домом.
— Тем же занят мой слуга Ла Шоссе. Не могу вам указывать, монсеньер, но вам лучше позвать помощника, забрать коней и отойти на какое-то расстояние. Нюх подсказывает мне, что ребенка перевезут на новое место сегодня ночью. Я распоряжусь перегородить улицу перевернутой телегой с дровами.
«Вот это женщина! — подумал Бофор. — Держу пари, папаша-судья не годится ей в подметки!»
— Если мы его спасем, то только вашими стараниями, маркиза! Как мне вас благодарить? Госпожа де Бринвилье улыбнулась.
— Если герцогиня получит своего сына живым и невредимым, то мне бы хотелось, чтобы она представила меня королеве. Мы — свежеиспеченная знать. Моего супруга зовут Антуан Гоблен, он происходит из потомственных зажиточных вязальщиков, но дворянской приставки, как видите, в его настоящей фамилии можно не искать. Мы, конечно, не деревенщина, но в маркизах ходим без году неделя.
— Ваш муж принят на военную службу, а это предоставляет немало прав.
— Разумеется, и все же мне хотелось бы увидеть двор вблизи.
— Я об этом позабочусь, маркиза. Герцогиня тоже будет счастлива оказать вам содействие.
Выйдя на темную улицу, Бофор послал Гансевиля за лошадьми, а затем засел вместе с ним в узком зловонном простенке между двумя домами. Здесь сваливали отбросы, поэтому место было облюбовано крысами. Пришлось разгонять их пинками. Прошло всего несколько минут — и от особняка д'Обре отъехала, надсадно скрипя, тяжело груженная повозка, чтобы с грохотом перевернуться, как и было обещано, в конце улицы. Теперь оставалось только ждать.
Ожидание оказалось долгим. Часы на колокольне церкви Сен-Поль пробили девять, десять, одиннадцать, полночь… Герцог и его друг-оруженосец уже начали терять терпение, как вдруг двери особняка Ла Базиньер бесшумно распахнулись, и носильщики в сопровождении двух мужчин, вооруженных шпагами, понесли кого-то в темноте в сторону улицы Сен-Поль.
— Куда она отправилась среди ночи? — пробормотал Бофор, уверенный, что в паланкине расположилась коварная Ла Базиньер. — За ней!
— Вдруг это уловка, призванная нас отвлечь?
— Если из дома появится еще кто-то, ими могут заняться люди госпожи де Бринвилье. Впрочем, ты прав, нам лучше разделиться. Я поспешу за носилками, а ты останься здесь.
Бофор был ярым охотником, привык красться в потемках с ружьем в руках и умел перемещаться бесшумно. Устремившись за маленькой процессией, он убедился, что ее путь лежит к новой иезуитской церкви. Рядом располагалось кладбище, куда можно было попасть и через церковь, и через калитку. Носилки остановились у калитки. Из них то не появился. Один из охранников подошел к калитке открыл ее без труда — видимо, располагал ключом. Вернувшись к носилкам, он достал из них продолговатый сверток и взвалил его на плечо. Его напарник и носильщики вооружились заступами.
Глаза Бофора застлала розовая пелена, сердце упало, эти люди определенно намеревались тайно предать земле тело — не иначе, Филиппа. Он выхватил шпагу и готов был броситься на негодяев, как вдруг ощутил на плече чью-то сильную руку.
— Их четверо, монсеньер! Одному вам не справиться.
— Кто ты?
— Ла Шоссе, слуга маркизы. Потерпите, я приведу вашего оруженосца.
— Сперва помоги мне перелезть через стену. Носилки остались у калитки, а вся четверка ушла на кладбище, заперев калитку изнутри. Ла Шоссе без слов согнулся и подставил Бофору скрещенные руки. Рывок — и Бофор взлетел на стену, откуда бесшумно спрыгнул вниз. Тем временем четверка остановилась в глубине кладбища, но не для того, чтобы копать могилу, а чтобы сдвинуть плиту, открывавшую проход в склеп. Бофор услышал хруст и, не дожидаясь подмоги, бросился на звук, сжимая шпагу.
Четверо, занятые своим делом, не заметили его вовремя, что тут же стоило жизни одному из них, пронзенному насквозь. Однако остальные трое быстро оправились от неожиданности. Пока Бофор тащил из груди убитого свою шпагу, на него набросился оставшийся в живых вооруженный охранник. Бофор, раненный в руку, прижался спиной к кладбищенской стене, готовый обороняться. Носильщики тоже были вооружены — один заступом, другой тяжелым ломом. Но Бофор был так разъярен, что не чувствовал боли и так ловко действовал шпагой, что трое противников отступили на шаг-другой, надеясь воспользоваться какой-нибудь его оплошностью. Двое носильщиков были напуганы, но человек со шпагой оказался умелым фехтовальщиком. Внезапно Бофора осенило, и он крикнул:
— Ты от меня не скроешься, Сен-Реми, или как тебя там! Я прикончу тебя, как бешеного пса!
— Сначала дотянись до меня! Нас трое, а ты один…
Значит, это он и есть! У Бофора словно выросли крылья, и он с ревом кинулся на своих противников. Заступ, занесенный носильщиком, чуть не угодил ему по голове; в следующее мгновение носильщик взвыл и рухнул, как подкошенный, пронзенный шпагой Гансевиля, вовремя подоспевшего на помощь своему господину. Носильщика с ломом ожидала та же участь. Сен-Реми, видя, что соотношение сил сменилось на противоположное, сразу раздумал драться, бросился наутек, как заяц, и исчез с такой стремительностью, словно под ногами у него разверзлась кладбищенская земля.
Гансевиль кинулся за ним вдогонку, а Франсуа опустился на колени рядом с завернутым в материю телом, оставшимся лежать рядом со вскрытым склепом. Разворачивая ткань, он дрожал всем телом и заливался слезами, то был ребенок Сильви, жертва авантюриста и подлой интриганки. Ему, Бофору, придется доставить тело матери… Он был близок к обмороку, представляя себе ее ужас.
Он уже нагнулся к неподвижному мальчику, чтобы запечатлеть на его челе прощальный поцелуй, но тут почувствовал тепло и различил дыхание… Радость грозила обмороком не меньше, чем горе.
— Гансевиль! — гаркнул он, больше не заботясь о соблюдении тишины. — Скорее сюда, Гансевиль! Он жив! Жив!
Он обнял ребенка и, забыв про раненую руку, поднял лицо к звездному небу, мысленно благодаря судьбу за этот подарок.
Прибежавший на зов оруженосец осмотрел мальчика и сказал:
— Он жив, но без сознания. Наверное, его усыпили. Но чем?
— Вдруг это какой-то яд, действующий медленно? — снова встревожился герцог.
— Не похоже.
— Эти негодяи хотели похоронить его заживо! Как можно так низко пасть?
Гансевиль, не отвечая, приблизился к открытому склепу и обнаружил лестницу, уходящую в густую тьму. Спустившись на несколько ступенек, он вернулся назад.
— Вряд ли они собирались его убить, скорее намеревались спрятать на время обыска в особняке Ла Базиньер, которым вы пригрозили. Сен-Реми ни к чему, чтобы мальчик исчез без следа, ведь он намерен тянуть из матери деньги…
— Ты только представь себе, как бы этот бедняжка очнулся в могиле… Наверняка умер бы от страха!
— Очень может быть… Если бы труп обнаружили, на нем не было бы ни следов насилия, ни признаков отравления.
— Я еще не убедился, что снадобье, которым его опоили, — не яд. Надо разбудить мальчика, привести в чувство…
Помощь подоспела незамедлительно. Необычная суета на кладбище и крики Франсуа всполошили отцов-иезуитов. На подмогу уже спешил человек в черной сутане и квадратной шапочке, вооруженный фонарем. Бофор назвал себя и рассказал, что тут только что произошло. Священник бросил взгляд на бесчувственного ребенка.
— Среди наших братьев есть отменный лекарь. Он его осмотрит. А это, — он указал на вскрытый склеп, — не могила, а погреба дворца Сен-Поль, которые мы замуровали, когда возводили свою церковь. Замуровали и забыли… Идемте со мной!
Торопясь за священником и Бофором, несущим Филиппа, Гансевиль усмехался в усы. Иезуиты вряд ли позабыли бы про такую важную находку, как потайной вход в подземелье. Оставалось выведать, как об этом пронюхал Сен-Реми…
В низком темном помещении, украшенном только настенным распятием, стояло несколько скамей. Иезуит зажег от своего фонаря свечи перед святыми образами и вышел. Бофор и Гансевиль уложили Филиппа на скамью. Ребенок дышал ровно, хоть и слабо. Старый монах тщательно его осмотрел, нагнулся ко рту ребенка, понюхал и устремил на Бофора живой взгляд глаз из-под криво сидящих на носу очков.
— Большая доза опиума, — заявил он. — Более слабый организм не выдержал бы, но за этого мальчугана беспокоиться не стоит. Отнесите его домой и дождитесь, когда он очнется. Я слышал, что злоумышленники собирались похоронить его на нашем кладбище?
— Да, святой отец. Я счастлив, что по божьей воле успел вовремя предотвратить злодейство. Сказать по правде, для этого нам пришлось убить троих… К несчастью, четвертому удалось скрыться.
— Господь не даст ему уйти далеко. Не тревожьтесь за трупы, мы сами предадим их земле. У вас есть, на чем увезти мальчика?
— Мы приехали верхом. Мой оруженосец сходит за лошадьми. Завтра я снова буду здесь, чтобы отблагодарить вас и вашу обитель так щедро, как мне подсказывает чувство глубокой признательности.
Совсем скоро Франсуа, испытывая счастье, какое давно его не посещало, передал Сильви сына по-прежнему спящего, но живого и здорового, В доме де Фонсомов никто не спал, ожидая развязки. Возвратившись из Фонтенбло, хозяйка нашла письмо с требованием выкупа, ей приказывали в следующую полночь оставить пятьдесят тысяч ливров у основания статуи Генриха IV на Новом мосту, вернуться домой и ждать час, по истечении которого ей вернут сына. Занимаясь вместе с Персевалем сбором требуемой суммы, Сильви тем не менее почти не питала надежды на возвращение Филиппа. Какое может быть доверие к людям такого сорта? И все же в предложенную ими игру следовало сыграть до конца.
Когда перед ней предстал Франсуа с неподвижным Филиппом на руках, у Сильви потемнело в глазах. Герцог на всю жизнь запомнил ее взгляд и слова, перемешанные слезами радости:
— Однажды я уже назвала тебя «Ангелом», когда ты нашел меня в лесу, и долго пребывала в этом убеждении. Теперь ты снова подтвердил его правоту.
Как Франсуа ни расчувствовался, задерживаться в доме Жана де Фонсома он счел для себя невозможным. Он торопился побыстрее напасть на след похитителя, припереть его к стене и заодно с ним избавить мир от бывшей мадемуазель де Шемеро. Мечтая о мести, он строил планы поджога ее дома, вспоминая, как когда-то предал огню замок Ла Ферьер. Однако ворвавшись вместе с Гансевилем и собранной тем подмогой в проклятый дом на улице Нев-Сен-Поль, он не застал там ни души. Исчез даже привратник… Никто, даже его недавняя голубоглазая союзница, не мог ему подсказать, куда подевались хозяйка дома и ее челядь.
Кипя от ярости при мысли, что близится конец отсрочки, предоставленной ему королем, он
уже собирался скакать в Фонтенбло и умолять о дополнительном времени и ордере на арест негодяев, когда к нему подбежал взволнованный Гансевиль с сообщением:
— Она здесь!
— Кто?!
— Госпожа де Фонсом. Она желает с вами поговорить.
Франсуа просиял. Сильви в его доме, куда он приглашал стольких женщин в напрасном ожидании, что они заставят умолкнуть его память! Это появление показалось ему чудесным, но одновременно немного скандальным. Прежде броситься ей навстречу, он посмотрел в окно и убедил, что солнце сияет вовсю, а значит, гостью можно принять саду. Он встретил ее уже на лестнице, схватил за руку потащил за собой.
— Идем в сад! Этот дом недостоин тебя.
Садик был невелик, но в теплых утренних лучей утреннего солнца казался залитым золотом. Деревья осыпали сухими листьями фонтан со статуей нимфы, выливающей воду из кувшина. Тут же стояла каменная скамья. Он усадил на нее Сильви, сам же остался стоять перед ней.
— Ты в моем доме… — начал он недоверчиво. — У меня нет слов, чтобы выразить свою радость!
Вместо ответа она протянула ему вскрытое письмо, извлеченное из кармана просторного плаща из серого бархата. Письмо состояло всего из нескольких слов, но до чего угрожающих, несмотря на неконкретность! «То, что не удалось в полдень, может получиться вечером». Видимо, Сен-Реми был знаком с наставлениями Макиавелли… Герцог взволнованно скомкал бумагу.
— Когда ты это получила?
— Час назад письмо принес мальчишка. Отдал привратнику и сбежал.
— Значит, этот ничтожный субъект не только не провалился ко всем чертям, но еще смеет нас задирать? И как меня угораздило позволить ему уйти! Надо любой ценой защитить на… твоего сына. Я собираюсь обратиться к королю. Возможно, он…
Она остановила его нетерпеливым жестом.
— Нет! Получив это, мы с шевалье де Рагнелем хорошенько поразмыслили. Где бы ни находился Филипп, в этом королевстве ему будет грозить опасность, пока бандита не схватят. Даже за монастырскими стенами он не будет в безопасности. Разве что…
— Говори!
Разве что его станешь оберегать ты сам. Франсуа, я приехала просить тебя забрать его с собой, сначала в Брест, потом в море…
— Ты хочешь мне его доверить?
Не веря счастью, которое она ему предлагала и из-за которого долго будет проливать горькие слезы, он опустился перед ней на колени и протянул к ней раскрытые ладони, опасаясь, что иначе выронит ее щедрый дар, но одновременно не осмеливаясь к нему притронуться. Сильви наклонилась вперед и дотронулась до его больших ладоней.
— Кто позаботится о нем лучше, чем родной отец? — прошептала она. — Я верю, что ты воспитаешь его достойным имени, которое он носит.
— Клянусь самой своей жизнью! Но что будет думать он сам? Ты говорила с ним?
На ее прекрасном лице появилась ласковая улыбка, которую не могла омрачить даже острая тревога.
— Он без ума от радости! Вместо того чтобы учиться в коллеже, он станет пажом принца, а главное, увидит море, корабли…
— Он все это любит?
— Не меньше, чем ты. Мечтает об океанских просторах. Когда ты уезжаешь?
— Раз так, то уже завтра. Собирай его вещи. Я сам заеду за ним в карете. Прибыв в Брест, я отправлю королю письмо о том, что его повеление исполнено.
Держа Франсуа за руки, Сильви поднялась со скамьи.
— Я увижу короля раньше, чем он получит твое письмо. Отправив Филиппа с тобой, я вернусь в Фонтенбло.
Они медленно брели бок о бок по саду. Естественным жестом, повергнувшим Франсуа в дрожь, Сильви взяла его под руку, и он накрыл ее пальцы ладонью другой руки. Несколько минут оба наслаждались пленительной близостью, связанные огромной любовью, которую им не дано было прежде познать.
— Ты будешь хорошо о нем заботиться? — спросила она тихо и так печально, что Франсуа еле удержался, чтобы не заключить ее в объятия. Чувствуя, что, поступив так, он бы все испортил, он всего лишь сжал ее тонкие пальцы. — Ему будет хорошо со мной.
— Да, чуть не забыла про аббата Резини, его наставника! Он ужасно боится качки, но отказывается расставаться с воспитанником. Он собирался быть рядом с ним и в коллеже, чтобы предохранять от опасных связей. Что уж говорить о моряках…
Бофор не удержался от смеха, и обоим стало легче.
— У меня уже есть капеллан, но, если твой аббат умеет играть в шахматы, я встречу его с распростертыми объятиями. Не умеет, так научится.
На пороге дома они остановились. Франсуа с бесконечной нежностью расправил вокруг лица Сильви края бархатного капюшона.
— Ступай с миром, владычица моего сердца! Ты знаешь, что, даже не будучи знаком с нашим Филиппом, я всегда его любил. Даю тебе слово, что он будет счастлив. Завтра я за ним приеду…
Она привстала на цыпочки и легко чмокнула его в чисто выбритую щеку, обдав запахом розовых лепестков. — Да поможет тебе господь!
Спустя час после отъезда сына Сильви выехала в Фонтенбло, где была в тот же вечер принята королем, вернувшимся с прогулки. Людовику XIV не терпелось узнать, чем завершилась история, начавшаяся в его кабинете. Действия Бофора вызвали у него одобрение, и даже решение относительно безопасности юного Фонсома, принятое без его ведома, не было подвергнуто порицанию. Король лишь заметил:
— Вы не боитесь, что, доверив сына герцогу де Бофору вы породите слухи?
Сильви ответила, не отводя глаз:
— Слухи могут быть порождены любыми поступками. Кстати, в связи с этим позвольте просить ваше величество сохранить его отъезд в тайне. Причина — здесь.
И она подала королю угрожающую записку, полученную уже после спасения Филиппа. Людовик взял ее, прочел. прищурился и, расправив бумагу, положил себе на стол, придавил ладонью, давая понять, что намерен оставить ее.
— Даю слово молчать, герцогиня. Ваше требование вполне оправданно. Преступника будут разыскивать. Что касается моего кузена Бофора, то, надеюсь, он оправдает ваше доверие. А теперь ступайте к королеве. Беременность мешает ей двигаться, и она требует вас к себе.
Сильви присела в глубоком реверансе, волнами распустив серый бархатный подол по королевскому ковру. От короля она унесла странное ощущение, несмотря на свое желание казаться добрым, Людовик неприязненно поморщился, произнося имя Бофора. Значило ли это, что он по-прежнему помнит Фронду, ничего, вопреки видимости, не простил и, посылая счастливого Франсуа бороздить моря, всего лишь отсылает его подальше от двора и от своей венценосной особы?
Тем временем в парижском доме Кольбера на улице де Пти-Шам происходили события, которые вызвали бы у Сильви большой интерес. Разгневанный министр подвергал безжалостному разносу Фульжена де Сен-Реми, не знавшего, куда деваться от смущения.
— Вы наделали непростительных глупостей! Похищение юного герцога было преждевременным и только разозлило короля!
— Мне нужны деньги, а вы мне их не даете, — огрызнулся распекаемый обиженным голосом. — В этот раз я бы вернул им щенка и стал богаче на целых пятьдесят тысяч ливров…
— Которые были бы вынуждены разделить со своей сообщницей! Ладно, я дам вам немного денег, но под обещание не показываться, пока я не дам знака.
— Должен ли я последовать за господином де Бофором в Бретань?
— Ни в коем случае! Теперь он вас знает. А зрение у него хорошее, помощники тоже. К тому же плод еще не созрел, а я еще недостаточно силен, чтобы закрутить интригу, которая приведет к его исчезновению. Сначала дождемся суда и казни Фуке. После этого мне надо будет постепенно избавиться от всех его друзей, которые никогда не простят мне его падения. А пока придется помалкивать. Пусть герцогиня спокойно наслаждается тем, что считает своей победой, не интересуясь больше тем, что ее не касается…
— Вы плохо со мной обходитесь, господин министр, — забубнил свое Сен-Реми. — Разве у меня нет никаких прав? Разве данное моим отцом обещание жениться на моей матери, которым я располагаю, — подделка?
— Оно сыграет свою роль, когда для этого наступит срок. А пока что мне нужно, чтобы вы последовали примеру госпожи де Ла Базиньер и покинули Париж.
— Куда же мне деваться?
— Почему бы не… в Прованс? — С этими словами Кольбер достал из секретера толстый кошелек и бросил его своему приспешнику. — Там вы можете оказаться мне полезны. Губернатором там герцог де Меркер, старший брат Бофора, бывший мужем племянницы Мазарини, ныне покойной. Я порекомендую вас ему. Он — гостеприимный человек, попробуйте завоевать его доверие. Вандомы — дружная семья. Возможно, вы узнаете там любопытные вещи. Только ничего не предпринимайте — вы меня слышите? — без моего одобрения. В противном случае я откажу вам в поддержке.
— Я буду вам повиноваться. Но долго ли мне придется ждать? Все же я уже не молод…
— Столько, сколько потребуется. Время работает на меня. Набрав сил, я много сделаю для королевства, а своих недругов сокрушу одного за другим. Наберитесь терпения, если хотите стать рано или поздно герцогом де Фонсомом. Кто знает, быть может, вы еще женитесь на вдове своего сводного брата!
И Кольбер захохотал.
Часть II. НЕНАВИСТЬ КОРОЛЯ. 1664 год
7. СТРАННОЕ РОЖДЕНИЕ
Когда в конце октября королевский двор покинул Фонтенбло, чтобы перезимовать в Лувре, Сильви де Фонсом вздохнула с облегчением. С весны прошлого года двор только и делал, что перебирался из Лувр в Венсенн, из Венсенна в Сен-Жермен, из Сен-Жермена в Компьен, наконец в Фонтенбло. Более-менее длительна остановка была сделана в мае в Версале, где Людовик ХIV затеял возведение самого величественного дворца на свете. В парке небольшого замка, построенного его отцом, начал устраивать празднества. Самое пышное из них именовалось «Забавы волшебного острова», шесть дней кряду молодой монарх доказывал свое пристрастие к пышности. Там же, увы, ярко вспыхнула его страсть к Луизе де Лавальер, родившей от него ребенка.
Разумеется, робкая девушка, влюбленная в короля по уши, рожала тайно, в домике неподалеку от Лувра, и ее сын, названный чужим именем, не жил при дворе. Разумеется, героическая Лавальер вернулась в свиту Мадам, чьей фрейлиной не переставала быть, хотя та ее ненавидела, уже спустя несколько часов после родов; однако король не скрывал свою радость. Радость эта была едва ли меньше, чем та, что охватила его осенью «1661 года, когда на свет появился наследник, великий дофин. Кстати, через пять месяцев после разрешения от бремени королевы и через девять после завершения знаменитого лета в Фонтенбло, где король и его невестка не скрывали взаимной симпатии и почти не расставались, Мадам произвела на свет девочку, не испытав по этому поводу никакой радости, в отчаянии она кричала, что плод надо утопить в реке… После этого самые завзятые скептики расстались с последними сомнениями, что участие Людовика XIV было здесь гораздо большим, нежели вклад Месье, и что король — не только сильный государственный деятель, но и могучий производитель потомства.
После этого Мария-Терезия успела родить дочь, умершую во младенчестве, и снова ждала ребенка, который должен был народиться к Рождеству. Лавальер предстояло разрешиться от бремени немногим позже, в начале следующего года, так что придворные знатоки, сбитые с толку этой лавиной деторождения. Уже путались в отцах, хоть и забавлялись от души всей ситуацией.
Зато Марии-Терезии было не до забав. Бедняжка недолго пребывала в неведении насчет супружеских измен короля и сильно горевала. Горе ее было до того заметным, что королева-мать не знала уже, как ее утешить. У госпожи де Фонсом тоже опускались руки, королева охотно делилась с ней своими бедами и как-то раз, завидев Лавальер, торопившуюся у нее на глазах на вечернюю трапезу к графине де Суассон, прошептала ей на ухо:
— Вот эту, с бриллиантовыми серьгами в ушах, любит король…
Привычная к полумраку испанского двора, где к монархам относились как к божествам, Мария-Терезия мучилась от вечных сквозняков французских жилых покоев, где шмыгали все, кому не лень…
Горе королевы удручало Сильви. Ей трудно было смириться с мыслью, что «христианнейший король», бывший некогда ее благодарным учеником, превратился, получив неограниченную власть, в восточного султана, окружившего себя гаремом и манящего платочком то одну, то другую наложницу, подчиняясь своим мимолетным фантазиям. Пребывание при дворе доставляло ей все меньше удовольствия, она уже задыхалась, не находя прежнего дружеского расположения, которое прежде так ценила.
Ее крайне удручало бесконечное судилище над Никола Фуке, настолько предвзятое, что даже простой люд, сначала проявлявший к бывшему министру финансов неприкрытую враждебность, все заметнее менял свое отношение и уже был готов видеть в Фуке мученика, а в Кольбере — палача, главного героя яростных пасквилей. Суд над Фуке лишил Сильви не только самого Никола, но и многих людей, которых она любила, жены подсудимого, госпожи дю Плесси-Бельер, детей и братьев министра, рассеявшихся по стране. Держалась только его мать, чрезвычайно суровая женщина, с которой Сильви виделась нечасто. Не хватало ей и д'Артаньяна, которого уже три года не видела не только она, но и его жена и подчиненные-мушкетеры, так как король именно ему повелел неусыпно сторожить подсудимого в башне Бастилии…
Кроме того — хотя какое это имело значение? — маршал Грамон, бывший до ареста Фуке одним из самых настойчивых ее поклонников, теперь, сталкиваясь с ней при дворе, делал вид, что не замечает ее. Став генерал-полковником, он старался сохранить высочайшее благоволение и сторонился Сильви, не скрывавшей своего сострадания к заключенному.
Как всегда, собирала свою жатву смерть. Она унесла Элизабет де Вандом, герцогиню де Немур, подругу детства, почти что сестру Сильви, погибшую от оспы как раз тогда, когда двор наслаждался в Версале «Забавами волшебного острова». Сильви было запрещено навещать умирающую из опасения распространения заразы. Только мать Элизабет, герцогиня де Вандом, не боявшаяся ничего, а уж смерти — подавно, до последней минуты хлопотала над несчастной. Под стать ей оказался молодой Пеглен, ставший после смерти своего отца графом де Лозеном, не обращая внимания на запреты, он приходил подбодрить умирающую, которую раньше прочил себе в тещи. Кончилось это жаром и длительным недугом, однако молодой граф не раскаивался, что отдал долг женщине, которую искренне уважал.
Тем временем о его женитьбе на какой-нибудь из «малышек Немур», сходивших прежде по нему с ума, больше не шло речи, старшая вышла замуж за герцога Савойского, а младшую сватали за короля Португалии, которого с решительностью, стоившей ей новой ссылки в Сен-Фаржо, отвергла Мадемуазель. Отъезд последней стал для Сильви еще одним ударом. Впрочем, хоть Лозену и пришлось отказаться от мечты жениться на Мари де Фонсом, лихость, с которой ее дочь отвергла этого жениха, вынудила Сильви его утешать, что стало началом приятельских, а зачастую забавных отношений между несостоявшимися тещей и зятем.
Наконец по весне Сильви пришлось отказаться от компании Сюзанны де Навай, которая лишилась места при дворе после смешной истории, поставившей под сомнение достоинство короля и позволившей лишний раз убедиться в его злопамятности.
Произошла эта история в замке Сен-Жермен, где, продолжая пылать страстью к Лавальер и усердствовать ночами на ложе своей жены, король умудрился возжелать еще и мадемуазель де Ла Мот-Уданкур, одну из самых красивых придворных Марии-Терезии. Он ухаживал за ней настолько неприкрыто, что госпожа де Навай в силу своих обязанностей при дворе сочла возможным слегка, совсем чуть-чуть, попенять молодому кавалеру, намекнув, что любовниц лучше подбирать не среди окружения жены. Людовик принял выговор как должное, но уже следующей ночью, вместо того чтобы проникнуть в спальню возлюбленной обычным путем, забрался, уподобившись мартовскому коту. на крышу замка, чтобы воспользоваться слуховым окном. Узнав об этом, герцогиня де Навай распорядилась установить на крыше решетки. С наступлением темноты король, попробовав повторить давешний подвиг, был вынужден вернуться не солоно хлебавши и в сильном раздражении. Не посмев дать волю своей ярости и покарать смелую женщину, Людовик затаил обиду и стал ждать подходящего случая для мести. Таковой вскоре представился.
Король перехватил поддельное письмо испанского короля, предназначенное для Марии-Терезии и описывавшее роман ее мужа с Лавальер. Сочинили письмо графиня де Суассон, ее любовник граф де Вард и граф де Гиш, любовник Мадам. Подброшено оно было так небрежно, что попало не к королеве, а к ее служанке Молине, а та, ничего не сказав госпоже, побежала прямиком к королю. Гнев того был тем сильнее, что найти виноватых не представлялось возможности. Поскольку история с решетками еще была свежа в памяти, госпожа де Суассон, верная своей змеиной натуре, нашептала своему бывшему возлюбленному, что вдохновительницей письма вполне могла стать главная фрейлина королевы…
Обрадовавшись подвернувшейся возможности отомстить, Людовик счел, что поиск виновных увенчался успехом. В тот же вечер супругам де Навай было велено удалиться в родной Беарн без надежды на скорое возвращение. Королева-мать встретила решение сына гневно.
— Вы уже караете за добропорядочность? — вскричала она.
С этого началась размолвка матери и сына, продлившаяся, впрочем, недолго, Людовик просил у матери прощения, даже всплакнул, хоть и настаивал, что «не властен над своими страстями» и что всем, в том числе матери, лучше с этим смириться.
Сильви проводила подругу, печалясь тем сильнее, что теперь главной фрейлиной становилась бывшая маркиза, ныне герцогиня де Монтазье (новый титул объяснялся военными подвигами ее мужа), которую она недолюбливала. Прежде герцогиня звалась Жюли д'Анжен; она была дочеръю не менее знаменитой маркизы де Рамбуйе, королевы жеманства; Монтазье удалось завоевать ее после многолетней осады и посвящения ей сборника иллюстрированных виршей собственного сочинения под названием «Гирлянда Жюли». Красавица вышла замуж только в тридцать восемь лет, побив все рекорды сохранения девственности. Этой неординарной особе король доверил дела «Детей Франции», в тот момент представленных одним дофином. В действительности в ее ведение входили и дела королевы. Герцогиня быстро проявила свои способности, попытавшись заставить королеву смириться с романом короля и Лавальер; бедняжка королева в ответ твердила одно:
— Я его люблю, люблю, люблю…
— Раз так, вы должны стремиться делать ему приятное и не возражать против его увлечений. Любовные приключения мужчины обычно скоротечны…
— Вольно вам так говорить, мадам, когда эта особа — больше королева, чем я сама! Взять хотя бы все эти праздники…
— Они устраиваются в честь вашего величества и королевы-матери.
— Кому вы это говорите? — вскричала Мария-Терезия, вовсе не бывшая, вопреки распространенному убеждению, дурочкой. — Поэты слагают в ее честь стихи, все намеки, все славословия посвящены ей одной, тогда как мы, королевы, вынуждены все это наблюдать… и смиряться.
— Напрасно ваше величество так расстраивается. Король не любит слез. Он с большей радостью вернется к вашему величеству, если вы будете излучать радость, даже кокетство, а на его избранниц взирать снисходительно. Поступайте согласно опыту, давно накопленному в мире!
Сильви не выдержала этих предательских речей и вмешалась:
— Королева не виновата, что страдает! И никакие доводы разума здесь не помогут…
Тут в покоях королевы появился король, и спор угас, не успев разгореться. Его неожиданный приход так разволновал Марию-Терезию, что у нее пошла носом кровь, что не понравилось королю.
— Кровь? Это ново, раньше, моя дорогая, вы радовали меня только слезами. Подумайте о ребенке, которого носите!
Сказав так, он удалился. Госпожа де Монтазье поспешила за ним следом и что-то зашептала на ухо. Сильви, Молине и юному Набо пришлось долго трудиться, чтобы успокоить королеву. Лучше остальных в этом деле преуспел Набо, он научился поднимать настроение госпожи пением, смехом и причитаниями на не понятном ей, но пленительном наречии. За три года Набо сильно изменился. Теперь это был пятнадцатилетний юноша, прекрасный, как бронзовая статуя. Королева, капризная, как и положено беременной, постоянно требовала его к себе, он стал ей так же необходим, как шоколад, который она поглощала в ужасающих количествах, портя себе зубы. Неудивительно, что его постоянное присутствие, как и присутствие карлицы, раздражало новую главную фрейлину.
— Дойдет до того, что королева произведет на свет какого-нибудь уродца, — твердила она всем, кто согласен был ее слушать. — Лучше убрать от нее все уродливое, способное плохо повлиять на ребенка.
Однако Мария-Терезия не соглашалась расставаться с людьми, напоминающими ей о детстве, проведенном в пропахшем ладаном безмолвии кастильских дворцов. Ее поддерживала в этом упорстве Анна Австрийская, пуская в ход остатки своего влияния.
Старая королева, страдавшая в свои шестьдесят три года от рака груди, сознавала, что близится тяжелое угасание, и готовилась к уходу в мир иной, проводя все больше времени в дорогом ей Валь-де-Грасе или у кармелитов на улице Булуа, куда нередко наведывалась и ее невестка. С королевой-матерью неизменно находилась верная Мотвиль, у нее ежедневно бывал исповедник, отец Монтегю, некогда, в миру, — лорд Монтегю, возлюбленный герцогини де Шеврез. Госпожа де Фонсом, жалевшая страдалицу всей душой, часто сопровождала ее; узы дружбы, связывавшие ее с госпожой де Мотвиль, только крепли. Больная королева с удовольствием принимала женщину, которую по-прежнему с улыбкой звала «моя кошечка».
Вечером после возвращения из Фонтенбло, убедившись, что Мария-Терезия удобно устроилась в своих просторных апартаментах в Лувре, Сильви приказала отвезти ее к Персевалю де Рагнелю, как происходило всегда, когда двор временно находился в Париже. Она любила встречи с крестным, милую атмосферу его дома на улице Турнель; ее собственное жилище на улице Кенкампуа оставалось половину года запертым, а большая часть слуг перебиралась в Фонсом или в Конфлан, которому Сильви отдавала предпочтение. У Персеваля она могла встретить дочь, тянувшуюся к шевалье все больше, а к матери, увы, все меньше.
После ночи в Фонтенбло, когда Мари призналась в любви Франсуа, а в особенности после отъезда брата с человеком, которого она упорно продолжала любить, девушка сильно изменилась. С матерью она виделась, главным образом, во дворце, а если и наведывалась к ней, то только в надежде — чаще тщетной! — узнать «новости о Филиппе», хотя Сильви знала, о ком ей хочется услышать на самом деле.
Уже не испытывая к матери прежней привязанности, любя ее как бы по обязанности, поверхностной и рассеянной любовью, она стала безраздельно преданной Мадам, видела в жизни смысл, только когда находилась при ней, твердила, что согласна жить только в Тюильри или Сен-Клу, и отказывалась от всех претендентов на ее руку и сердце. Лозен всего лишь промелькнул в сонме последних, она быстро дала ему понять, что, отлично зная об его увлечении принцессой Монако, не видит ни малейшего смысла исполнять при нем бесславную роль постоянно обманываемой супруги, к которой предъявляют всего три требования, пополнить поредевшие финансы, нарожать детей и, главное, помалкивать. Однако, вопреки ожиданиям, эта откровенная отповедь не оттолкнула его от Мари, а превратила в ее преданного друга.
— Черт возьми, мадемуазель, такой вы нравитесь мне еще больше! Как же я сожалею о вашем отказе, я с удовольствием взял бы в жены такую умницу, а не только красавицу! Выходит, у вас нет желания стать графиней де Лозен?
— Ни малейшего! Не стану отрицать, не будучи красавцем, вы тем не менее наделены неоспоримым шармом. Увы, на меня он не действует. Но вы не расстраивайтесь, очень многие дамы находят вас неотразимым!
— Неужели вас не устроил бы даже союз двух свободных людей? Я следил бы за респектабельностью, вы подарили бы мне одного-двух наследников и стали бы, удовлетворяя мое тщеславие, уважаемой в свете, знатной дамой…
— Я собираюсь ею стать без вашей помощи. Знайте, что я решила выйти замуж за принца, не меньше!
— Что ж, яснее не скажешь. Как вам будет угодно! — Он улыбнулся своей неподражаемой хищной улыбкой. — Давайте все забудем и станем просто друзьями! Только настоящими — знаете, как дружат мальчишки? Вы состоите при Мадам, я — при короле; похоже, мы можем быть друг другу полезны…
— А вот это меня устроило бы! — просияла Мари. — Не предавайте меня, и я вас не предам.
Так завязалась дружба, которая со временем получила совершенно неожиданное для Мари продолжение.
Оказавшись в библиотеке Персеваля и усевшись напротив него у камина, где потрескивали поленья и откуда доносился упоительный запах печеного картофеля, Сильви долго молчала, наслаждаясь редким покоем, о котором приходится только мечтать в королевских дворцах, где за тобой всегда кто-то подглядывает, где тебя подслушивают, подсиживают, подставляют тебе ножку…
Закрыв глаза и откинув голову на высокую кожаную спинку кресла, Сильви избавлялась от усталости, вызванной переездом, волнением последних мгновений перед отбытием из Фонтенбло, мелкими неудобствами и происшествиями в пути, когда все встречные только к тому и стремятся, чтобы поглазеть на короля. Главный недостаток всякого королевского двора — это придворные; хуже всех были придворные молодого Людовика XIV, губительно действовавшего на подданных своим неисправимым высокомерием. Госпожа де Фонсом предпочитала теперешним прежних, те сохраняли хоть какие-то остатки собственного достоинства. Король усиленно дрессировал свою знать, и это настолько не устраивало Сильви, что она уже задавалась вопросом, долго ли еще сумеет выносить атмосферу, в которой задыхалась. Если бы не бедная королева, такая одинокая, к которой она сильно привязалась и которую жалела, она бы давно попросилась в отставку.
— Видимо, я все-таки сделаю это, — неожиданно произнесла она. — Дождусь, когда королева родит, — и…
Персеваль, склонившийся над книгой, поднял голову и обнаружил, что Сильви не спит, а смотрит на него.
— Удивительно, — отозвался он, — что вы так долго раздумывали. Вы не созданы для придворной жизни с ее ловушками, интригами, хитростями…
— Да, интригами я сыта по горло, но, признаться, мне жаль королеву. К тому же мне хотелось бы позаботиться о будущем своих детей — в этом я нисколько не отличаюсь от других людей, а также разобраться в своих семейных делах, я редко вижу дочь, а с сыном разлучилась уже три года назад. Все, что я от него имею, — это письма, посылаемые мне в редкие моменты, когда флот бросает якоря, Да и они чаще написаны рукой аббата Резини…
— Не пренебрегайте этими письмами. Они рассказывают вам о житье-бытье Филиппа лучше, чем если бы он писал их сам. Ведь он считает своим долгом сообщить вам, что с ним все в порядке, что он обожает господина де Бофора и скучает по матери, вот и все. Мастера пера из него не получится. К тому же сам герцог тоже вам пишет, хоть и, готов признать, нечасто…
Эти слова вызвали у Сильви улыбку.
— Он тоже не виртуоз слова. Когда Франсуа не прибегает к помощи секретаря, его каракули кишат орфографическими ошибками.
— Вас это не должно тревожить. На первом месте должны стоять чувства…
Персеваль ласково улыбнулся, видя, как краснеет Сильви. Он не переставал благодарить бога за сближение этих двух дорогих ему людей, о котором давно мечтал, даже надеялся, что все кончится браком, ведь они были созданы друг для друга и так хорошо друг друга знали и понимали! Приближалось время позаботиться и о Филиппе, рано или поздно он вернется из путешествий и будет нуждаться в официальном покровительстве. Несмотря на то, что Сен-Реми вот уже три года не подавал признаков жизни, а его сообщница скучала от одиночества в провинциальном захолустье, шевалье де Рагнель не верил, что они окончательно избавились от презренного авантюриста. Тот наверняка затаился где-то неподалеку, дожидаясь, чтобы о нем забыли и чтобы тяжкая десница короля, едва его не зацепившая, устала оставаться занесенной над его головой; рано или поздно, если только его не приберет случайная смерть, он наверняка напомнит о себе…
В разговорах с Сильви Персеваль никогда не касался этой темы, предпочитая, чтобы она не мучилась воспоминаниями о самых тяжких мгновениях своей жизни. Скрывал он от крестницы и свежую новость о герцоге, полученную из других источников, Бофор и его люди закрепились в Джиджеле, крепости на алжирском побережье, в честь взятия которой в соборе Парижской Богоматери отслужили 15 августа мессу, но после этого вести о нем перестали поступать, ибо берберы перехватывали у своих берегов всех курьеров.
Судьбе было угодно, чтобы события этого вечера, начавшегося для Сильви так мирно, приняли совершенно другой оборот. Началось все с появления Мари. Сильви и Персеваль уже садились за стол, когда она влетела в дом, как вихрь. Она имела привычку не входить, а вбегать. При ее появлении осень покорно уступила место весенним краскам, так чудесно она смотрелась в своем синем бархате и белом атласе с опушкой из меха горностая. Не замечая мать, она кинулась на шею к Персевалю.
— Я не виделась с вами целую вечность! Как же я соскучилась! О самочувствии не спрашиваю, нынче вы еще моложе, чем всегда…
Не давая ему перевести дух, она засыпала его поцелуями, после чего, развернувшись на каблуках, оказалась нос к носу с Сильви. Встреча с матерью притушила ее радость, как ушат воды, выплеснутый на весело трещавший факел.
— Матушка? Вы здесь? Я не знала, что вы вернулись в Париж.
— А ведь возвращение двора сопровождается оглушительным шумом! — заметил Персеваль, недовольный новым тоном девушки и огорчением Сильви. — Разве Тюильри так уж далеко? Или там все глухие?
— Просто придворные Мадам превратились в нежелательных персон, в парий. С тех пор, как наша принцесса снова забеременела, нас перестали приглашать. «Забавы волшебного острова» тоже были устроены не для нас, Версаля мы не видели… Она говорила это, стоя перед Сильви и даже не пытаясь к ней приблизиться.
— Ты не хочешь меня обнять? — пробормотала мать горестно. Ее состояние не составляло секрета для крестного. Тот уже нахмурил брови, но Мари сама ответила:
— Конечно, хочу.
Она легко прикоснулась губами к щеке Сильви, но увернулась от материнских объятий, сказав:
— Вы выглядите бесподобно, как всегда! Примите мои поздравления. Я пришла за новостями, крестный, — обратилась она к Персевалю. Дети Сильви называли его так же, как их мать, хотя в действительности были крестниками не его, а короля. — Вы получили свежие письма?
— После нашей последней встречи — ни одного, но…
— А вы, мама?
Сильви отошла к полке с книгами, чтобы скрыть слезы, и ответила, не оборачиваясь:
— Разве ты не знаешь, что все письма, отправляемые из-за моря, из предосторожности адресуются шевалье де Рагнелю?
— Знаю, но что же из того? Возможно, у него есть письмо для тебя, о котором он не желает упоминать…
— Что за мысли!
— Зачем же ему ставить меня в известность? Когда любовник пишет письмо своей любов…
Пощечина оборвала ее на полуслове. Нервы сдали не у Сильви, уязвленной в самое сердце словами дочери, а у Персеваля, размахнувшегося от души. Нежная щечка Мари запылала огнем.
— За кого ты меня принимаешь? — крикнул он. — За сводника? Я — шевалье де Рагнель, это обязывает! Что до оскорбления, которое ты только что нанесла родной матери, то ты будешь просить за него прощения. На коленях!
Его худые, но твердые, как сталь, пальцы впились в запястье Мари. Сильви вступилась за дочь:
— Не надо, умоляю! Оставьте ее. Чего стоят слова раскаяния, произнесенные по принуждению? Мне больше хотелось бы узнать, откуда у Мари такие сведения о моей личной жизни.
— Слышала? Отвечай! — Рагнель уже не пытался вывернуть Мари руку, но не отпускал ее. Мари небрежно пожала плечами.
— Я не утверждаю, что моя мать по-прежнему близка с господином де Бофором, но раньше дело обстояло по-другому. Возможно, с тех пор минуло немало времени, но их любовь по-прежнему жива.
— Это не ответ на мой вопрос. Кого ты наслушалась?
Мари неопределенно махнула рукой.
— В Тюильри и Сен-Клу немало осведомленных людей. Они не видят в этом ничего дурного, наоборот, они восхищены…
— Кто?!
— Вы делаете мне больно!
— Будет еще больнее, что бы ни говорила твоя мать, если ты не ответишь толком! В последний раз спрашиваю, кто эти болтуны?
— Граф де Гиш… Шевалье де Лорен… Маркиз де Вард…
Персеваль издал смешок, не предвещавший ничего хорошего.
— Любовник Мадам, любимчик Месье и сообщник госпожи де Суассон в подлом деле подбрасывания подложного испанского письма! Хорошо же ты подбираешь себе Друзей! Поздравляю! Ты предпочитаешь прислушиваться к этому змеиному шипению, к этим злонамеренным шалопаям, которые запачкали свои родовые имена альковными приключениями… А я-то думал, что ты нас любишь…
Он выпустил ее и оттолкнул от себя. Мари упала в кресло, покинутое матерью, и разрыдалась.
Сильви протянула к дочери руку, глядя Персевалю в глаза и мысленно приказывая ему не шевелиться. Какое-то время она молча наблюдала, как дочь проливает слезы. Только когда Мари немного успокоилась, мать сказала Персевалю:
— Вас она любит по-прежнему, в этом нет никаких сомнений, у нее нет никаких причин на вас злиться. Я — Другое дело. Вам отлично известно, что она влюблена в господина де Бофора и считает меня своей соперницей.
Разве я ошибаюсь? — прошипела Мари сквозь слезы.






