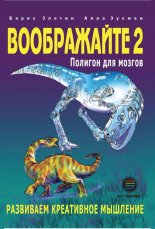Очерки по социологии культуры Дубин Борис

То, что активность чтения в значительной мере связана с проблематикой адаптации или социального самочувствия, подтверждают данные о характеристиках людей, заявляющих, что они вообще не читают книг. Это чаще мужчины, жители малых городов и в особенности села, люди старшего возраста, респонденты с образованием ниже среднего (а они составляют 30 % взрослого населения). Представители этого слоя не обладают сколь-нибудь значительными социально-культурными ресурсами и не отличаются социальной активностью, поэтому не могут ни защититься от перемен, ухудшающих их статус, ни использовать ситуацию для улучшения своей жизни. Они ориентированы на пассивную адаптацию с постоянным снижением самооценок, запросов, требований к окружающему, поэтому ограничиваются, как правило, столь же пассивным просмотром телевизора.
Среди более активных читателей доминируют три типа ориентаций, «весовое» соотношение которых можно оценить лишь приблизительно. Среди них выделяются в первую очередь более образованные и молодые группы респондентов, проживающих в столицах, — можно предполагать, что тут мы имеем дело с активной фазой социализации и чтением как производным от этих обстоятельств (учеба, начало работы, активная фаза вступления в литературную культуру). Другой пласт читаемых книг — «модное чтение», также очень выраженное среди молодежи. Наконец, среди активных читателей представлены группы, которые, вероятно, могут быть отнесены к категории бывших лидеров чтения, прежней интеллигенции, утратившей свой культурный статус, но все еще претендующей на вчерашнюю роль (отсюда сохраняющийся классикализм их читательских предпочтений). Характерно, что эта более старшая по возрасту подгруппа активных читателей с высшим образованием ориентирована на чтение современной отечественной и западной словесности гораздо слабее, чем молодые читатели, живущие в крупных городах, в которых собственно и концентрируется основная часть актуальной книжной продукции.
За 1990-е гг. резко сократилась доля россиян, ежедневно читающих газеты. Это было связано со спадом перестроечных надежд и широкого интереса к воплощавшим их фигурам уже к 1993 г., за которым последовала Чеченская война и финансовый коллапс 1998 г. Позже, уже в путинский период, сворачивание независимых СМИ больно ударило прежде всего по прессе общественно-политического содержания.
Приведенные данные подтверждают провал ежедневной общероссийской печати, обозначившийся уже в первой трети 1990-х гг. На смену ежедневным центральным газетам для большинства читателей пришли еженедельники самого разного толка и качества, чаще — таблоидного характера, а также местная печать, которая в средних и малых городах читается гораздо более интенсивно, чем общероссийская центральная.
Таблица 7
Как часто вы читаете газеты?
(в % к опрошенным в соответствующем году)
Однако важно отметить, что грани между разными типами газетных изданий за последние годы в значительной мере стерлись: подаваемая в них информация практически лишена серьезного аналитического подкрепления, ориентирована по преимуществу на сенсацию, скандальность и развлечение. С возрастом прослеживается постепенное падение интереса к чисто развлекательной печати, и предпочтение читателей среднего и старшего возраста примерно поровну отдается общероссийским и местным еженедельникам общеполитического плана — их во всех возрастных группах старше 25 лет читают от трети до двух пятых опрошенных. Что же касается собственно ежедневной печати, которую в совокупности читает сегодня чуть больше одной десятой населения, то основным фактором несколько более повышенного интереса к ней является наличие у респондентов высшего образования, а еще в большей мере — проживание в столице.
Сходные тенденции просматриваются в чтении журналов.
К началу 2000-х гг. основными темами, вызывающими более или менее выраженный интерес россиян к журналам, являлись темы семьи, дома, мужского и женского, молодежного, моды и стиля жизни, развлечений в целом. Среди жителей крупных городов, людей с высшим образованием, а также молодых, успешных, социально адаптированных респондентов весьма слабо выражен интерес к журналам общеполитического и делового характера. Данные о чтении журналов в различных социально-демографических группах показывают, что сколько-нибудь глубокой дифференциации групповых интересов и предпочтений становится все меньше. Журнальный рынок, как и рынок популярных газет, работает сегодня преимущественно на массовидную аудиторию, ориентируясь при этом на такие характеристики, как возраст, половая принадлежность, семейный статус, задавая и тиражируя в первую очередь потребительские стандарты и типы поведения. Так что в целом мы имеем картину усреднения читательских предпочтений, сужения диапазона запросов. Показательной в этом плане является достаточно массовая популярность, в том числе у высокообразованной публики, журналов и сборников кроссвордов («лекарство от скуки»), а также журналов с телепрограммами — путеводителей по виртуальному миру.
Таблица 8
Как часто вы читаете журналы?
(в % к опрошенным в соответствующем году)
Сказанное выше подтверждается и полученными в ходе опроса данными о покупке/ чтении различных типов журналов. Самыми покупаемыми и читаемыми журналами выступают журналы телепрограмм, которые одновременно являются и дешевыми и наиболее доступными изданиями, рассказывающими о жизни звезд, публичных фигур шоу-бизнеса (массовая и доступная во всех смыслах вариация глянцевых журналов). Столь же покупаемыми и читаемыми являются тонкие женские журналы, которые также можно рассматривать как массовый, «сниженный», удешевленный вариант модных глянцевых журналов различной тематики, а также журналы кроссвордов и сканвордов. Все эти типы журналов покупают в среднем 14–15 % опрошенных. Другая группа журналов, аудитория покупателей которых в среднем примерно в три раза уже, это более дорогие глянцевые журналы о моде, стиле и образе жизни (6 %), мужские журналы более или менее традиционного типа (5 %), молодежные журналы (5 %), журналы о саде, огороде и приусадебном хозяйстве (6 %), юмористические журналы, сборники анекдотов (5 %), а также научно-познавательные журналы (5 %).
Наиболее значимыми социально-демографическими факторами, влияющими на активность чтения журналов, являются пол, возраст, образование и уровень квалификации.
Таблица 9
Активность чтения журналов в различных социально-демографических группах
Как видим, чтение и покупка журналов являются скорее занятием женским, молодежным и городским. Как и в случае не читающих книги, самые высокие доли вообще не покупающих журналов (при среднем показателе по выборке — 55 %) в группе старше 50 лет (75 %), среди респондентов с образованием ниже среднего — 74 %, среди тех, кто считает, что они не могут приспособиться к новой жизни, — 74 %, среди тех, у кого вообще нет домашних библиотек, — 72 %, и в особенности среди тех, кто оценивает свой потребительский статус ниже всех остальных, — 81 %. Менее значительное отклонение от среднего показателя по не покупающим журналы — среди жителей малых городов (60 %) и села (65 %); среди групп населения с низким и средним доходом (соответственно 65 % и 62 %), а также среди тех, кто низко оценивает свой потребительский статус («денег хватает на еду» — 62 %), и тех, кто сократил свои потребности, чтобы приспособиться к новым условиям (65 %).
Поскольку наиболее приспособленной, активной в потреблении, адаптированной к существующим социально-экономическим условиям является более молодая часть населения крупных городов, среди которой сегодня наиболее распространена покупка книг и журналов, то самыми показательными и дифференцирующими факторами будут оценки собственной адаптации по повышающему типу («удалось использовать новые возможности, открыть собственное дело, повысить доход»), а также высокая оценка своего потребительского статуса («можем позволить себе покупку дорогих вещей»). Именно эти группы и являются лидерами покупки журналов сегодня.
Среди читателей книг каждый шестой сегодня (17 %) не читает художественной литературы. Среди тех, у кого нет дома книг, эта доля достигает 27 %, тогда как среди респондентов с самыми большими библиотеками — 4 %.
В среднем женщины — как это было на протяжении всей истории массового чтения XIX–XX вв. — читают книги несколько чаще, чем мужчины, их чтение носит более интенсивный характер (продолжительность чтения в день), они опережают мужчин и по количеству прочитанных в течение месяца книг. Неудивительно и одновременно показательно, что лидерами читательского спроса являются сегодня «женский детектив», а также «женская проза». Сравним, как различается картина предпочтений по полу и по возрасту:
Таблица 10
Литературные предпочтения в группах по полу
Как видим, резкая дифференциация активности чтения по полу относится только к жанровой литературе. Это означает, что в основе читательского интереса к массово-популярным жанрам лежат дефициты базовых ролевых самоопределений. «Женское» самоутверждается за счет тривиализации и снижения мужского (как в «женском» детективе) либо, напротив, через его возвышение и романтизацию (как в любовных романах либо историко-авантюрной прозе). За «мужским чтением» при этом стоит установка на компенсацию низкой самооценки — либо в жестко-агрессивной форме (боевики), либо через ту же романтизацию (фантастика, фэнтези, детектив, историко-приключенческий роман).
Применительно к актуальной литературе — и отечественной, и переводной — дифференциация по признаку пола отсутствует, хотя и интерес к ней заметно более узок.
В чтении даже самых образованных и литературно квалифицированных групп сегодня преобладают ориентации на пассивно-адаптивный тип культурного поведения и потребления, отказ от анализа современности, склонность к развлечению и эскапизму, усреднение вкусов, ностальгия по «прошлому».
Это видно из сравнения данных о читательских предпочтениях групп с наибольшими культурными ресурсами — значительными домашними библиотеками: их внимание к массовым развлекательным жанрам явно растет, чего нельзя сказать об интересе к актуальной словесности, отечественной и переводной.
Таблица 11
Предпочтения отдельных литературных жанров у владельцев крупных домашних собраний и респондентов с высшим образованием
(в % к общему числу опрошенных по соответствующей группе)
* Домашняя библиотека, насчитывающая от 500 книг и более, группа составляет около 5 % всех опрошенных; N = 2400.
Никаких других книг, кроме художественной литературы, не читает каждый пятый читатель книг в России. При таком интересе к нонфикшн, в принципе, можно было ожидать значительного спроса на литературу по разным отраслям знания, будь то история, психология, философия, техника, культура и ее история, — книжный рынок предлагает сегодня довольно широкий спектр подобных изданий, предполагающий читателей разного уровня подготовки, направленности и глубины интересов. Однако на массовом уровне предпочтения российских читателей в этой части книжной продукции представляются довольно бедными, слабо выраженными и не слишком дифференцированными по читательским группам. Относительно массовым спросом пользуются лишь три типа книжной продукции нонфикшн: книги о здоровье и лечении (25 % всех опрошенных читателей книг), книги по кулинарии (20 %) и книги по специальности (20 %). Интерес к книгам по здоровью ощутимо дифференцируется по полу (доля интересующихся ими мужчин в три раза ниже, чем среди женщин), по возрасту — до сорока лет интерес к ним значительно ниже среднего, а также по уровню социальной адаптации — чем он ниже, тем выше интерес к этого рода литературе. Меньше остальных озабочены своим здоровьем жители столиц.
Если учесть, что возрастная граница между более или менее адаптированной частью населения и теми, кто не считает, что адаптировался к новой жизни или сможет это сделать в будущем, проходит на протяжении многих последних лет именно по поколению сорокалетних, то можно считать, что интерес к собственному здоровью и лечению носит скорее черты социального невроза не вписывающихся или выпадающих из социума групп, является признаком фрустрированности и неудовлетворенности сложившейся жизнью, а не проявлением рационального подхода к своему здоровью как важнейшему жизненному ресурсу.
Интерес к книгам по специальности сильнее выражен у мужчин, у респондентов с высоким доходом, высшим образованием и тех, кто описывает свой статус как относительно высокий и считает, что достаточно хорошо социально адаптирован. Намного выше среднего он среди самых молодых — в группе до 24 лет. Понятно, что в этих же категориях респондентов повышен спрос на учебную литературу — среди самых молодых он очень высок (60 %).
Более половины всех опрошенных (52 %, а в 2008 г. — 55 %) не покупают книги вообще, при том что не читают книги, напомним, 37 % всех опрошенных (в 2008 г. — 46 %). Основная масса (30 % всех опрошенных) покупают книги для себя, своей домашней библиотеки, примерно каждый десятый — для учебы, а 13 % всех опрошенных — для детей. По 7 % всех опрошенных покупают книги для работы или в подарок. Хотя бы одну книгу в месяц покупали в последнее время 13 % взрослых россиян.
При этом прокламируемая готовность россиян выделять на книги деньги из семейного бюджета (соответствующая доля взрослого населения) гораздо выше, чем реальная покупка (доля, по их заявлениям, реально покупающих). Треть покупающих книги россиян, по их уверениям, готовы потратить в месяц на книги 100 рублей, чуть более четверти — от 100 до 200 рублей, 24 % — от 200 до 500 рублей. Иными словами, в принципе 84 % всех покупателей готовы покупать в месяц не менее одной книги средней стоимости, а каждый десятый готов тратить на книги более 500 рублей в месяц.
Основными переменными, от которых зависит количество покупаемых в год книг, а также готовность выделить из бюджета средства на покупку, выступают прежде всего потребительский статус, характер социальной адаптации и уровень дохода, а также уровень образования и тип поселения. Приведем сравнительные данные по этим признакам.
Хотя покупка книг не представляется большинству россиян очень существенной тратой, реально респонденты покупают меньше книг, чем могли бы. Это значит, что изменились ценностное значение, социальная одобряемость и привлекательность книги, чтения, книгособирательства. Компенсацией этого снижения ценностного потенциала книгопокупки становится заимствование книг для чтения (по определению, популярных) у знакомых и друзей. Владение книгой, ее хранение стало для большинства россиян ценностно-нейтральным, незначимым поведением.
Таблица 12
Сколько примерно книг вы купили за последние 12 месяцев?
(в % от общего числа респондентов, покупающих книги)
Покупатели книг в «двух столицах» России значительно различаются. Московские более часто бывают в книжных магазинах (ежемесячно и чаще 88 % в Москве, 79 % — в Петербурге), причем чаще петербуржцев используют все каналы книгопокупки — от книжных супермаркетов до уличных лотков — и активнее покупают классику и современную литературу, женский детектив и новейшие западные остросюжетные романы (петербуржцы несколько активнее лишь в приобретении книг по школьной программе, учебной литературы). Москвичи обеспеченнее и готовы потратить на книги больше денег (свыше 500 рублей в месяц — 34 % книгопокупателей-москвичей, 22 % петербуржцев). Зато покупатели книг в Петербурге заметно чаще москвичей пользуются районными (городскими) и учебными (школьными, студенческими) библиотеками. Соответственно в семьях покупающих книги москвичей больше книг, чем у петербуржев: более 500 книг — у 61 % книгопокупателей в Москве и 42 % в Петербурге.
Таблица 13
Какую сумму в месяц вы готовы выделить на покупку книг из семейного или личного бюджета?
(в % от покупающих книги)[84]
В целом это совпадает с общероссийской тенденцией к относительному размежеванию институтов культуры двух типов — общегосударственных и независимых (городских, частных и проч.), — о чем говорилось выше. Более обеспеченные, самостоятельные, квалифицированные и требовательные читатели тяготеют к книгопокупке (соответственно, более освобожденной от опеки государства), менее обеспеченные и образованные, учащиеся и т. п. — к государственным библиотекам. Характерно, что среди книгопокупателей в Москве значительно больше людей с высшим и незаконченным высшим образованием (74 % в Москве, 54 % в Петербурге), да и доля людей, не чувствующих серьезных ограничений в покупке и потреблении вещей, благ, услуг, среди покупателей книг в Москве также заметно выше, чем в Петербурге, — 64 и 47 % соответственно.
Если говорить о посетителях книжных магазинов разного типа, то более образованные, высокодоходные и книгообеспеченные группы покупателей тяготеют к крупным книжным магазинам и супермаркетам в центре города, покупатели с несколько более низкими доходными, образовательными и статусными показателями чаще предпочитают магазины на периферии. Так, доля людей с высшим и незаконченным высшим образованием среди покупателей «Букбери» в центре города составляла 78 %. Понятно, что именно в центральных «Букбери» покупатели чаще покупали классическую и современную литературу (отечественную и зарубежную), образцы массовой жанровой словесности — от боевиков до исторических романов, а также детскую и учебную литературу активнее приобретают посетители книжных магазинов на окраинах города.
Суммирую и подытожу сказанное.
1. Доля постоянно читающих газеты и журналы за пятнадцать последних лет очень заметно сократилась, но доля читающих книги за последние годы даже несколько выросла. Зато явно изменилось содержание чтения: преобладающая часть населения, включая людей среднего и старшего среднего возраста с институтским образованием, переключилась на серийную жанровую литературу (детектив, любовный роман, историко-авантюрный или историко-патриотический роман). Еще заметнее переход массы и образованных слоев от чтения к телесмотрению (в среднем 3–4 часа в день), так что чтение все чаще выступает дополнением ТВ (те же жанры, та же серийность). Из журналов в среднем наиболее популярны женские и ТВ, из газет — еженедельные массовые (информационно-справочные и развлекательно-сенсационные издания). Национальной газеты, тем более нескольких толстых, с большими отделами науки и культуры, рецензий на новинки и проч., в России по-прежнему нет. Интернет на эти показатели почти не влияет, поскольку с регулярностью раз в неделю им пользуется не больше 18 % россиян, а ведущие мотивы пользования Сетью — не чтение, но наведение справок, переписка, ознакомление с новостями, для молодежи — слушание музыки, общение в чатах.
2. При этом число издаваемых книг (по названиям) с начала 1990-х гг. непрерывно растет и давно превзошло соответствующие показатели советских лет. Книги сегодня более чем на две трети (по названиям) и более чем на 90 % по тиражам выпускают негосударственные издательства. Однако структура доступа к чтению, каналы получения или приобретения книг решающим образом изменились. В целом по стране главным источником книг стали не библиотека и не книжный магазин, а друзья и знакомые, что и понятно: более 40 % издаваемых в стране книг вообще не доходят сегодня до читателей, при том что жителям села и городов с населением меньше 100 тысяч человек книжно-журнальная продукция в регулярном режиме стала чаще всего просто недоступна. Сегодня лишь самые молодые респонденты чаще, чем россияне других возрастных групп, берут интересующие их книги для чтения или для учебы в библиотеке — так поступают до трети россиян моложе 20 лет, две трети которых записаны в ту или иную библиотеку или даже в несколько библиотек. Респонденты от 20 до 35 лет чаще других ориентированы на покупку книг в магазинах, тогда как 40-летние — на приобретение книг с лотков и в киосках («типовой набор» вроде комплексного обеда) и на получение книг по сети друзей и знакомых. Наконец, 35–49-летние (до двух третей этой возрастной подгруппы) предпочитают именно последний вариант — брать книги у знакомых и друзей.
3. В этом плане не удивительно, что средние тиражи книг и толстых литературных журналов последовательно снижаются. Они ведь все больше замыкаются сегодня в различных кругах и сетях «своих» читателей, но не проникают между группами и слоями (раньше это осмотическое просачивание осуществляли библиотеки, а из типов изданий — журналы). За последние десять лет заметно выросло количество семей, где вообще нет книг (с 24 % до 34 %), и, напротив, более чем вдвое (с 10 % до 4 %) сократилась доля семей, имеющих значительные библиотеки — свыше 500 томов, то есть обладающие самостоятельными культурными ресурсами, своего рода «культурной памятью». Так что под вопрос теперь встало существование самой категории «лидеров чтения» (прежде к ним безоговорочно относились наиболее образованные подгруппы, а источником книг для них, как правило, и служила библиотека).
4. Таким образом, за последние 10–15 лет преобладающая часть населения России (по нашим экспертным оценкам, основанным на результатах многолетних, систематических и репрезентативных опросов Левада-Центра, — не менее двух третей взрослого населения) либо стала вовсе обходиться без печатных источников, переключившись на ежедневное 3–4-часовое телесмотрение, либо выбирает себе для чтения исключительно серийную жанровую словесность — детектив, любовный роман, сенсационно-приключенческую историческую прозу, которую гораздо чаще сегодня не получает в библиотеках и не покупает в книжных магазинах, а берет на время у друзей и знакомых. Иными словами, в стране сложился в определенном смысле другой социум. Он другой по структуре коммуникаций, по их интенсивности (точнее, наоборот, их неинтенсивности), по содержанию этих коммуникаций. Можно сказать, что прежняя, советская социальная конструкция целого продолжает разваливаться, а обломки стараются удержаться и зацепиться хотя бы друг за друга.
5. Контекстом этих процессов были все большая унификация и огосударствление телеканалов «сверху» (основу их программ составляют сериалы, старое кино, эстрадные концерты, юмор). Параллельно увеличивался социальный и культурный разрыв между центром и периферией страны, между относительно успешными группами и всем остальным населением, между молодежью и пожилыми россиянами, наконец — между властью, все более сосредоточенной на себе, и населением, не доверяющим практически ни одному из социальных институтов, не чувствующим уверенности в будущем, а ощущающим в массе свою беззащитность и беспомощность, которые выражаются в крайней настороженности по поводу любых перемен, настаивании на каком-то мифическом «особом пути России» и растущей неприязни к любым «чужакам» (речь идет уже не только об этно-, но и о расофобии).
6. При этом количество библиотек в стране сокращается, фонды их беднеют, читатели все чаще уходят из библиотеки, перестают ее посещать. Фактически большинство публичных библиотек все чаще напоминают сегодня библиотеки учебные, в основном школьные, отчасти — вузовские. Общий объем комплектования библиотек книгами за 1990-е гг. снизился вдвое, новыми изданиями — вчетверо. Про комплектование современной художественной литературой, научной книгой, периодикой на языках мира не приходится и говорить: даже самые крупные российские библиотеки общенационального масштаба разительно сократили зарубежные приобретения или даже вовсе отказались от них (редчайшие исключения — Государственная публичная историческая библиотека, Российская государственная библиотека по искусству и некоторые другие — заслуживают отдельного анализа). В этом плане Россия сегодня стала напоминать остров, который все дальше разбивается на отдельные островки, регионы и т. п.
7. Таким образом, первая главная проблема в области чтения сегодня — реальное распространение издаваемых во всё большем количестве книг по территории страны, обеспечение доступа к ним самых массовых читателей (а это, по материальному уровню населения, возможно прежде всего через библиотеки или учреждения, подобные им по устройству и функциям). Вторая проблема — обеспечение максимального разнообразия выбора самой актуальной специальной, общегуманитарной, художественной литературы для наиболее образованных, квалифицированных и взыскательных групп, способных (конечно, при многих прочих условиях) обеспечить интеллектуальную динамику, вернуть страну в «большой мир» и творчески, всерьез, на равных взаимодействовать с этим миром. Третья проблема — идущее год за годом последовательное сокращение тиражей издаваемых книг, дробление, размельчение их читательских аудиторий без каналов связи, без обращения книг между ними, без воздействия этих групп друг на друга (роль журналов и библиотек в этой связи почти сошла на нет). Сегодняшний средний тираж российской книги более чем в шесть раз уступает соответствующему показателю 1990 г., тогда как число названий книг выросло почти в три раза. И это расхождение становится все резче.
8. Социологи говорят о нынешней России как социуме телезрителей, объединенных в их воображении именно тем, что они — только зрители. ТВ сегодня не просто много смотрят — оно формирует картину мира, отношение к себе и другим людям, к опеке государства и собственной инициативе, поддерживает общее представление о коллективном «мы» (в прошлом — героическом, сегодня — пассивно-созерцательном).
У ряда аналитиков, работающих с эмпирическими данными о чтении, телесмотрении, предпочтениях публики и проч., складывается представление, что во многих отношениях российская культура — по составу наиболее массовых ценностей и представлений, воспроизводимых основными коммуникативными каналами изо дня в день и от праздника к празднику, — как бы возвращается к прошлому 20–30-летней давности. Причем происходит это при чрезвычайном — в сравнении даже с тогдашним состоянием — ослаблении и распаде институтов культурной репродукции (школы, библиотеки). Наблюдается разрыв или даже множество разрывов в цепи передачи культуры — от поколенческих до «географических». Идет исключительно массовизация (стандартизация, сериализация) транслируемых образцов культуры, однако базовые институты общества (политические, судебные, публичные, культурные) остаются немодернизированными, так что осуществлять свою роль — инициаторов нового, распространителей устоявшегося, нормативного или классического — они фактически не могут.
Подобная ситуация ставит перед вопросами двух уровней: об ответственности государства за социальные обязательства перед населением, включая каналы распространения общей культуры и поддержание определенного уровня их работы, и об ответственности образованных слоев, людей знания, культуры, книги, за производство новых, разнообразных образцов, которые ориентировали бы людей в современном усложняющемся мире, а не подпитывали бы сознание россиян уже привычной для них ксенофобией и изоляционизмом, агрессивной риторикой великой державы и мифологией опять какого-то особого пути. Как свидетельствуют опросы общественного мнения, все показатели подобных установок за последние несколько лет в России и в ее столице заметно выросли — под влиянием как реальной политики правящих верхов, так и массированного воздействия со стороны огосударствленных массмедиа.
Ответственность государства за нынешнее состояние дел в области распространения книг, библиотечного обслуживания, массового чтения не подлежит сомнению. И почты, и библиотеки (институты культурной коммуникации и воспроизводства культуры) были и остаются в России объектами исключительной государственной монополии. Никакие другие силы, кроме государства — на разных его уровнях и в лице разных ведомств, — тут не действовали и не действуют.
С другой стороны, ответственность за сложившуюся ситуацию в полной мере несут (должны были бы нести!) образованные слои нескольких поколений россиян. Это при их помощи, молчаливом согласии или усталом равнодушии страна превратилась в общество пассивных телезрителей и скопление раздраженных ксенофобов. 40 % населения считают, что «инородцев» надо выселять, 60 % поддерживают лозунг «Россия для русских», 70 % — что надо подвергать «чужаков» и учреждения, фирмы, где они работают, особо строгой проверке, постоянному контролю со стороны власти. В стране, в ее крупных городах, в столице не существует массовых телевизионных каналов с вещанием на украинском или армянском, татарском или молдавском, грузинском или азербайджанском языках (вещь, абсолютно обычная в любой крупной стране мира). Приходится признать, что носителям упомянутых выше установок чтение не нужно: они не нуждаются в других, их не интересуют кругозор и опыт других, а потому с книгами, печатью, литературой, которые исторически развивались в Европе и Америке как средства коммуникации между разными группами в открытых и динамичных обществах, для этих людей не связано ничего важного.
9. Важный узел проблем книжной и читательской культуры — чтение детей. Как показывают международные сравнительные исследования по программе PISA и др., российские дети, особенно младших возрастов, читают даже чаще и больше многих своих зарубежных сверстников, более позитивно оценивают чтение как занятие. Но, во-первых, эта позитивная установка и частота чтения вовсе не гарантируют его качества (сложность задач, нестандартность решений, самостоятельная рефлексия — вот что не дается российским детям, техника чтения здесь ни при чем, они ею вполне владеют). А во-вторых, привычка и интерес к чтению, частота обращения к печатному слову резко падают в России при переходе от начальной школы к средней, а от средней школы к профессиональной работе, и нет механизмов и институтов поддержания этого качества на высоком уровне, механизмов его постоянного повышения. А без установки на такое повышение, самостоятельность, выбор из многообразия у самого человека, в окружающей среде, в основных институтах социума невозможно никакое реальное качество чтения, образования, труда, досуга. Между тем, как свидетельствуют данные опроса Левада-Центра в декабре 2006 г., к 9-му классу интенсивность чтения снижается, у школьников нарастает отношение к чтению как принудительному и скучному занятию, которое никому не нужно. Есть основания связывать это с дефицитом современной литературы о реальных экономических, внутрисемейных, межэтнических проблемах и ценностных коллизиях в жизни сегодняшних подростков и раннего юношества — литературная классика, и русская и советская, никак не может заменить таких книг, она сосредоточена совсем на другом, а подавляющее большинство издающейся детской литературы адресовано «самым маленьким».
10. Говоря уже совсем коротко, узловыми точками наиболее острых проблем, связанных сегодня с чтением и книжной культурой, являются такие репродуктивные институты постсоветского социума, как каналы книгораспространения, библиотеки разного типа и уровня, образовательная система. Дело не просто и не только в приобщении детей и взрослых к разнообразному чтению, а в налаживании реальных коммуникативных связей между различными группами и слоями социума, в создании и укреплении современных институтов социально и культурно открытого общества, а соответственно, и о принципах подбора людей в эти институты (широко говоря, проблема новых кадров, включая их подготовку, продвижение, гратификацию, формы их связей с обществом и подотчетности обществу). Программа чтения в этих условиях должна, с одной стороны, обеспечить достойный уровень обеспечения журналами и книгами самых массовых читателей, фондов «низовых», наиболее близких к ним сельских, районных, школьных библиотек, а с другой — дать возможность наиболее подготовленным, разборчивым и требовательным группам общества, претендующим на роль политической, экономической, культурной элиты, ощущать себя частью большого, открытого мира науки, культуры, публичной жизни с его многообразием и конкуренцией, личным выбором и ответственностью за этот выбор. Между тем, все социально-политические и социокультурные тенденции последних лет ясно показывают, что так или иначе разными группами населения принят относительно устраивающий многих (по принципу «не было бы хуже») курс на массовизацию и нивелировку социума без модернизации его основных институтов (выборной системы, суда, образования, армии, независимых общественных движений, публичной сферы и т. д.). В подобном контексте национальная программа поддержки и развития чтения (2007) рискует разделить бюрократическую судьбу других национальных проектов в столь же проблемных сферах коллективной жизни россиян — жилищно-коммунальном хозяйстве, землевладении и землепользовании, здравоохранении и медицинском обслуживании, образовании и т. д.
2007
Библиотеки сегодня: новые контексты и старые проблемы
За последнее двадцатилетие кардинальным образом изменились масштаб, формы и содержание коммуникаций в российском социуме. Главное — они сократились по объему, обеднели и усреднились по содержанию, массовизировались по форме. В этом коммуникативном плане сегодняшнее взрослое население страны, то есть, собственно говоря, российский социум, можно очень обобщенно представить как сосуществование трех слоев публики:
— наиболее широкий слой объемом не менее 60 % взрослых россиян, в значительной мере или фактически целиком исключивших из обихода большинство коммуникаций, кроме общения с ближайшими родственниками (локализованная область «своего») и ежедневного просмотра трех основных каналов государственного телевидения в течение по меньшей мере нескольких часов (унифицированная область «общего»);
— средний по объему слой более образованных и старших по возрасту групп, в том числе — прежней интеллигенции (примерно от 20 % до 30 % населения), которые сочетают телевидение с печатными коммуникациями, в том числе — чтением книг, читая не так много и не так часто, а по содержанию ориентируясь в большей мере на массовые серийные издания жанровой словесности и, в меньшей степени, на перечитывание или демонстративное признание значимости (в ситуации интервью или анкетного опроса) классической литературы, особенно отечественной; впрочем, на правах классики ими воспринимается любая «старая» литература — произведения авторов XIX–XX вв., включая авантюрную прозу (Дюма-отец) или детектив (А. К. Дойл), а также признанная советская словесность (Шолохов);
— достаточно узкий слой наиболее образованных, урбанизированных и относительно благополучных россиян, как правило учащейся или недавно окончившей вуз молодежи крупных и крупнейших городов (в сумме — порядка 10 %, максимум 15 % взрослого населения), имеющих наиболее широкий круг наиболее интенсивного общения, включая посещение кино, театров, музеев и выставок, кафе и клубов, и в большой мере ориентированных на аудиовизуальные коммуникации (кино, музыка), среди журналов и книг — на современную словесность, отечественную и переводную, носящую отметку модности, но активно соединяющих с этими досуговыми запросами и практиками использование учебной и специальной литературы, справочников, энциклопедий, словарей, а с традиционными «бумажными» изданиями — интернет-источники и чтение с помощью портативной техники (букридер, мобильный телефон, iPhone, iPpad и т. п.).
Этот кризис для одних групп и серьезная трансформация систем коммуникации для других сопровождались на уровне социума в целом кризисом доверия как другим людям, так и каким бы то ни было социальным институтам (особенно — новым), за исключением фигуры первого лица (в 2008–2012 гг. — двух первых лиц), силовых институтов (армия, ФСБ, но ни в коей мере не милиция/полиция) и Русской православной церкви. В этом контексте можно говорить и о параллельном кризисе авторитетности. За исключением названных лиц и символических фигур, представляющих упомянутые институты, российское население, включая его наиболее молодые, активные, образованные подгруппы, не может указать тех, к чьим поступкам они бы с интересом присматривались и чьи мнения могли бы на них повлиять, так что «лидеры» авторитетности — как правило, это имена нескольких наиболее «раскрученных» артистов эстрады — в лучшем случае получают при подобном плебисците голоса нескольких процентов россиян. Наконец, на протяжении последнего пятнадцатилетия наряду с резким имущественным расслоением российского социума и отрывом нескольких относительно успешных «центров» страны от ее гигантской периферии имел место кризис социальной дифференциации и структурности общества. Большинство сегодняшнего российского населения существует атомизированно, по образу жизни, привычкам и запросам представляя собой «рассеянную массу», которая символически интегрирована ритуалами власти, символами «великой державы» и ее «особого пути», транслируемыми по телевидению.
Понятно, что перечисленные перемены повлекли за собой кризис авторитетов — слабость или отсутствие публичных культурных лидеров, элитных групп, а собственно в чтении привели к сокращению значимости фигур лидера чтения и эксперта (библиотекаря, учителя литературы, литературного критика). С этим связано и общее для большинства социальных групп и слоев российского населения сокращение временных размерностей действия — отсутствие сколько-нибудь структурированных представлений о будущем, расчет на самые короткие временные дистанции, ностальгия по утраченному прошлому и фантомное значение этой общей потери[85].
Говоря о значимости для сегодняшних россиян телевидения и аудиовизуальных коммуникаций вообще, подчеркну, что в телесмотрении нет и не может быть лидеров, они здесь попросту не нужны. Телевизионная аудитория организуется по иным принципам и другими средствами, представления о которых могут дать самые популярные в сегодняшней России типы изданий — журналы «7 дней», «ТВ-неделя», «ТВ-парк». Их составляющие — хронометрированная программа зрительского досуга с аннотациями и визуальные образы звезд в их досуговом, праздничном, модном поведении. Телевизионная коммуникация построена на принципе анонимного потока (к нему также тяготеет газета и массовый журнал), книжная — на принципе отдельного авторского образца. Бренд газеты, образ теле- или кинозвезды выступают для новейшего времени новыми, внеавторскими типами предъявления и удостоверения значимости смысловых образцов, заявки на авторитетность и влиятельность. В сравнении с ними как типовыми формами коммуникации, алфавитное письмо и опирающаяся на него книжная печать — это предельно формальное, условное и потому наиболее рационализированное средство трансляции значений и образцов. Характерно, что чтение, понимание и интерпретация печатных (книжных) текстов — единственный вид массовой коммуникации, которому каждый из нас специально обучается в рамках автономной, институционализированной системы — школы.
Подытоживая эту часть рассуждений, можно сказать, что сегодняшняя Россия переживает кризис «общего» — интересов и занятий, значимых событий и авторитетных фигур, общего интереса и блага, выходящих за ближайший круг родных и знакомых для старших, менее образованных, обеспеченных, активных групп населения и, опять-таки, ближайший круг друзей и знакомых для более молодых, образованных и благополучных жителей России (на выработку таких общих идей и ценностей, на формы добровольной солидарности вокруг них, новые основания публичного авторитета, собственно говоря, и работал в странах Запада процесс модернизации, просвещенческая программа культуры). За пределы «своих» — таких же в социальном и культурном плане, как сам респондент, — старших россиян выводит разве что телевизор: они рассеянно посматривают на него как зрители, но на показанные им события не в силах повлиять как участники. Мир другого для младших открывает Интернет: здесь они, с одной стороны, остаются в кругу «своих», а с другой — выступают под масками, «никами» и проч., опять-таки, как и старшие, не втягиваясь в происходящее и в его заинтересованное обсуждение, а, напротив, отстраняясь от этого. Экран — и телевизора, и компьютера — не только показывает других, но и отгораживает от них, экранирует показанное.
В российском интеллектуальном сообществе, явно теряющем общественный и культурный авторитет и признание, но не приобретшем социальной автономии, эти процессы в стране сопровождались кризисом рефлексии и анализа, в том числе — самоанализа и самокритики, а в массовых институтах — кризисом репродуктивных систем. Речь идет прежде всего о школе — как средней, так и высшей, а в значительной мере о библиотеках, музеях и других институциях, представляющих культуру и просвещение. И то и другое фактически означало провал прежней интеллигенции, ослабление и даже исчезновение ее места и роли в социуме, а вместе с тем — выявило крайне слабый творческий потенциал интеллектуального слоя, несамостоятельность его поведения, отвлеченность и мечтательность мысли.
После четверти века относительной свободы думать, высказываться и действовать в России можно сказать, что групповой уровень существования (не путать с кружковым!) в отечественных условиях так и не появился. А соответственно, не были созданы каналы меж- и надгрупповой коммуникации, не появилась конкурентная и динамичная сфера публичности, равно как и формы институционального отбора, обобщения, закрепления и воспроизводства различных групповых ценностей и образцов. А раз так, то мы — в основном, хотя уже не только — по-прежнему пребываем в состоянии разложения прежнего целого (советского социума, советской цивилизации), по возможностям той или иной семьи или кружка обживая этот распад.
Вот лишь некоторые цифры для иллюстрации сказанного (здесь и дальше я имею в виду и непосредственно использую данные общероссийских репрезентативных исследований населения, специализированных зондажей молодежи и экспертных углубленных интервью, проведенных Левада-Центром более чем за двадцать лет полевой работы)[86].
Таблица 1
Как часто вы читаете книги?
(в % к числу опрошенных в соответствующем году)
Как видим, в 1990 г. читали книги хотя бы раз в неделю 38 % взрослых россиян (18 лет и старше), в 2010-м — 27 %. При этом доля людей, практически не читающих книг, выросла с 44 % до 63 %.
Таблица 2
Как часто вы читаете журналы?
(в % к числу опрошенных в соответствующем году)
Если в 1990 г. практически не читали журналы 19 % взрослого населения России (причем речь идет, по тогдашним условиям, прежде всего о тонких журналах типа «Огонька» и «толстых» литературных вроде «Знамени» и «Нового мира», незадолго до этого ставших независимыми от государства), то сейчас эта цифра достигла 57 % (среди молодежи — 58 %, а среди самых старших россиян — 69 %).
Таким образом, хотя бы раз в месяц сегодня бывают в библиотеках 6 % взрослых россиян, свыше 85 % их вовсе не посещают; 20 лет назад соответствующие цифры выглядели как 21 % и 63 %. Даже среди молодежи крупных и средних городов страны, а это сегодня наиболее активные абоненты библиотек (опрос 800 человек в 2011 г.), посещают библиотеки для учебы, самообразования лишь 26 %, а трое из пяти опрошенных не бывают в них практически никогда.
Свыше 70 % наших взрослых сограждан (опрос 1600 человек в 2011 г.) не покупают книг. Делают это хотя бы раз в месяц 13 %, причем две трети покупающих приобретают в среднем одну книгу в месяц, но чаще — и того меньше. Из книг, которые россияне читали на момент опроса в 2010 г., 62 % были куплены ими недавно или раньше, 19 % — взяты у друзей или родных, каждая девятая была скачана из Интернета и опять-таки каждая девятая была из библиотеки (напомню, что, по данным опросов в 1970-х гг., библиотечными были от 40 % до 60 % книг, читавшихся респондентами на момент социологического опроса). Соответственно свыше 70 % семей не имеют домашних библиотек — у них либо вовсе нет книг, либо есть меньше 100 книжных изданий, то есть разрозненные книги, не составляющие общего и значимого культурного ресурса. Доля семей с большими домашними библиотеками, свыше 500 книг, сократилась за последние 15 лет с 10 % до 2 %.
Таблица 3.1
Как часто вы бываете в библиотеке?
(в % к числу опрошенных в соответствующем году)
Таблица 3.2
Как часто вы бываете в библиотеке?
(в % к числу опрошенных в соответствующем году)
При этом книгоиздание в стране, ставшее за последние двадцать лет практически целиком негосударственным, характеризовалось более или менее постоянным ростом числа названий публикуемых книг при последовательном сокращении их тиражей, то есть сужении значимости каждого отдельного образца. Так, количество издаваемых книг и брошюр за 1990–2010 гг. увеличилось почти в три раза, тогда как средний тираж сократился в 7 раз. Еще резче выглядит этот разрыв применительно к переводным книгам, доля которых в книгоиздании, заметим, сокращается: количество названий переводных книг за период 1991–2010 гг. выросло в 3,79 раза, тогда как средний тираж сократился в 24,5 раза. При этом книгоиздание последовательно сериализуется, иначе говоря, работает как канал по преимуществу массовой коммуникации: серийные издания книг составляют сегодня до двух пятых (39 %) книжного потока по названиям и свыше трех пятых (62 %) — по доле в совокупном тираже.
Еще острее ситуация с журналами — их покупкой, подпиской на них, чтением. Наиболее широко употребительными среди них выступают тонкие иллюстрированные с аннотированной телепрограммой и цветными фото из жизни «звезд» кино и эстрады, а также тонкие для женщин (с выкройками, кулинарными и медицинскими рецептами). Следующая подгруппа, с заметно меньшей популярностью, — толстые глянцевые журналы, либо для мужчин, либо для женщин (важно, что прессу такого типа не читают, а просматривают — это другой режим коммуникации, по-другому в таких случаях чувствует, ведет себя и сам рассеянный потребитель). Третья подгруппа — научно-популярные журналы, юмористические издания и периодические сборники кроссвордов. Старые «толстые» литературно-художественные журналы — органы сплочения инициативных групп, с помощью которых групповые ценности и нормы регулярно выносятся в публичное пространство коммуникаций с другими такими же группами и борьбы за публику, расширение ее круга, — редуцировались по тиражам и функциям до «малых литературных обозрений». Причем новые журналы этого последнего типа, десятками ежемесячно возникавшие на заре перестройки и гласности, за девяностые годы в абсолютном большинстве исчезли (хотя за последние 15 лет стали доступны — прежде всего через «Журнальный зал» в Интернете — несколько старых и новых литературных журналов российской эмиграции).
То же в большинстве случаев произошло с новыми магазинами «интеллектуальной книги», которые начали возникать в крупных городах примерно с 1992–1993 гг. и число которых упало с тех пор как минимум вдвое, да и посещаемость их стала иной. Если же говорить о распространении изданных книг через книготорговую сеть в целом, то укажем только, что по сравнению с советскими годами в России произошло как минимум двух-трехкратное снижение числа книготорговых точек. При постоянно росшем в последние 10–12 лет количестве названий издаваемых книг (и даже при сильном сокращении их тиражей, развивавшемся параллельно) розничная книготорговая сеть не в силах реализовать сейчас и половины книжной продукции, выпускаемой издательствами. Так или иначе, итог перечисленных сдвигов таков: чтение в России (по крайней мере применительно к художественной литературе) — это чтение книг, а книги эти в абсолютном большинстве случаев — жанрового типа и массового назначения. В принципе для такого рода изданий семейное собирание, хранение и передача в форме домашней библиотеки вообще не предусматриваются: по данным наших последних опросов, до 40 % россиян, покупающих сегодня книги, не собираются их хранить, а предполагают после прочтения передать другим или просто выбросить. Наконец, добавлю, что не бывают в кино, по данным опроса в 2011 г., 76 % взрослых россиян, в театрах — 82 %, в музеях, на выставках — 83 %.
Что стоит для социолога за этими цифрами и фактами? С точки зрения социологии книги, журналы, библиотеки, музеи, кинотеатры — это узлы коммуникаций. То есть вопрос заключается в том, что произошло и происходит с системами коммуникаций, коммуникативными связями в российском обществе. И второй вопрос: что такое само это современное российское общество, солидарно ли оно и вокруг чего объединяется (если объединяется), как видит себя и других, свое прошлое, настоящее и будущее? Тем самым процессы издания, чтения, распространения печати оборачиваются для социолога вопросами 1) о коллективной идентичности россиян (различных идентичностях) и 2) о коммуникациях между носителями этой идентичности (идентичностей). Применительно к России средоточием той и другой проблематики выступает Москва как центр страны, где концентрируются ее наиболее значимые ресурсы (люди, деньги, власть и влияние, образование и массмедиа, время и досуговые возможности), и как пункт скрещения большинства интересов и коммуникаций россиян, а нередко, одновременно с этим, и точка коллективного отталкивания.
Один план, который нужно иметь в виду, — социальные процессы, происходившие в последние 20 лет в самой России, и их культурные последствия, о них говорилось выше. Другой план — процессы общемировые, в частности массовая компьютеризация населения, переход на «электронное чтение». В мире, особенно в развитых странах мира, идет, с одной стороны, миниатюризация кругов общения, все большее значение приобретают малые группы и кружки, объединенные общими, но все чаще узконаправленными интересами и склонностями; многие из таких общностей возникают внезапно здесь же, в Сети, и существуют краткое время (флешмоб-акции и т. п.). С другой стороны, миниатюризируются и индивидуализируются сами средства коммуникации: как прежде стали карманными, а потом и наручными часы, теперь становятся карманными телефон, iPad и т. д. Применительно к Западу, его развитым странам можно в данном аспекте говорить о завершении эпохи модерна, процессов экономической, социальной, политической модернизации, а соответственно, об исчерпании идеи культуры (национальной культуры) как идеологии образованных слоев в прежних рамках строительства национальных государств и современных (модерных) обществ. Новый контекст коллективного существования сейчас — глобальный (глобализация). В определенной мере, в частности в области технологии коммуникаций, эти процессы затрагивают и российское население, причем, конечно, с наибольшей силой — его более молодые, образованные, урбанизированные подгруппы. Так, если в целом скачивают сейчас книги из Интернета 16 % взрослого населения России, то среди молодежи до 24 лет эта цифра достигает 37 %.
Москва при этом концентрирует в себе и средства коммуникации (ее жители наиболее обеспечены всеми коммуникативными устройствами, включая Интернет и мобильные медиа — в столице скачивают книги из Интернета 22 % жителей), и проблемы разрыва коммуникаций, аномии, ксенофобии. Характерно, что москвичи более недоверчивы, подозрительны и ксенофобны, чем остальные россияне, а новые, недавно поселившиеся в городе москвичи и молодые столичные жители, включая в значительной мере студенческую молодежь, — даже более ксенофобны, чем остальное население столицы.
Еще один, особый план рассмотрения процессов, которые происходили и происходят сегодня в издании и распространении книг, в чтении и библиотечном деле, связан с распадом советской модели культуры (государственной монополии на культуру и просвещение) и с ослаблением роли интеллигенции, которая, собственно, и создавала, поддерживала, обслуживала эту государственную модель. Сегодня в России нет таких институтов, групп, отдельных значительных фигур, которые могли бы претендовать на всеобщий авторитет и нести в массы единую модель культуры. Государственно-воспитательная модель культуры в последние два десятилетия все чаще дополняется, а для отдельных групп все больше вытесняется в России моделью, условно говоря, частно-развлекательной. Анализ издательской продукции — как книжной, так и журнальной («глянцевая» и «желтая» пресса) — показывает это вполне ясно. С другой стороны, нет позитивных идей, которые объединяли бы значительную часть россиян и выступали бы стимулами для позитивных же коллективных действий. Большинство жителей нашей страны объединяет сегодня мифологизированное представление об утраченном прошлом («великая держава», которую «мы потеряли») и о непреодолимой границе между Россией и «большим миром», которому как будто бы «не понять» России, который ее «не уважает», хочет «поставить на колени» и т. п. (мифология «особого пути», «особого характера российского человека»).
Подведу (опять-таки коротко) итог всему сказанному:
— за последние 15–20 лет сложилось известное разнообразие предложения на книжном и журнальном рынке России (количество названий, тематика, жанровый состав — при последовательном сокращении тиражей); отдельный узел проблем составляют трудности в распространения книг и журналов по территории страны, включая малые города и села, где в совокупности, напомню, проживает свыше 60 % российского населения;
— в условиях практически всеобщей принудительной и «понижающей» (Ю. Левада) социальной адаптации населения в 1990-е гг. преобладающая часть россиян перешла на самые распространенные, финансово, технически и семиотически доступные, стереотипизированные образцы массовой культуры — как словесной, так и (по преимуществу) аудиовизуальной, несущей соответствующие представления о мире и человеке, прошлом, настоящем и будущем;
— при этом среди населения крайне слабы либо даже вовсе отсутствуют общие литературные и, шире, культурные ориентиры и авторитеты; книжная, читательская, культурная ситуация существует в размытом, аморфном состоянии — без ярких лидеров, чье влияние выходило бы за пределы узких кружков, и без запоминающихся общих событий; по данным недавних опросов Левада-Центра — как россиян в целом, так и продвинутых, более молодых, образованных, состоятельных групп, а также экспертов в сфере издания и распространения книг, включая библиотечных работников, — сегодня в России нет писателей и книг, которые бы за последние годы вызвали совокупный интерес более чем буквально нескольких (двух-трех) процентов опрошенных;
— последовательное дробление российского социума и предельное сужение публичной сферы в стране привели к резкому сокращению роли журналов как основного способа внутренней интеграции групп и оперативного, регулярного средства межгрупповых коммуникаций (можно вообще говорить о радикальном изменении временных рамок повседневной коммуникации за последние полтора-два десятилетия — это все больше коммуникация между «своими», она протекает в реальном времени «здесь и сейчас» и осуществляется персонально от одного человека к другому);
— библиотеки, по данным как массовых опросов населения, так и отзывов библиотекарей, для большинства россиян стали или становятся «местом, куда мне не надо», а более или менее устойчивый контингент их посетителей, по оценке библиотечных работников, составляют сегодня, как правило, «пионеры и пенсионеры».
Названные проблемы представляют серьезный вызов для людей культуры, людей книги. Речь идет даже не о креативном потенциале культуротворческих групп, равно как и не об анонимных, серийных, тиражируемых образцах массовой культуры — и то и другое в каком-то виде и до известной степени в сегодняшней России есть. Дело в другом — в налаживании более сложных, тонких связей и переходов между кружковым и массовым уровнем существования, в выработке соответствующих — синтезирующих, опосредующих — образцов мысли, чувства, музыки, словесности, кино и т. д. Только их появление, восприятие, усвоение, а затем и воспроизводство задают процессуальность культуры, ее историческую динамику и, вместе с тем, укореняют культуру в повседневных интересах, проблемах, образе жизни и мысли широких социальных групп.
Эти проблемы требуют, прежде всего, их ясного понимания, а далее — по возможности, осмысленных действий на основе понятого. Такие действия, как понятно из всего сказанного, стоило бы направлять на формирование идентичностей, различных по масштабу, по ценностям и интересам, типам проявления солидарности, то есть на увеличение субъектности российского социума, многообразия и динамичности его коллективного существования, и, вместе с тем, на налаживание и обеспечение, опять-таки, различных по форме и содержанию коммуникаций между группами, слоями, кругами людей, объединенных общими интересами, идеями и символами. Библиотеки — своего рода органы таких сообществ. Их роль состоит в том, чтобы поддерживать их внутреннюю сплоченность и, вместе с тем, связывать их с разнообразными другими — отличающимися от них, но им не чуждыми и не враждебными. Общество — это общение и общность разных. Ясно, что и состав библиотечных фондов, и набор предлагаемых библиотеками услуг, и культурные функции их в российском обществе должны коренным образом измениться, а это неизбежно поставит вопрос о строительстве, материалах, кадрах, системе их подготовки, формах признания и вознаграждения, о финансовом и интеллектуальном обеспечении всего этого и т. д.
Некоторые сдвиги и опыт такой новой работы за последние годы в библиотеках появились, но все-таки лишь в отдельных. Особого внимания в этом плане заслуживают самые юные группы населения страны — дети и молодежь. Для них сегодня, особенно в крупных и крупнейших городах, в Санкт-Петербурге и Москве, характерно все большее совмещение традиционного и электронного чтения, чтения с компьютера и с мобильных носителей, пользование традиционными и электронными библиотеками. Причем, как показывают наши опросы, молодежь использует все эти возможности более активно, чем другие социально-демографические группы, а более активные интернавты относятся к более активным «бумажным» читателям и абонентам «традиционных» библиотек. Так что Интернет не вытесняет чтение, а электронная книга — бумажную: суть происходящего в том, что перестраивается и усложняется вся система коммуникаций в обществе, а соответственно меняется место книг, журналов, библиотек в этой системе. Разные каналы коммуникации, по крайней мере сегодня, не вытесняют друг друга, а соседствуют, частично дифференцируясь по группам населения (социально-демографическим, потребительским и др.) и по типам издания (справочные и энциклопедические издания, газеты, «тонкие» и «толстые» журналы, «модная» книга и др.).
В любом случае развитие нынешней ситуации в книжной сфере, библиотечной системе, читательском поведении, шире того — динамика культуры, будут связаны именно и прежде всего с теми группами, которые соединяют чтение и пользование компьютером, возможности типографской и электронной книги. Такие формы синтеза, включая кентаврическое сочетание, казалось бы, несочетаемого, при всей их переходности выступают, как представляется, реальной перспективой социального и культурного существования в России. По крайней мере, такой видится ситуация на предстоящие годы, в горизонте жизни ближайшего поколения.
2011
Классика. Массовая литература. Авангард
Идея «классики» и ее социальные функции[87]
Понятие классической литературы, в том числе в форме представлений о традиции или наследии, принадлежит к ключевым компонентам литературной культуры — совокупности значений, которые делают возможным согласованное взаимодействие по поводу литературы, выступая смысловыми основаниями поведения его участников и образуя, при регулярности подобного взаимодействия и универсальном характере его регулятивных механизмов, ролевую структуру социального института литературы. С особенной очевидностью значимость классики выявляется в исторических ситуациях, когда это понятие, например в Германии XVIII–XIX вв. или в России XIX–XX столетий, становится синонимом литературы в целом. Но и в менее экстремальных случаях — например, в условиях современной плюралистической культуры — оценочные формы классического сохраняют свою функцию критериев, по которым определяется правильность протекания процессов литературной коммуникации. Последнее относится к мотивационной структуре авторского поведения, основаниям суждений о литературе, в том числе текущей[88], нормам литературно-критического истолкования текстов, стандартам рецепции и оценки книг читателями.
Понятна поэтому значимость апелляций к классике для практически любых в содержательном плане манифестов, с которыми выступают литературные группы, направления в литературной критике. Однако и в процессе выдвижения подобных групп, и при ретроспективной оценке их практики в истории литературы предложенные ими содержательные определения классического принимаются как данность. Так, сконструированный характер «легенды немецкой классики», созданной в характерной исторической ситуации и поддерживаемой из соображений идеологического триумфа, последовательно замалчивается, что ведет к принудительным искажениям и допущениям в описании периода, характеризуемого как классический[89].
Вместе с тем значения и функции классического крайне редко выступают объектом специализированного научного интереса, предметом теоретической рефлексии или эмпирического исследования, в том числе социологического. Это может быть объяснено функциональным значением классики. Исторически она (а позднее «традиция») выступила символом эстетической автономии социального института литературы на стадии его образования. В частности, это относится к манифестам и практике литературных группировок второй половины XVIII в., ищущих оснований собственной авторитетности в ситуации, когда прямая социальная поддержка (патронаж и т. п.) оказалась в той или иной мере утраченной или неприемлемой. Кроме того, апелляция к образцам и авторитетам «прошлого», с которыми устанавливались отношения «наследования», представила собой эффективное средство самопределения специфических по своему составу и содержательным интересам групп в условиях интенсивной социальной мобильности и, соответственно, демократизации престижей, широкого распространения грамотности, чтения, книгопечатания, словесности массового тиражирования и обращения. Жесткая предписанностъ форм отношения к повышенной ценности классического (норм вкуса) означала их фактическую необсуждаемость. Классика и близкая ей в этих значениях «литература» выступали в подобных групповых манифестациях символом «всеобщего», «целостного», противопоставленного всему «специализированному» как «частичному», «утилитарному». Поскольку носители суждений о литературе принимали подобное образование в качестве средства самоопределения (иначе говоря, отождествляли себя с претендентами на ведущие позиции в литературной системе), из их поведения была исключена специализированность и, тем самым, выход за пределы групповых, собственно литературных норм суждения о литературе.
Эффективность смысловой регуляции литературного взаимодействия подобными жестко предписанными средствами в дальнейшем подвергалась относительному ограничению в самоопределениях новых, конкурирующих за символический авторитет литературных групп. Соответствующее умножение групповых определений, социальных ролей и культурных позиций, конституирующих различные смысловые перспективы при рассмотрении классики, выражается, наряду с прочим, и в том, что для их обоснования и для обоснования, соответственно, значимости литературы, критериев значимости и средств интерпретации текстов отыскиваются иные, внелитературные значения, то есть становится возможно говорить о «контексте» или «функциях» литературы, об «историчности» ее определений. Так, в манифестах отдельных групп представителей Просвещения (Монтескьё, Гердер) и романтизма (Ж. де Сталь) фиксируются значения литературы как выражения «духа времени», «народа» («нации»), «общества». Соответствующие представления Ж. де Сталь и Л. де Бональда считаются началом социального подхода, развитие и специализация которого позднее образует предметную сферу современной «литературной социологии», социологизирующего литературоведения.
Характерно, что подобная релятивизация нормативных определений классики и литературы в целом приняла, в частности, форму утверждения авторитетности неканонических литературных практик (и прежде всего романа). Также она имела своим следствием узаконение «низовой» (народной) словесности в качестве специфического типа литературы и литературности, дав, наряду с ее собиранием и изданием, ряд эмпирических работ по ее описательной истории (П. Низар во Франции, Р. Прутц в Германии). Вместе с тем, примечательно, что представления о социальной значимости или обусловленности литературы, во многом связываемые их носителями как раз с такой «массовой» словесностью, долгое время локализовались в рамках комплекса дисциплин и подходов, объединенных понятием «литературоведение».
В этом смысле показательно, что практика относительной релятивизации нормативных представлений о литературе принимала вид исключительно исторических или компаративистских литературоведческих разработок. Характерно и то, что ученые прежде всего этих направлений и других маргинальных по отношению к «нормальному» литературоведению позиций, включающих ориентации на теорию коммуникации, структурную этнологию, литературную герменевтику, ищут возможностей конвергенции литературоведения с социологией, культурологией и т. п. Потребность в генерализации эмпирических данных, в их теоретическом осмыслении, в методологическом дистанцировании от априорных оценок, задачи методологической рефлексии с неизбежностью требуют выхода за пределы литературоведческих дисциплин в другие области знания и иные сферы культуры, предполагая само понятие «культуры», его теоретическую экспликацию, а также аналитические средства, вырабатываемые в иных областях науки.
В данном случае на формировании подходов к социологическому рассмотрению литературы сказались и некоторые особенности становления общей социологии как научной дисциплины. Прежде всего здесь нужно иметь в виду преобладание позитивистских компонентов при выработке специфической интеллектуальной традиции, институциональной идентичности, в ролевом самоопределении социологов на ранних этапах становления социологической науки. Идеологическая оценка, содержащаяся в нормативных определениях классики (и литературы, «настоящей литературы» в целом), блокировала интерес «позитивной» социологии к подобной проблематике, долгое время остававшейся, кроме того, внутренним делом тех или иных группировок писателей, критиков, литературоведов в достаточно автономизированной к этому времени литературной системе. В той же мере, в какой значения классического признавались общими нормами культуры, символами национальной и культурной идентичности нации-государства, они были защищены от дальнейшей рационализации этой своей повышенной обобщенной значимостью.
Последняя с особой жесткостью декретировалась в конце XIX — начале XX вв. и, наиболее явно, накануне и в период Первой мировой войны, после которой классика и традиция в целом собственно и приобретают для сравнительно широких кругов интеллектуалов крайнюю проблематичность. Там же, где нормативная авторитетность литературного и общекультурного наследия не могла (и не собиралась) притязать на подобную общепризнанность — скажем, в США, — демонстративный разрыв с европейской интеллектуальной традицией и подчеркнутый позитивизм основополагающих принципов социологической работы попросту исключал европейскую классику из сферы аналитической работы.
Кроме того, в той мере, в какой социология на рубеже XIX–XX вв. самоопределялась теоретически и методологически, литература и литературная классика как идеологические образования не обладали для авторов крупнейших проектов социологии как дисциплины собственно социологической спецификой. Они могли выступать в ряду символических объективаций — культурных форм у Г. Зиммеля или коллективных представлений у Дюркгейма, трактоваться как пример роли идей в развитии социальных процессов и формировании институтов у В. Парето либо как частный случай секулярных проектов «спасения», по М. Веберу. Но в любом из этих случаев социология рассматривала их в гораздо более широком, важном и поглощающем контексте общесоциологической проблематики или наряду с другими, чаще всего более «чистыми» социокультурными образованиями.
Теми же направлениями в социологии, которые самоопределялись через выдвижение предметной специфики дисциплины, литература истолковывалась исключительно в терминах «отражения» общества, «выражения» классового духа либо средства «социального контроля». Задача представить гетерогенность смысловых оснований социального действия в современных обществах и современной культуре, а значит — полисемию тех или иных композиций значений и образцов, их дифференцированную оценку различными группами носителей литературной культуры, выделяющими всякий раз свое «классическое» и «современное», «высокое» и «низкое», в этих случаях блокировалась позитивистскими, а потом бихевиористскими и т. п. представлениями о единой, однородной и общей для всех культуре. Они фактически элиминировали само это понятие в структуре объяснения либо сводили его к чисто социальным импликациям и проекциям. Постулируемая при этом — открыто или негласно — синхронизированность культурных значений коррелировала с уравнительными представлениями о социальной структуре общества и нашла выражение в таких квалификациях, как «массовая культура» и т. п. Они содержали столь же явную, как в понятии классики, идеологическую оценку.
Подобное положение было характерно для американских социальных наук на рубеже XIX–XX вв. и позднее, в период между Первой и Второй мировыми войнами, когда американская социология становится ведущей социологической школой. Даже в наиболее развитой из теоретических концепций американской социологии, не без влияния антропологии включившей в свой аппарат аналитический конструкт культуры, — структурном функционализме Т. Парсонса — логическая необходимость в анализе символических систем была осознана весьма поздно и трудности концептуальной проработки понятий «культура», «культурная система» и проч. оказались весьма значительными. Собственно же специфика литературной фикциональности могла быть осознана в своей проблематичности для социолога лишь в результате последовательной релятивизации любых нормативных значений литературы и классики. Последняя при этом должна была все больше отождествляться не с нормативным содержанием литературных образцов, канона и т. п., а исключительно с экспрессивной техникой построения текста, на навыках владения которой устанавливаются ролевые определения носителей ведущих позиций в литературной системе, основываются механизмы воспроизводства литературной культуры в процедурах актуальной литературно-критической оценки, в ходе литературной социализации и т. п.
Как сама эта рефлексивная проблематика, так и инструментарий анализа такого рода ментальных конструкций в их социокультурной обусловленности появляются в социологии, как и в других социальных и гуманитарных дисциплинах, сравнительно поздно. В этом смысле эволюция социологии от предметных интересов к эпистемологическим проблемам как культурный процесс параллельна релятивизации содержательных определений «классического» — процессу, аналитической реконструкции и истолкованию которого (социологии самой социологии) посвящена настоящая статья.
Сказанное выше объясняет крайнюю малочисленность социологических, в особенности теоретически ориентированных, исследований функциональных значений классики. В подобных условиях необходим язык описания выдвинутых к настоящему времени точек зрения.
В соответствии со спецификой дисциплинарного подхода социолог усматривает в значениях классического смысловые компоненты группового действия. Он типологизирует их, исходя из функционального назначения (то есть содержательных интересов выдвигающих их группировок), прослеживая процессы согласования выдвигаемых значений, фиксируя семантические новообразования и модальные трансформации этих регулятивных механизмов и выстраивая исторический материал в заданной теоретической перспективе. Функциональные значения классического связываются со специфическими ситуациями конструирования традиции, претендующей на общезначимость. Она интерпретируется как средство самоопределения и поддержания культурной идентичности групп, объединенных сознанием эрозии нормативного порядка значимых культурных авторитетов. Усмотрение рассогласованности нормативных оснований литературной коммуникации, множественности конкурирующих смысловых оснований действия и выдвигающих их социальных образований стимулирует групповую практику, направленную на кодификацию, упорядочение, рационализацию гетерогенного семантического космоса литературы. Средствами нормативной фиксации этих умножающихся значений выступают пространственно-временные размерности культуры, что придает подобным практикам форму апелляции к авторитетным образцам конструируемого «прошлого» или «чужого».
При этом понимание классики как ценностного (аксиоматического) основания литературной культуры, с одной стороны, и как нормативной совокупности образцовых достижений литературы прошлого, с другой, представляет собой сравнительно недавнее историческое образование. Подобная трактовка сложилась в ходе длительной трансформации традиционных механизмов социальной регуляции. Следы этих изменений, закрепленные в семантике понятия, прослеживаются исследователями-культурологами.
Необходимость письменной фиксации «ядра» античной словесности возникает в Греции уже к IV в. до н. э. в обстановке, характеризующейся падением нормативной авторитетности трагедии, конкуренцией с нею риторической прозы, философской рефлексией над мифологической традицией. Как момент стабилизации этих потенций в Афинах воздвигаются памятники «последним великим трагическим поэтам» Софоклу и Еврипиду, подготавливается «общественный» экземпляр их произведений. Возникают первые универсальные систематики образно-символического состава искусства и словесности — «Поэтика» Аристотеля и др.
Нормативный состав греческой словесности выступает позже основой самоопределения для групп римского общества, репрезентирующих «чужую» культуру в ее письменно закрепленном и уже этим относительно универсализированном виде. В ситуации культурной гетерогенности, характерной для эллинистического Рима, Авл Геллий во II в. вводит в «Аттических ночах» (XIX, 8, 15) понятие «классические писатели». Последние как бы принадлежат к первому классу цензовой структуры римского общества в противоположность «пролетариям». B этой конструкции (ранее метафора социальных классов для установления иерархии авторов была использована Цицероном) фиксируются дифференцированная оценка писателей, расслоение совокупности наличных словесных образцов, что и рождает задачу нормативной интеграции словесности в форме замкнутой классификации. Далее конституирующим элементом самоопределения носителей письменной традиции становится апелляция к наследию прошлого, обретающего в своей временной завершенности образцовый характер. Маркировка тех или иных авторов как древних или предшественников фиксирует их «символический возраст» от настоящего момента, указывая тем самым, кто вводит подобное определение в качестве самообоснования. Поэтому можно фиксировать формирование идеи античной классики в рамках противопоставления «древнего» «новому», всякий раз анализируя содержательный характер полагаемой связи и семантику противопоставляемых компонентов.
Впервые оппозиция «antiqui» и «moderni» появляется у Кассиодора (VI в.), для которого античная культура выступает уже завершенным в себе прошлым. Для Средневековья характерно понимание настоящего в рамках однонаправленного времени «свершения». Нынешнее трактуется при этом как равноценное древней эпохе и даже превосходящее ее. «Древние» же воспринимаются как христианские «предки» наравне с исповедовавшими Ветхий Завет предшественниками. Наделение древности символическим статусом прообраза в рамках единого эсхатологического времени делает возможным инструментальное использование компонентов языческого или ветхозаветного прошлого для обоснования актуальных ориентаций. Анализируя практику такого рода, Фрэнк Кермоуд функционально сближает идею классики с понятием «двойной природы» императорского авторитета у средневековых кодификаторов права и возводит эту дихотомию вечной сущности и временных явлений к их различению Аристотелем. Он приходит к заключению, что «парадигмой классики является империя — воплощенная неизменность, трансцендентная сущность, пребывающая собой, сколь бы ни были отдалены ее провинции, какими бы необычайными ни были ее временные извращения»[90]. Обоснование авторитетности властей и приближенных к ним интеллектуалов принимает форму «перенесения» символов центральных значений метрополии в обстановку культурной (пространственной или временной) периферии, для которой и характерны подобные апелляции к недифференцированному и эмблематически трактуемому прошлому. Актуальность прошлого демонстрируется в актах символического «перенесения» власти (translatio imperii) и сопровождается «перенесением» системы латинского обучения (translatio studii). Подобная процедура реализуется в Византии, воспроизводится далее Карлом Великим, провозгласившим в 800 г. установление «нового века» (saeculum modernum) как эпохи «возобновления классических образцов», осуществляется в Германии при Оттоне III в 962 г.
Разрыв между древностью и современностью фактически отсутствует и у средневековых авторов ХII в. «Во времена Ренессанса ХII в. „новые“ так воспринимают своих античных предшественников, как будто перед ними произведения их собственного времени»[91]. Тем самым осуществляется универсализация сакрального образца. Настоящее призвано открыть «христианский смысл» произведений «древних» и тем самым подготовить приход нового времени — эсхатологического будущего.
В эпоху Ренессанса «древние» и «новые», напротив, отчетливо противопоставляются, «восстановление» Античности как идеала совершенства переносится в настоящее, а Средневековье трактуется как «via negationis». «He ощущение принадлежности к Новому времени, в котором вновь возродится античная культура, отличает гуманистов итальянского Возрождения от их средневековых предшественников, а прежде всего метафора темного интервала, осознание исторического расстояния между Античностью и собственно настоящим, которое в области искусства проявилось как дистанцированность от совершенного и основало в ней новое соотношение „imitation“ и „aemulatio“»[92]. Осознание расстояния, разделяющего эти эпохи, и закладывается в понятие «возрождение». Представление о классическом как образцовом и «вечном» приобретает у ренессансных гуманистов дополнительный предикат дистанцированности, древности. Маркировка античного как вечного имеет в виду не вечность в модусе всегда бывшего, характерную для архаики или традиционной культуры, и не сакральную вечность трансцендентного абсолюта. Она подразумевает актуальность для настоящего, другими словами, для той группы, чьи позиции в их претензиях на всеобщность репрезентируются символами, соотносимыми с «вечностью» (знание, культура, письменная латынь или греческий литературный язык в противоположность народной речи и другим символам проблематической «эмпирии» настоящего и временности как удела «черни»). Значимость прошлого, фиксируемого в его дистанцированности, удостоверяется с точки зрения настоящего, а точнее — будущего (поскольку оно соотносится с прошлым). Идея «истории как интегрированного целого»[93] трансформируется в представление о «провиденциально структурированной истории»[94]. Подобная значимость прошлого для современности предполагает отчленение оцениваемых значений от ситуации и агентов их производства — их универсализацию, то есть опять-таки воспроизводит смысловые основания, релевантные для участников актуальной ситуации. Последние с помощью такой двучленной конструкции, в которой дифференцированы и соотнесены прошлое и настоящее, временность и вечность, фиксируют проективную структуру своего взаимодействия с группами, на авторитетность для которых они претендуют. Указание на нормативность конструкции исследователь обнаруживает в модальности суждений о прошлом, совершенство которого объявляется заложенным в «самой природе».
В относительной универсализации предписанных значений и образцов прошлого ренессансные гуманисты развивают потенции универсальности, заложенные в механизмах письменной культуры. Конструируемая ими традиция целиком ограничивается письменными текстами на «чужом» языке. Инструментальные аспекты письменной культуры, разрушительные для нормативных значений, при этом блокируются. Символическая значимость придается самим «техническим» умениям и процедурам научения им. Высоким культурным статусом наделяются носители этих умений — «ученые», владеющие знанием текстов прошлого и средствами их интерпретации. Совокупность подобных обстоятельств определяет характерную значимость проблематики языка и двуязычия, специфическую композицию значений книги, письма, чтения, перевода в кружках ренессансных гуманистов (как и в других функционально аналогичных группах, например выступающих позднее агентами аккультурации, модернизации). В этих кругах — в подражание позднеантичному воспитанию оратора (Квинтилиан) — выдвигается идея и формируется система классического образования. Ее основу составляет изучение древних языков и толкование античных текстов.
Последующие поэтики, разработка которых стимулировалась открытием и публикацией на рубеже XV–XVI вв. «Поэтики» Аристотеля, посвящены оценке и систематизации античного наследия в качестве канона для развивающихся новых литератур на народных языках. Раньше всего они возникли в Италии. Наряду с процветающим изучением Античности здесь развивалась альтернативная «народная» словесность, создаваемая конкурирующими группами. Наличие многообразных культурных ориентаций закреплялось лингвистическим многоязычием. Выработка норм наддиалектного литературного языка и канонического репертуара тем, форм, жанров и стилей словесности осознавалась классицистами как единая задача. Прецедент этому они находили у Данте. Как и у наследующих ему кодификаторов итальянской литературы и языка XVI в., volgare illustre у Данте выступает опосредующим звеном «между не подверженной тлению grammatica и ограниченным во времени, меняющимся родным языком, на котором мы говорим, совмещает в себе неизменность одного и беспрерывное изменение другого, обусловленное человеческими потребностями»[95]. Потребность в средствах сохранения «постоянства в изменении» предопределяет обращение Данте к строгим стихотворным формам, размеру и рифме в разработке образцов национальной словесности. Нормы литературного языка и определенные, интегративные средства поэтической техники выступают здесь функциональными аналогами классики.
Литературный язык и канон при этом мыслятся как обобщенные и всеобщие. Нормативное требование их «чистоты» предусматривает последовательное исключение всего «локального» (диалектизмов, специализированных языков) как из произведений, так и из суждений о литературе. Последнее особенно явно в практике первых национальных академий, создающихся именно для выработки и поддержания нормативного литературного языка. Параллельно их возникновению, связанному с формированием классицизма, создаются академии естественных наук.
В нормативной системе французского классицизма «классическое» интерпретируется уже как римское. Обращение к латинским образцам можно поставить в связь с централизацией государственной власти и имперскими претензиями Франции. Словесность приобретает в этот период репрезентативный придворный характер. Универсальная значимость классических образцов связывается с абсолютистской природой римской государственности. В Риме литература вращалась вокруг трона, с которого осуществлялось управление миром и который был в силах даровать своим певцам мировое имя. В Риме власть являлась движущим колесом, там существовала официальная государственная литература, носители которой выступали как репрезентанты идеи империи. Величайшим из всех поэтов явился Вергилий, певец мировой империи Августа, носивший лавры истинно имперской славы. Авторитетность Античности, как и в Италии, конкурирует во Франции с ориентацией на разговорный язык и «народную» словесность.
Переломным этапом явился начатый в 1687 г. спор «древних» и «новых», развернувшийся в контексте автономизации науки, роста авторитетности экспериментального знания, философской рефлексии над универсальными основаниями опыта. На первом этапе дебатируется норма «подражания древним». Идея постоянного накопления достижений, перманентного совершенствования приводит к заключению, что именно «новые» являются «древними» в сравнении с Античностью, стоящей в начале человеческого развития. Против отстаиваемого «древними» совершенства Античности «новые», апеллируя к естественным наукам, выдвигают вслед за Ф. Бэконом рационалистические постулаты универсальности разума и единства человеческой природы. «Новая философия прогресса отдала авторитет всего ставшего историей на суд критического разума, оставив при этом идеалу совершенствования человека прежнее значение, унаследованное от гуманистической традиции»[96]. Отстаивая природное равенство людей всех эпох, «новые» выдвигают против превознесения прошлого универсальные критерии хорошего вкуса — основного ориентира совершенствующегося человечества. «Древние» же указывают, что каждой эпохе присущи свои нравы, обычаи, нормы вкуса, поэтому Гомера следует оценивать по «правилам его времени». В ходе дискуссии выявляется, что «наряду c вневременным прекрасным существует также и прекрасное, обусловленное временем, рядом с „beaut universelle“ — „beau relatif“». Таким путем «постоянное расщепление классических эстетических норм вело к первому историческому пониманию античного искусства»[97]. Мышление сторонников новой философии прогресса, как и защитнико Античности, вращается в том же круге «совершенства», однако точка свершения переместилась из невозвратного прошлого в распростертое будущее. Созданный таким способом воображаемый «взгляд» будущего просвещенного человека на современную эпоху рождает необходимость создания совершенного как в настоящем, так и в будущем.
Нa этом этапе спора (конец XVII — начало XVIII в.) эрозия ренессансного идеала совершенства фиксируется в «Поэтике христианства» Жана Деморе де Сен-Сорлена, который релятивизировал нормы правдоподобия и «подражания природе». Критикуя классическую поэзию за заблуждения языческой религии, Сен-Сорлен выдвигает задачу «открыть высшее совершенство христианской религии как раз в поэтической красоте христианских сюжетов»; при этом «последним совершенством должен был оставаться Бог как творец природы и Библии, его литературного произведения»[98].
Таким образом, каждая эпоха и нация могут лишь частично воплотить идеал. Значение античной классики как абсолютной меры совершенства существенно ограничивается, осознается ценностное значение альтернативных традиций, в частности фольклора (Шарль Перро). Характерна оппозиция «нового» и «древнего» как, соответственно, христианского и языческого, а в определенных случаях — даже как «народного» и «элитарного». В декларациях и творчестве авторов, ориентированных на античные образцы, последние могут выступать как «высокие» и аристократические в противоположность христианскому как всеобщему и «вульгарному». Носители же альтернативных ориентаций апеллируют к христианскому (или национальной древности) как народному против античного как языческого и «чужого». Такова, помимо «новых» во Франции, позиция пуританских антиклассицистических групп в Англии, позднее — пиетистских кругов немецкого протестантства.
Потребность узаконить актуальные задачи через референцию к универсализированному античному наследию находит свое выражение в оппозиции «классической» формы и современного национального содержания, «духа». Эта конструкция оказалась чрезвычайно эффективной для становления национального классицизма, давая разрешение парадоксальной ситуации, когда «патриоты Античности» вместе с тем ставят задачу создания новой и, главное, национальной литературы.
Противоречие между целями и средствами классицизма разрешалось по-разному. Во Франции формирование классицизма коррелирует с централизацией государства, национальным подъемом и знаменует формирование национальной литературной традиции. В Германии классицизм оформился позднее, чем в других европейских странах, и первоначально связан с утверждением приоритета французских образцов. Это противоречие в ориентациях на «свое» и «чужое» сказалось в том числе на решении проблем нормативного литературного языка.
Мартин Опиц, а позднее Готшед в «Опыте критической поэтики для немцев» (I730) подчеркивают необходимость следовать узаконенным французскими классицистами античным образцам стиля, языка и формы как нормам «высокого вкуса», без чего искусство не может реализовать свою основную, воспитательную функцию. Все национальное, региональное, а значит, лишенное универсалистского характера всеобщего, надвременного образца считается недостойным внимания «хорошей» литературы, призванной не только услаждать, но и воспитывать, приносить пользу.
Считая, что вкус воспитуем, Готшед призывает следовать образцам прошлого, содержащим «красоту в себе». С одной стороны, утверждается социальная обусловленность вкуса, с другой — надвременность его норм и образцов. Осознавая эту антиномию, позднее в эстетике Канта, Шиллера и Гёте ставшую центральным вопросом диалектики всеобщего и единичного, Готшед находит ей рационалистическое разрешение: природа — вот основной образец, которому надлежит следовать. Греки впервые постигли разумом суть и природу вещей, разум — универсальный субстрат человеческого, поэтому греки могут быть образцом на все времена.
Референтной инстанцией для немецкого классицизма и немецких классиков выступает не имперский Рим, а «демократическая» Греция. Идеи национальной идентичности формулируются в Германии исключительно в терминах культуры. Противопоставление идеалов культуры и институтов воспитания задачам государства и структурам управления проходит через все манифесты немецких авторов этого периода.
Вслед за Францией представление о «классических авторах» в Германии расширяется и переносится на современность. Обращению Вольтера к «нашим классическим писателям» вторит Гердер, «о классических писателях нашей нации» говорит Христиан Геллерт, о «национальных классиках» — Гёте. Примечательно, что именно писатели, реализовавшие в собственном творчестве синтез новации и античной традиции, составляют основу корпуса национальной классики: «В качестве образцовой вершины национальной словесности классичность выступает характеристикой той эпохи в истории литературы, которая в каждом случае характеризуется через ее особое отношение к Античности»[99].
Гердер одним из первых выдвигает мысль об относительности значения эллинской культуры, чье совершенство определяется не универсальностью, а неповторимым своеобразием определенной исторической эпохи. Погоне классицистов за «бумажной вечностью» у него противопоставляется понятие «духа времени», перекликающееся с категорией «гения века» у Монтескьё. Дух времени концентрирует в себе индивидуальное своеобразие исторической эпохи, подражание же ему ведет к эпигонству. Для Гердера, Шиллера, Жан-Поля античная культура олицетворяет период юношества в развитии человечества с присущими этой поре блеском и ограниченностью. Гердер призывает к созданию новой классики, которая, отказавшись от рабской подражательности античным образцам, должна принести собственных эсхилов, софоклов, гомеров, вырастающих на немецкой почве и впитывающих с родным языком национальный дух. Иоганн Кристоф Аделунг теперь уже определяет классических писателей как «древних и новых авторов в той мере, в какой они связали правила прекрасного для всех с условиями их собственной нации»[100]. Исторически ограниченные, «устаревающие» компоненты классических произведений отграничиваются от значимых поныне. Попытку подобного расчленения Гердер предпринимает в 1767 г. в своих комментариях к античным авторам, отделяя «нуждающееся в толмаче» от «живого» и видя свою задачу в том, чтобы «оживить поэта, вырвав его из железных рук школьных учителей»[101].
Идеи неогуманизма в эстетической и философской мысли этого периода определили дальнейшее развитие немецкой литературы. Середина XVIII в. — «тот исторический момент, когда писатель начинает ощущать в себе глашатая общественного прогресса и видит свою задачу в том, чтобы представить человечеству его наиболее совершенный образ ‹…› меценат уже не может ожидать от художника возвеличивания его личности ‹…› искусство становится инструментом достижения гуманности»[102].
Теория эстетического воспитания Шиллера и Гёте периода веймарской классики явилась манифестом литературы, отстаивающей свою автономию. «Если теперь, в отличие от просветительской фазы, искусство уже понимается не как часть общественной практики, а противопоставляется жизненной практике как лишенная определенной цели область, то это может быть воспринято как ответ группы интеллектуалов на историческую ситуацию; классическая доктрина автономии искусства может быть истолкована как критика феномена отчуждения»[103].
Классическая теория эстетического воспитания, разработанная Шиллером, связана с актуальной исторической ситуацией. Отход Гёте от начатого им в «Геце фон Берлихингене» пути развития бюргерской драмы, где наметилась сфера пересечения интенций писателя и читательских ожиданий, сознательный отказ от ориентации на ожидания широких слоев публики — все это соответствовало внутренней логике теории эстетического воспитания. Утопический идеал цельного человека, в котором чувственное, духовное и нравственное находились бы в состоянии полной гармонии, определял представления Шиллера об идеальной публике, способной активно, продуманно и адекватно по отношению к авторским интенциям воспринимать произведение искусства и литературы. Реально же публика веймарских классиков представляла собой избранный круг ценителей и знатоков.
Так, в конце ХVIII в. «постепенно распадается просветительский институт литературы и возникает новый, в котором интерес к жизненно-практическому содержанию литературы сужается и продолжает жить уже как интерес к личности автора, в то время как литературные произведения, став автономными, высвобождаются из всех жизненно-практических связей»[104]. Произведение лишается непосредственного воздействия на читателя. Проблематичным становится соотношение норм восприятия, заложенных в самом произведении, и его исторически осуществленной рецепции. С автономизацией литературы контекст интерпретации литературных значений переносится с отдельного произведения на творчество писателя в целом. В идее «гения», вырабатывающего символы личной идентичности, фиксируется коренное изменение роли писательской субъективности в структуре литературного взаимодействия. Вместе с тем «автономизация искусства и смещение интереса публики знаменуют ‹…› начавшееся к концу ХVIII в. расслоение литературной общественности. Широкие слои читателей, отвернувшись от автономной литературы, обратились к развлекательной, которая могла принести реципиентам удовлетворение тех запросов, в которых отказывало им теперь автономное искусство, — ориентаций на практические жизненные вопросы»[105].
Вслед за демонстративным размежеванием классической и массовой литературы в концепциях классицистов романтики осуществляют дальнейшую релятивизацию нормативной авторитетности классического наследия. Они лишают классику каких бы то ни было содержательных ограничений, наделяя любой локальный образец качеством условной значимости для авторской субъективности. Подобной авторитетностью могла наделяться и массовая словесность, в ряде случаев получающая предикат «народной».
В ситуации ценностного плюрализма претензии на установление всеобщей значимости отечественной классики связываются с трактовкой немецких классических писателей в качестве символов нации. Эта традиционалистская идеологическая конструкция становится основным средством государственной культурной политики на протяжении второй половины ХIX в. В оппозиции ей выступают, c одной стороны, группы наследников гуманистической традиции, видящих в веймарской классике воплощение универсальных ценностей, а с другой — историзирующая точка зрения, подчеркивающая в классике выражение «духа своего времени». «Понятие немецкой классики возникает между 1835 и 1883 гг. из национальных чаяний. Политизированная литературная историография формирует этот национальный миф, чтобы подготовить культурно-политическое объединение Германии»[106].
Для ситуации в Германии были характерны требования культурного объединения нации при дефиците потребных для этого культурных средств (отсутствие символического центра — столицы) и при эрозии механизмов социальной интеграции общества либо при отказе политическим и другим сословно-иерархическим институтам в законном праве репрезентировать нацию. «Империя нашего народа — в подлинных классиках», — резюмирует это положение К. Политц в 1828 г.[107] Показателен возникающий в этот период национальный культ Гёте. К 1835 г. он выступает уже классиком, что символизируется публикацией его переписки с Эккерманом и др. изданиями. В «Истории немецкой поэзии» Г. Г. Гервинуса (1835–1842), выдержавшей пять изданий за тридцать лет и ставшей основным источником нормативных суждений и оценок отечественной словесности, кончина Гёте выступает высшей и конечной точкой немецкой литературы. Складывается представление об «эпохе Гёте». Гёте и Шиллер объявляются авторами, «пришедшими к идеалу, которому со времени Античности не мог подражать никто»[108]. Альтернативные идеологические оценки «надмирного эстетизма» Гёте у Берне и Гейне, противопоставление «народного поэта» Шиллера «княжескому прислужнику» Гёте в либеральных и патриотически ориентированных кругах, требование «преодоления Гёте» у Гейне игнорируются доминирующими группами, формирующими литературную традицию в качестве основы национального приоритета. К 1850-м гг. выдвинутая Гервинусом схема развития немецкой словесности становится жесткой нормой. Символическую значимость приобретает столетний юбилей Шиллера (1858), Веймар становится общенациональным культовым центром. С истечением к 1867 г. срока действия авторских прав для писателей, умерших до 1837 г., вспыхивает мода на издания немецких классиков, чья массовая авторитетность стабилизируется ко времени Франко-прусской войны: с 1871 г. «на троне восседает немецкий император, в шкафу стоят немецкие классики»[109]. Далее немецкая германистика окончательно закрепляет этот национальный миф в противовес тривиальной словесности и литературному авангарду. Последний систематически пересматривает содержательные определения классического, вместе с тем демонстрируя ценностный потенциал классики. Процессы групповой релятивизации и догматизации значений классического воспроизводятся теперь уже на отечественных образцах.
Как видно из прослеженных трансформаций, становление идеи литературной классики в новоевропейской культуре связано о формированием универсалистских, секуляризированных представлений о мире и человеке — понятий универсального разума, всеобщей природы, всемирной истории. Лишь при подобной конфигурации идей и становится возможным постулирование культурной преемственности между образцовым прошлым и современной проблематической ситуацией, когда «допускается, что настоящее может быть изменено по образцу прошлого (иди чужого) совершенства»[110]. Эти отношения устанавливаются из современной ситуации и для решения актуальных проблем ее смыслового определения. Конституируясь применительно к ценностям и интересам всякий раз иной группы установителей и толкователей традиции, классика со временем все более теряет содержательную oпределенность и становится «объективной», отвлеченной от любой предметности формой. Это позволяет прилагать ее к самым противоречивым в содержательном плане интересам и ситуациям. «Классицизм, всегда задающий себя как цель, на самом деле является лишь средством. В данной исторической ситуации он выполняет роль инструмента манипуляции культурой ‹…› при помощи воскрешаемой в памяти тени образцового прошлого»[111]. Экстраполяция групповых ценностей в прошлое дает возможность использовать классику как «средство самопонимания и саморазвития»[112].
При подобном понимании функций классики, которое само выступает результатом длительного процесса релятивизации нормативных компонентов традиции, функциональные значения классики трактуются как составные части ориентации новых культурных групп в их борьбе за признание другими. Типологизация идеологических позиций осуществляется в соответствии с временными и пространственными характеристиками выдвигаемых определений ситуации. Акцент на средствах нормативной фиксации значимости классики позволяет исследователю методологически дистанцироваться от априорных оценок и содержательных моментов, сохраняя вместе с тем возможность аналитического подключения к исследуемой традиции. Универсальность используемых пространственно-временных размерностей обеспечивает средства сравнения и генерализации эмпирических данных. Выдвигаемые типологические построения носят заведомо частичный и условный характер, предполагая для иных задач и при иных предпосылках выработку других аналитических конструкций. Практическая эффективность подобного подхода определяется возможностью для исследователя с его помощью «выработать новую точку зрения, которую нельзя получить из анализа конкретных явлений»[113]. Так, не отвергая пригодности в иных случаях оппозиций типа «классицизм — романтизм», Г.Э. фон Грюнебаум для своих задач предлагает интерпретировать ориентацию романтиков на архаику, «народное» Средневековье и фольклор как частный случай «ортогенетического классицизма»[114].
Упорядочивая обширный культурно-исторический материал, Грюнебаум противопоставляет регрессивный и динамический классицизм. Консервативные ориентации кодифицирующих группировок выявляются в многообразных предприятиях по «стабилизации достигнутого» — отграничению области бесспорно авторитетного, нормативного и потому не подлежащего рационализации. Такова практика кодификации греческого наследия в эллинистическом Риме II–III вв., отношение к Античности в период Ренессанса ХII в. Чаще всего подобные усилия предпринимаются как «средство удержания культуры, которая кажется ускользающей»[115].
Типологически иная функциональная ориентация выявляется исследователем в случаях, когда классика трактуется как «средство достижения самостилизации»[116]. Подобная характеристика охватывает широкий круг культурных самоопределений тех групп, в манифестах и практике которых «устремления, характерные для прошлой или чужой культуры, принимаются как образцовые и обязательные для настоящего»[117].
Такого рода ориентации на авторитетное прошлое и практика конструирования проблематического настоящего по его подобию обычно и обозначаются понятием «классицизм», хотя отнюдь не покрываются им. В более общем плане они связаны с ситуациями культурного перехода или ускоренного социального развития и находят выражение в самосознании групп, проблематизирующих эти процессы и узаконивающих свою позицию в форме претензий на их осмысление, на выработку авторитетных символов идентичности нации, народа, культуры. Подобная идеологическая проекция прошлого как основа группового самоопределения при утрате «непосредственного» владения традицией выдвигается кружками ренессансных гуманистов. «Гуманизм Возрождения освобождался от оков средневековой церкви, чтобы пойти в добровольное рабство к древности. Гуманисты XV в., недостаточно сильные перед лицом традиции, чтобы настаивать на аксиоматичной или абсолютной ценности своих устремлений, оказались вынужденными ссылаться на классиков ‹…› для подтверждения и легитимации своих аргументов и своего взгляда на жизнь»[118].
В период становления национальных государств и культурного самоопределения наций универсализированная классика (и прежде всего античная) из объекта имитации превращается во «всеобъемлющий стандарт научных, литературных, художественных и философских достижений, кроме того, в руководство по индивидуальному и коллективному существованию и, наконец, в средство возвышения народной культуры своего времени до уровня вечной идеальности»[119]. Через отнесение к ценностным образцам прошлого подобные группы задают структуру не только актуальной литературной культуры, но и культуры в целом. Применительно к литературе конструируется получающий свою авторитетность от ценностей прошлого репертуар жанров, форм и тем, средств упорядочения текстовых значений (пространство, время, конструкция «героя» и структура его мотивации, суммируемые в «правиле трех единств»), собственно экспрессивно-технических средств (метафорика, ритмика). Соответствующие культурные образцы уже в качестве компонентов ориентации авторов и интерпретаторов текстов инкорпорируются в ролевой структуре литературной системы, образуя совокупность согласованных взаимных ожиданий ее агентов.
Ориентации на классических авторов выступают в виде требований подражания им, а впоследствии — соревнования с ними и выявляются исследователем в таких маркировках, как «наши классики», «отечественный Гомер» (или Вергилий). Универсализация образцов ведет к формированию представлений об абстрагированных правилах классической литературы и, соответственно, гарантах правильности актуального литературного построения и адекватности его понимания. Они предъявляются как обобщенные нормы упорядочения эстетических компонентов в соответствии с классическим «духом», «вкусом», «манерой» (подражание тому или иному автору или произведению расценивается при этом как «рабское», «нетворческое»). Далее подобные оценочные формы преобразуются в предельно тематически пустые критерии «гармоничности», «меры».
В подобных так или иначе универсализированных значениях фиксируется культурная дистанция по отношению к авторитетному прошлому. Установление «естественной» преемственности становится все более проблематичным. Представителями регрессивного классицизма, видящими свою задачу в «уменьшении сложности культуры»[120], это обстоятельство резюмируется в требованиях консервации классического наследия. Напротив, литературные группы, ориентированные на новацию, выдвигают приоритет современных авторов, писателей недавнего прошлого либо же представителей иной, неклассической, неантичной традиции («своей» против универсальной и потому «чужой», либо наоборот). В европейской культуре подобная ситуация «разрывов» в едином пространстве и во времени принимает вид уже упомянутого «спора древних и новых» авторов, «битвы книг», типологически близкого конфликта «классиков» и «романтиков», а позднее — «модернизма» и «академизма». Тем самым демонстрируется ограниченная эффективность чисто нормативных способов регуляции литературного взаимодействия. Наряду с ними выдвигаются иные регулятивы и инстанции — ценности в их субъективной значимости.
Последние закрепляются в актуальных значениях заново переосмысляемой после романтиков Бодлером и ключевой для социального института литературы категории «современного» или «новейшего» («moderne»). Переструктурирование культурного пространства и времени и содержательно различная, но всякий раз дифференцированная оценка тех или иных его сегментов — эпох, народов, «Севера» и «Юга» и др. — являются для исследователя индикатором процессов дифференциации литературной системы. В ней выдвигаются новые, претендующие на авторитетность группы, возникают альтернативные, собственно культурные позиции, точки зрения. В этих спорах с окончательностью определяется ценностный модус существования классики, поскольку ориентация на классические образцы теперь уже выступает лишь одной из возможных. Дифференцируется и представление об Античности, в которой выделяются «эпохи» архаики, классики, упадка. Соответственно историзируются и нормативные определения отечественных классиков. Ценностный потенциал классики разворачивается в серии противопоставлений, конституирующих ее всякий раз в иной содержательной перспективе. Классическое выступает противоположностью романтического, современного, популярного, барочного, маньеристского, примитивного, тривиального и т. д. — всех альтернативных групповых определений литературного качества. Однако ценность классики значима при этом для любых полярных точек зрения, носители которых пользуются общей рамкой отсчета, действуют в пределах одной литературной (культурной) системы: «Хотя одна сторона усматривала упадок в том, в чем другая видела прогресс, обе апеллировали к одним и тем же стандартам правильности»[121]. Тем самым классика, хотя бы и в нормативно смягченной форме «традиции», остается гарантом конвенциональной целостности и устойчивости литературной системы, которая интегрирована относительно значений, квалифицируемых и поддерживаемых как центральные, ядерные.
Логическое завершение оппозиция «прошлого» и «современного» находит в выдвижении идеи и формировании корпуса национальной и новейшей классики группами, ориентированными на синтез классических образцов с актуальными интересами и ставящими своей задачей выработку «символов этнического самосознания»[122] в ходе становления национальных государств. В классическом разводятся значения ценностного масштаба и относительных, ограниченных временем и местом манифестаций ценности. Подобное проективное образование позволяет каждый раз представлять соответствующим образом конструируемую историю направленным, упорядоченным и осмысленным целым, устанавливая перманентную связь между традиционными и новыми значениями в литературной культуре и осуществляя их «перевод друг на друга». Описанная синтетическая конструкция оказывается эффективным механизмом самоопределения в условиях социокультурных изменений, основным средством их символизации и осмысления (а тем самым и контроля) в практике захваченных этими изменениями групп. Последующая рефлексия над актуальными значениями классического резюмируется литературными группами, специфически ориентированными на соединение новаций и традиции, в форме императивных требований «будущих» классиков национальной словесности.
Перенесенная из прошлого в будущее классика меняет свою модальность фактичности на модальность долженствования. Если в первом случае она значима, потому что осуществилась, то во втором — поскольку ей надлежит быть. Инстанцией определения реальности и установления целостности литературы (и культуры) выступает содержательно неопределенная область будущего. Она не может и не должна быть определена кроме как формально, поскольку является лишь гипотетической возможностью узаконения групповых ценностей настоящего, для которых резервируется будущее, опознаваемое тем не менее в терминах прошлого. Но и авторитетность прошедшего соответственно логике утопического проектирования не удостоверена ничем, кроме его проблематической в содержательном плане ценности для будущего. Посредством подобной тавтологической конструкции в форме «естественной» временной последовательности задается актуально необходимое единство литературы и культуры в целом. Более того, определяются векторные характеристики их развития, которое обеспечит потребные группе инновации и гарантирует их преемственность по отношению к традициям. Установление этой подвижной, регулируемой лишь ценностями настоящего корреляции между прошлым и будущим дает возможность носителям интегристской идеологии по необходимости переинтерпретировать сами представления об искомой целостности нации, литературы, культуры, равно как и корректировать прошлое в избранной перспективе. В качестве примера подобной коррекции Г.Э. фон Грюнебаум приводит «современный национализм», который «стремится так изменить само понятие общности, что предшествовавшая культура принимается как обязательный прецедент»[123]. Классика преобразуется либо в «средство оправдания изменений», либо в «средство, чтобы подготовить почву для постановки целей, дать критерий самооценки»[124].
Сказанное дополняется у Г.Э. фон Грюнебаума различением орто- и гетерогенных критериев выбора авторитетных образцов различными традиционализирующими группами. В первом случае значимостью наделяются образцы культуры, полагаемой как «своя» (такова роль эпохи «праведных халифов» для исламского мира, Греции для Рима, Античности для Ренессанса). Границы культурной идентичности здесь вполне фикциональны. Однако постулируемое наличие отношений «прямого» наследия позволяет выдвигающимся группам представлять свою деятельность в «понятных» для традиционной культуры терминах «восстановления» структуры авторитетов прошлого (и соответственно социума и культуры в целом), подвергшейся или подвергающейся временной эрозии. В случае же «гетерогенного классицизма» (персидская культура в мусульманской Турции, китайская культура в Японии, роль Индии в культурах Юго-Восточной Азии) границы культурной идентичности устанавливаются как бы извне собственной нормативно предписанной и «естественной» среды. Группы, заимствующие авторитетность самоопределения из «чужой» культуры, полагают последнюю в том или ином значимом отношении совершенной и постулируют отсутствие в местных условиях «соперничающей культуры сопоставимого уровня развития»[125].
Однако собственное прошлое, оцениваемое в терминах чужой культуры (точнее, в рамках возникающих у определенных групп и выносимых «вовне» представлений о должном) как более низкое, при подобном сопоставлении отчасти теряет предписанный, нормативный характер. Оно, как и настоящее в апелляциях к будущему, оформляется с «чужой» точки зрения в структурное целое, собственно «культуру». Обретая таким образом смысловую упорядоченность как символическое воплощение ценности, что предполагает выбор ценностной позиции, эта совокупность значений «своей» культуры может быть далее использована новыми традиционализирующими группами с иными содержательными интересами при их апелляциях к «своему» наследию (таково самоопределение романтиков после классицистской практики). Национальный культурный субстрат формируется здесь из «чужой» культурной перспективы. Он, как и область «чужого», конструируется для разрешения проблематической актуальной ситуации и выдвигается в качестве средства взаимопонимания группами, которые ставят задачу «превратить традиционное самосознание в общечеловеческое»[126].
Конструированная традиция в форме классики выступила ценностно-нормативным образованием, с помощью которого на рубеже ХVIII–XIX вв. была установлена структура литературы как автономного социального института в его основных ролях (писатель, критик, издатель, читатель и т. д.). Последующее снятие содержательных ограничений с оценочных форм классического можно продемонстрировать в аналитической перспективе любого из этих ролевых образований. В частности, это относится к трансформации норм оценки и техник истолкования классических текстов в практике интерпретатора-литературоведа.
Универсальная значимость классики, как и нормативность значений классического, предполагает выработку и закрепление канонов интерпретации классических текстов, а далее — нормативную кодификацию обобщенных процедур подобного истолкования. Однако деятельность по ретроспективному конструированию традиции, неизменной в своей значимости и значениях, сама указывает на эрозию предписанной авторитетности прошлого. Более того, рационализация смысловых оснований «правильного» литературного поведения выступает, в свою очередь, процессом, подрывающим нормативные авторитеты. Классика становится необходимой в условиях дифференцирующейся литературной системы, в которых она и формируется. На этом «идеальном» объекте процессы плюрализации в первую очередь и выявляются, что далее подвергает соответствующим изменениям интерпретативную практику.
Уже на начальных этапах систематизации античного словесного наследия наряду с позицией нормативных кодификаторов складывается практика истолкования образцовых текстов, имеющая целью адаптировать их к меняющимся определениям социокультурной ситуации. Канон последовательно лишается своей содержательной определенности, все более универсализируясь до символического образования, значимого в модусе условности и предполагающего «переносную» смысловую интерпретацию. Классический текст, самой этой квалификацией изъятый из ситуативной обусловленности его семантики и экспрессивных средств, рефлексивно расчлененный на семантические и технические аспекты, преобразуется в моральную аллегорию, значимый прообраз, под который в процессе истолкования подводятся те иди иные актуальные значения. Наряду с этим он может выступать риторическим примером — совокупностью средств, наилучшим образом примененных для некоторой обобщенной цели и эффективных в позднейших «аналогичных» ситуациях. Ф. Кермоуд называет подобную трактовку «аккомодацией» и видит в ней «метод, о помощью которого древнему тексту может быть придано значение, которого он не выражал в явном виде»[127]. Фундаментальной предпосылкой такого подхода является регулятивная максима о том, что автор — современник интерпретатора. Аккомодации подвергается греческая словесность (прежде всего Гомер) в интерпретациях античных неоплатоников, а впоследствии — христианских истолкователей.
Нормативная же кодификация и истолкование считают необходимым установление того, «что классическое произведение значило для автора и его лучших читателей»[128]. Текст наделяется при этом характеристиками самодостаточности: предполагается, что он однозначен (семантически однороден) и дан как таковой, поэтому истолкование должно и может осуществляться «из него самого».
Носители обеих этих точек зрения, сохраняющихся как типологические «предельные» позиции в культуре Нового времени, исходят из необсуждаемого, «самоочевидного» отсутствия культурной дистанции между автором и интерпретатором. Они нормативно постулируют наличие единой культуры, внеположной истории. Подобным образом понимаемая культура совпадает в своих границах со смысловыми основаниями деятельности группы интерпретаторов, организованной вокруг истолкования письменных текстов, которые отобраны и оценены в виде авторитетной традиции. Беспредпосылочное истолкование ведется либо в модусе вневременности, либо в горизонте современности, причем обе эти инстанции для интерпретатора непроблематичны.
Процедура адаптации, заданной лишь актуальными интересами интерпретатора, игнорирует культурный характер литературной семантики, делая излишними в структуре объяснения сами понятия литературы и культуры (типологически указанная позиция имеет своим пределом трактовку литературы как средства массовой коммуникации). Тем самым лишается структурной определенности социальная система литературы, утрачивается и автономность объекта истолкования — текста. Эти же потенции содержатся в постулате адекватной интерпретации. И здесь литературные значения предполагаются однородными, поэтому понятия литературы и культуры могут быть полностью покрыты категорией традиции в социологическом или этнологическом смысле, то есть так, как она употребляется применительно к традиционным обществам.
С другой стороны, постулат интерпретации, адекватной автору, его образцовым читателям или «самому тексту», приходит в противоречие с максимой актуальности классического наследия, в принципе неисчерпаемого. Поэтому интерпретатор, действующий в современной плюралистической ситуации, но все же отождествляющий себя с той или иной позицией в рамках литературной системы, «вынужден день ото дня разрешать для себя парадокс, состоящий в том, что классическое произведение меняется и вместе с тем сохраняет идентичность. Оно не читалось и тем самым не было бы классическим, если бы мы не могли уверить себя, что оно в состоянии сказать больше, нежели имел в виду его автор»[129].
Тем самым любое отдельное истолкование классического текста выступает как все более проблематичное, условное по своей модальности и сосуществующее с другими столь же частичными интерпретациями. Ф. Кермоуд описывает это умножение истолковательских позиций по аналогии с процессом секуляризации. Пользуясь понятиями феноменологической социологии религии П. Бергера и Т. Лукмана, он усматривает здесь ограничение значимости фундаменталистских представлений о реальности, нормативно определенной и упорядоченной на едином основании. Умножение ценностных, субъективно значимых критериев определения действительности в практике групп, конкурирующих за культурный авторитет, конституирует литературу и классику в их современных функциональных значениях. «Классика ‹…› была секуляризована в ходе процессов, определивших ее статус совокупности литературных текстов; и этот же процесс привел к ее неизбежной плюрализации, а точнее, вынудил нас признать ее неотъемлемую плюралистичность»[130].
Гетерогенность критериев определения реальности и связанная с ней значимость субъективных принципов организации смысловых оснований поведения ограничивают любые групповые претензии на адекватность тотального исчерпания текста, догматически постулируемого в качестве онтологической данности. «Этот плюрализм заключает в себе отрицание авторитетного или, лучше сказать, авторитарного прочтения, которое настаивает на тождестве с намерениями автора либо на согласованности с прочтениями его современников»[131]. Проблемой теперь становятся способ данности текста интерпретатору и методы удержания его в качестве конвенционального смыслового единства, которые определяют частичную релевантность проведенного истолкования и гарантируют его от «субъективного произвола». В центр проблематики интерпретации выдвигаются те условные инстанции (знаниевые конструкции), которые могут быть использованы в качестве средств установления смысловой связности текста. Такой конструкцией, в частности, является «читатель». «Современная классика и современный способ прочтения классики не могут быть отделены друг от друга»[132]. В этом усматривается конститутивная черта современной ситуации интерпретатора. «Мы пришли к современной классике, открытой для прочтений, которые стимулируются неспособностью каждого из них дать окончательное обоснование самих себя. Если от древней классики ждали ответов, то нынешняя вызывает бесконечный ряд вопросов»[133]. Поэтому задача интерпретатора состоит в конструировании, предъявлении и контроле той частичной перспективы, в которой становится инструментально возможным согласование текстовых значений, то есть связность их истолкования.
Одним из таких средств является обращение к исторически конкретным группам интерпретаторов или читателей, выдвигающим то или иное понимание данного текста, — исторические исследования читательской рецепции или литературного воздействия. Наряду с этим, условием ограниченной достоверности истолкования может быть последовательная экспликация интерпретатором своих содержательных интересов, исторической ситуации и герменевтических предпосылок истолкования, что обеспечивает оценку адекватности примененных средств.
Если иметь в виду лишь текст, не выходя на уровень общекультурных ценностей, которые посредством его конституируются, интерпретатор располагает здесь набором типологических конструкций, в которых он для своих содержательных интересов методологически «очищает» отобранный им эмпирический материал — внутритекстовые способы организации семантики произведения. Таковы конструкции условного читателя и автора, общекультурные нормы пространственного и временного упорядочения литературных значений, типы мотивации героев. К ним относятся и те компоненты текста, которые Кермоуд называет «ключевыми значениями»: они устанавливаются истолкователем в тексте и «редуцируют порядок возможных интерпретаций»[134]. «Они заставляют обратить внимание на литературность читаемого ‹…› прежде всего они определяют границы той литературной системы, постоянных отношений к которой не устанавливается у читателей с интересами и ожиданиями, изменившимися за истекшее время»[135]. Подобными интеграторами гетерогенной семантики текста для интерпретатора могут выступать внутритекстовые маркировки жанра, стиля, направления, различные компоненты повествования, наделяемые в ходе развертывания текста или его интерпретации статусом кодов, значений более «высокого», обобщающего уровня, — лейтмотивы, значимые имена, символические детали, шифрованные «тексты в тексте», истолкование которых организует само развертывание повествования как смыслового целого (например, письма героев либо их предметные эквиваленты).
Такова же функция литературного «типа» — смыслового образования, которое гарантирует связность текстовых значений и структур объяснения, обеспечивая возможность истолкования текста в категориях смыслового действия и читательскую идентификацию. Ф. Кермоуд демонстрирует значимость понятия «тип» для самоопределения групп американских литераторов, ищущих средств для символической артикуляции проблем культурной идентичности и, соответственно, преемственности в рамках общества, демонстративно порывающего с «прошлым» и «чужим». В подобной «безосновной» ситуации проблематика идентичности кодируется в инструментализированных категориях наследственности. Просвещенческая идея культуры как культивации индивида трансформируется в метафизику биологической селекции либо, напротив, вырождения. Ф. Кермоуд реконструирует исторические обстоятельства выработки и принятия этого инструментального символизма в Америке XIX в., прослеживая соответствующие мотивы в тематике и поэтике романов Н. Готорна и используя их в качестве средства установления конвенциональной целостности текста при его истолковании.
Чаще же всего роль подобных «рамочных» конструкций, конституирующих литературную реальность произведения, выполняют компоненты классических текстов (эпиграфы, цитаты, аллюзии) либо их функциональные субституты (архаизмы, элементы высокого стиля). Операциональный признак, позволяющий вычленять подобные образования, состоит в их особо отмеченном для интерпретатора или реципиента характере. Они выступают как отклонения от нормы текста — языковой, стилистической или иной, которой реципиент или интерпретатор, как предполагается, владеет или которую он задает. Отмеченная принадлежность к традиции не позволяет квалифицировать их как «невольное» нарушение нормы («безграмотность», «безвкусицу», «китч»). Напротив, в этой вненормности усматривается указание на заимствованный от «высокой» литературы прошлого качественно иной сравнительно с остальными значениями модус внутритекстового существования — модус ценности или обобщенной нормы литературного качества. Последнее сигнализируется изменением модальности повествования, в которой таким образом наращиваются и иерархизируются уровни «реальности» и «условности».
Тем самым классика из содержательного единства общепризнанных литературных значений становится методическим средством интерпретации — гарантом условной адекватности проведенного объяснения. Поскольку предложенная интерпретация позволяет установить корреляцию примененных средств с содержательными задачами и предпосылками интерпретатора, выдвинутую смысловую перспективу можно оценить в терминах ее методической и методологической обоснованности. Возможность контролируемой рефлексии над основаниями процедуры, ее интерсубъективной проверки и коррекции указывает на принадлежность исследователя к специализированному институту науки, в рамках которого действуют ценности и нормы универсалистской культуры. Компоненты объяснения, для которых эта корреляция не устанавливается, свидетельствуют, что интерпретатор репрезентирует ту или иную группу носителей содержательных представлений о литературе, классике, ее функциях. Анализ семантики подобных «остатков» в терминах социологии знания раскрывает символическое значение примененных истолкователем средств для поддержания данных групповых определений.
С дифференциацией социальных позиций и культурных точек зрения в рамках института литературы представления о каноне классики как нормативном единстве литературных значений, правил их интерпретации и т. п. отнюдь не исчезают. Они локализуются в тех звеньях литературной системы, которые берут на себя функции поддержания и воспроизводства ядерных, конституирующих ее значений. Таковы институты общей социализации, системы литературного обучения, критики и рецензирования, а также соответствующие подсистемы в библиотеках (рекомендательная библиография, руководство чтением), в средствах массовой коммуникации, ориентированные на функции такого рода. Особенно значимыми подобные компоненты литературной культуры становятся в обстоятельствах, когда классика приравнивается к литературе как таковой, а литература выступает субститутом культуры в целом. Для подобных ситуаций характерны литературоцентризм образовательной системы, акцент на социализаторской роли литературы. Авторитетность групп носителей нормативных представлений о классике при этом особенно высока.
Показательно, что само формирование идеи классики (как и идеи литературы) связано с автономизацией социализирующих функций и институтов в рамках социокультурной структуры общества — со становлением идеологии секулярного образования, возникновением системы светских университетов и школ. Авторы, ориентирующиеся на классические образцы, нередко апеллируют к авторитетности институтов образования, выступают с разработками педагогических идей в виде учебных программ, воспитательных проектов, пособий по изучению литературы, хрестоматий. Включая в свое самоопределение компоненты просветительской идеологии, многие из них становятся инициаторами воспитательных изданий для детей и «народа». В Англии программу образования, базирующегося на произведениях, имеющих авторитет классики, выдвигает Мильтон. Сходные интенции реализуются в просветительских проектах немецких авторов, адаптирующих классические образцы при кодификации национальной культуры в категориях, претендующих на общезначимость (И. Г. Гаман, Ф. Шиллер). С другой стороны, светское школьное образование, по крайней мере до XIX в., организуется вокруг античной классики: классические авторы еще для Дидро — это «авторы, которых изъясняют в школах». Классический и классицистический репертуар составляет основу деятельности школьных театров, в частности в учебных заведениях иезуитов, деятельность которых во многом способствовала становлению системы классического образования во Франции (позднее, в ХVIII в., иезуиты были одной из основных групп, выступавших против массового распространения романа как жанра).
Общей предпосылкой подобных устремлений выступает процесс универсализации значений литературы и искусства в качестве образцов «всеобщего» и «вечного», противостоящего в этом смысле злобе дня и требованиям ситуации. Эти ценности находят символическое воплощение в идеальной проекции «целостного человека» — литературно образованной, гармонической личности аристократа, которому противополагается «специализированный педантизм бюргера»[136]. Указанная альтернатива восходит — через ценностный образец «идеального придворного» — к кружкам ренессансных гуманистов, в свою очередь адаптировавших для самообоснования античную антитезу содержательного, праздного (и праздничного) досуга свободного философа повседневному труду подневольного раба. В литературе представления такого рода выдвигались «придворным классицизмом» во Франции и в Германии. В школе они были положены в основу «классического» образования и систематически актуализируются всякий раз, как его функциональное значение и авторитетность классики подвергаются проблематизации. Так, Ф. Ливис видит в университете «творческий центр цивилизации», а в литературно ориентированном университетском образовании «джентльмена» — противодействие инструментальному «американизму»[137]. Сходные интенции формулируются в педагогических проектах общего образования у Т. С. Элиота[138].
В рамках школьного образования классические произведения включаются в процессы общей социализации — усвоения индивидом норм правильного поведения, которые постулируются в качестве конститутивных для данного сообщества. При этом условной проблематизации (а тем самым — контролированию) подвергаются прежде всего нормативные аспекты средств, с помощью которых в обществе реализуются ценности или достигаются цели. Сами по себе ценности и цели, основания их значимости полагаются общепринятыми и непроблематичными. В этом смысле классическая литература, адаптируемая школой, особенно начальной, функционально сближается с «массовой» социализирующей словесностью («книгами для девочек» и т. п.), что указывает на относительность фундаментального для литературной культуры противопоставления «классического» и «массового». С позиций функциональной эстетики, на которой, по мнению М. Дарендорфа, должна основываться литературная оценка произведений в шкоде, тривиальная литература так же значима для процесса социализации, как и высокая: «…если рассматривать тривиальную литературу функционально, то становится ясно, что „образованный“ ищет в своей литературе, так же как „менее образованный“ — в „своей“ ‹…› удовольствие и радость, только на иной литературной ступени, что он приобретает такой же опыт, который образуется в результате столь негативно оцениваемого им способа потребления литературы низшими слоями, — опыт утверждения и интеграции»[139]. Показательно, что эмпирические исследования выявляют содержательную близость авторитарных образцов социализации к половым и возрастным ролям, стандартам национальной принадлежности и др., передаваемым этими различными по культурному статусу каналами.
С другой стороны, классика выступает практически единственным средством собственно литературной социализации — усвоения ядерных значений литературной культуры и установленных способов оперирования ими (норм рецепции, оценки и обсуждения литературы). При этом систематически практикуется отчленение семантики образца от техники ее эстетического конституирования, вообще характерное для процессов институционального обучения. Отношение к классическим текстам в школе существенно инструментализируется, сводясь к владению техникой их анализа. Значимость собственно инструментальных аспектов взаимодействия по поводу литературы — навыков анализа литературного построения — соответственно повышается. Однако последствия инструментализации смысловых оснований культурного взаимодействия, которые могли бы стать разрушительными для литературной системы, особым образом регулируются. Для этого техническим средствам оперирования элементами текста придается символический модус ценностных значений, конститутивных для социального института литературы в целом, то есть их обязательность поддерживается авторитетностью последнего. Она же, в свою очередь, базируется, в частности, на том, что иных столь же разработанных, фиксированных и признанных средств обсуждения литературы за пределами данного социального института как бы нет (как игнорируется в подобных представлениях и наличие иной, неклассической литературы).
Наконец, в современной ситуации на материале литературы, прежде всего школьной классики, осуществляется научение фундаментальным языковым формам конституции смыслового мира, с помощью которых индивидуальный опыт кодируется в общезначимых категориях культуры. Иного правомочного «языка» обсуждения литературы, так же как никаких средств для интерпретации «другой» литературы, при этом не существует. Однако принятый способ обсуждения литературы осознается читателями как школьный, пригодный лишь для заданного круга ситуаций и для определенной литературы, причем и сама эта литература, и язык ее анализа ощущаются ими как «чужие». В исследованиях, ориентированных на нормативные определения литературы, это обстоятельство фиксируется как «неразвитость» мотивов выбора, критериев оценки, типа восприятия у массового читателя.
Как показывают эмпирические исследования, школьные программы по литературе, включающие на нынешнем этапе не более 1 % всей наличной словесности, приходят во все большее противоречие с peaльными ориентациями и кругом чтения подростков и молодежи. С одной стороны, в ходе социализации закладывается стандартизированный набор общепризнанных авторов. Он и выступает при массовых опросах читателей свидетельством их начитанности — нормой правильного поведения, которого, как они полагают, ждет от них «образованный» интервьюер. С другой стороны, в круг реального чтения и в систему читательских предпочтений классика практически не входит, поскольку крайне редко принимается молодежью в качестве образца социализации. Основных героев для подражания читатели-школьники находят, по их признанию, главным образом во внеклассном чтении, в журналах, в передачах телевидения (напротив, реже всего молодежи удается найти их в книгах, которые проходят в школе). Инструментализм и нормативность трактовки литературы в школе блокируют обращение читателей к классике во внеучебных ситуациях. Это же обстоятельство повышает для учащихся групповую, возрастную, поколенческую значимость семантики, не проблематизируемой в школе, и ведет к тому, что в процессах выбора, рецепции и оценки книг у них преобладают чисто аффективные моменты. Указывая, чт в печати или СМК на них эмоционально действует больше всего, школьники гораздо чаще называют внеклассное чтение, журналы и телепередачи[140].
Литературоцентристская дидактика, диктующая жесткие нормы оценки и интерпретации высокой литературы, создает для нее, как отмечает Дарендорф, исключительные условия, что снижает эффективность литературной социализации, ведя к расхождению мышления и действия. Главным при чтении является усвоение определенных содержаний, которые воспринимаются реципиентами с позиций, определенных интересами и знаниями различного уровня, и упорядочение которых вне процесса рецепции невозможно, поскольку литературная ценность — это всегда ценность для кого-то. «Литературная оценка не должна пониматься узко — как эстетическая оценка в традиционном смысле; оценка, эстетика и характер ожиданий взаимосвязаны; существуют различные уровни оценки; эстетическая — лишь одна из них»[141].
Сам факт существования интерпретации — свидетельство того, что литература есть специфическая форма организации жизненных ценностей. Поскольку они должны вновь перейти к «реципиенту в форме как эстетического, так и жизненного опыта, оценку и интерпретацию литературного текста надлежит рассматривать в связи с их социализирующими аспектами»[142]. Литература для юношества — попытка ответить на жизненные и читательские потребности молодого человека, поэтому вовлечение ее в литературное воспитание дало бы возможность уйти от соблазна «дематериализующей поэзии» (то есть литературы, автономной по отношению к обыденной жизни, какой ее хотел видеть Шиллер) и тем самым умерить оппозицию детей высокой культуре. Содержательное опустошение понятия классики для читателей, отсутствие навыков интерпретации, подавляемых жесткой нормативностью суждений, приводит к тому, что рецепция образцов классической литературы приближается к восприятию развлекательной словесности. Х.-Р. Яусс отмечает, что представляющаяся очевидной классическая форма шедевров литературы и «их кажущееся бесспорным „вечное содержание“ ставят их в опасную близость с беспрепятственно убеждающим, наслаждающим „кулинарным“ искусством, и поэтому требуется особое усилие, чтобы, победив привычные представления, вновь восстановить их художественный характер»[143].
Вместе с тем сама способность системы классически ориентированного обучения сопротивляться литературным инновациям весьма относительна. Французские социологи Тьесс и Матьё демонстрируют это на изменении содержательного состава школьных программ во Франции после 1890 г.[144] К началу исследуемого ими периода система обучения была разделена на подсистему общего (прежде всего литературного) и специального образования, включавшего изучение естественных наук, экономики. В основу литературной социализации в школах того и другого типа была положена классическая словесность, античная и отчасти — отечественная ХVII в. На этой базе велось научение языку, письму, просодии, риторике. Областью, чуткой к инновации, оказалась сфера, не имевшая собственной традиции и не ограниченная инструментализмом основных усваиваемых ориентаций, — «школы для девочек», организованные в 1880 г. В силу принятых в буржуазной среде представлений о неспециализированности женских социальных ролей обучение здесь сосредоточивалось в большей мере на формировании аффективных моментов ориентации. Основу составляло преподавание родного языка и литературы, причем литературы не только ХVII, но и ХVIII–XIX вв. (объем последней возрастает постепенно и в мужских школах, но блее низкими темпами). Доля авторов XIX в. в общем объеме преподаваемой в 1890–1914 гг. литературы возрастает в женских школах с 0 до 30 %, в мужских же — до 20 % (у девочек она достигает предела — 40 % — уже в 1905 г., тогда как в мужских школах тот же уровень наблюдается лишь в 1911 г.). Доля писателей ХVIII в. снижается соответственно со 100 % до 30 и 21 %. Творчество В. Гюго начинает изучаться в прогpaммах женских школ уже в 1894 г., через девять лет после смерти писателя.
Относительное обновление канонического состава преподаваемой литературы демонстрируют изменения в жанровой иерархии. Это касается, во-первых, романа — построения сравнительно нового и маргинального для классикоцентристской литературной системы и, во-вторых, традиционного жанра эссе — образования, во многом сохраняющего свою связь с античной риторикой. Если доля романов в программах 1890–1914 гг. составляет в среднем 7,5 % (драма — 25 %, эссе — 33 %), то в 1956–1980 гг. роман уже занимает ведущее место в иерархии преподаваемых жанров — 32,7 % (драма — 19,8 %, эссе — 14,9 %). Узаконение романа в школе практически одновременно с признанием его «кризиса» или «конца» в авангардной литературе.
Тем не менее ограничение значимости нормативных образцов в системе школьной социализации подлежит достаточно жесткому контролю и блокируется общим функциональным значением этой сферы. Литература и институты ее толкования выступают закрытым и автономным универсумом. Отношение к классическим писателям как символическим фигурам производителей признанных образцов исключает сколько-нибудь проблематические и внелитературные аспекты их творчества и биографии — исторические условия создания и рецепции текстов, проблемы книгоиздания и книжного рынка, экономического положения, карьеры и признания авторов. Из школы практически вытеснены средства рефлексии по поводу самой системы литературной социализации и соответствующий эмпирический материал, поэтому задаваемые значения литературы беспрепятственно проецируются на ее историю. Они определяют набор преподаваемых авторов. Так, по «моральным» соображениям Ф. Рабле отсутствовал в школьных программах 1890–1914 гг., а Шодерло де Лакло — вплоть до 1980 г. Ими же диктуется отбор изучаемых произведений, причем тексты замещаются фрагментами, все наследие автора — той или иной его частью. Жан Расин, например, изучается как поэт, а не как драматург, Boльтер — лишь как автор философских сказок. Принятыми критериями литературности ограничивается также набор категорий и процедур анализа текстов.
История литературы в школе выстраивается лишь через общепризнанные классические тексты, что ведет к фактическому устранению историчности из определений, оценок и интерпретации литературы. Система литературной социализации как репродуктивное звено литературной системы практически работает на самообоснование. Она поддерживает нормативные границы групповой идентичности хранителей и толкователей традиции, базирующейся на классике.
1982
Классическое, элитарное, массовое: начала дифференциации и механизмы внутренней динамики в системе литературы
Задачи следующей ниже работы — социологические и при этом прежде всего теоретические; в теоретических категориях социологии — социологии культуры, знания, идеологии — рассматривает она и свой предмет. Если говорить предельно обобщенно и очень схематично, речь дальше пойдет о европейской, шире — о западной идее литературы (хотя никаких иных в мировой истории, кажется, и нет). Вернее, о системе или связи соответствующих идей в том виде, в каком они оформились в творческой практике и манифестах романтиков, а затем дифференцировались, развивались, трансформировались на протяжении ста с лишним лет вплоть до «гибели богов», отмеченной сознанием европейских интеллектуалов на рубеже столетий, и «восстания масс», зафиксированного ими же в первые десятилетия уже XX в. В этом плане общую, собственно социологическую проблематику статьи точнее всего обозначить как роль идей в становлении социальных институтов современного (модерного) общества — после трудов Макса Вебера такая постановка вопроса для социальных наук, можно сказать, традиционна. В данном конкретном случае названная совокупность проблем прослеживается, с одной стороны, на материале института литературы, а с другой — применительно к принципу субъективности, антропологическому первоэлементу, вокруг которого и кристаллизуются в Новейшее время семантические признаки «литературы».
Исходное для романтизма представление о самостоятельной и самодостаточной ценности слова, будь то как наиболее адекватной формы смыслового выражения, озарения, прозрения, будь то как наиболее верного отражения мира, жизни, человека в их внутренней противоречивости и цельности («светоча» или «зерцала», по известной формуле Мейера Г. Абрамса[145]), — один из решающих моментов в становлении социального института литературы, в достижении им культурной автономии и независимой авторитетности[146]. Этот процесс разворачивался как формирование собственной, «внутренней», институциональной традиции, способной — без оглядки на внешние смысловые инстанции и без опоры на посторонние социальные силы — служить писателю достаточной основой для сознания своей значимости и для признания этой миссии важными для него «другими». Причем вокруг формирования, поддержания, воспроизводства этой традиции, в процессах интерпретации ключевой ценности литературы, ее передачи, широкого приобщения к ней сложилась не только типовая роль (набор масок) самого писателя, но и вся система взаимосвязанных ролей и взаимодополнительных сценариев поведения — вариантов групповой стратегии, индивидуальной жизненной карьеры, траекторий подъема и провала, форм признания и влияния (роли издателя, критика и историка словесности, преподавателя, читателя), в совокупности образующих социальный каркас литературы как института. Наконец, таким образом стал вырабатываться язык критической рефлексии и литературной дидактики, риторический ресурс суждений о литературе, обеспечивающий миллионы согласованных действий по ее типизированному восприятию и оценке.
При этом становление института литературы — лишь одна часть или сторона куда более масштабных социальных и культурных процессов. Я имею в виду формирование дифференцированной системы автономных институтов, во взаимодействии образовавших систему современного общества, точнее — систему современных обществ. XIX век в тех хронологических и содержательных пределах, которые очерчены выше (примерно между Французской революцией и Первой мировой войной), — это эпоха «современности» (modernit, modernity, Modernitaet)[147] и, соответственно, эпоха «культуры» в ее новейшем, универсалистском понимании — как динамического многообразия смыслов, организованных на началах субъективности[148]. Сам же антропологический принцип субъективности, для современной эпохи конститутивный, задан таким образом, что индивидуальность как бы подобна, изоморфна «культуре», в частности — «литературе».
У романтиков они соединены через понятие самосознания и его тени — воображения, через символику гения и категорию оригинальности[149]. Тем самым романтики, наследуя в этом теоретикам Просвещения и развивая их антропологические идеи, вводили в представление о литературе, в систему смысловой интерпретации фактов культуры принцип и структуры субъективности, причем субъективности как автора, так и истолкователя (адресата — критика, читателя) в их взаимосвязи. Этим был обозначен предел, за которым чисто нормативные требования верности классическому канону — наставникам, правилам, образцам — уже так или иначе отступали перед проблемой индивидуального смыслопорождения и смыслоистолкования. Вопросом теперь стало, как синтезировать значение кульурного факта в условиях его частичности, исторической и локальной относительности (короче, внетрадиционности или исходной неавторитетности). И как не только понимать подобные факты здесь и сейчас, но и вырабатывать для них универсальные конструкции, обобщенные символические средства, инструменты межгрупповой и межпоколенческой передачи, дешифровки, оценки.
В этом контексте можно, видимо, аналитически наметить и типологизировать исторические фазы универсализации образцов и норм художественности. Классицизм в теории и на практике разделяет литературу и искусство на эмпирическую множественность произведений, имен, с одной стороны, и систему обобщенных правил, символических авторитетов, пантеон, с другой. Просвещение генерализует упомянутые правила в качестве законов самого разума, универсальных норм мышления. Наконец, романтизм вводит представление об относительности прекрасного, перенося акцент на его выразительность (заразительность), на экспрессивный символизм искусства. Фридрих Шлегель в этой связи говорит о неустранимом политеизме «универсального духа» и непрерывных «внутренних революциях» как модусе его существования[150].
Таким образом, область искусства, литературы, культуры конституируется через отнесенность их к ценности субъективного самоопределения, что и обеспечивает теперь всеобщность эстетического факта, эстетического суждения и эстетического отношения к действительности вообще (эстетической установки). Субъективность репрезентируется метафорикой бесконечности, которая включается в саму конструкцию восприятия и суждения, причем чаще всего — через отрицание, в категориях, близких к негативной теологии, традициям апофатической мистики[151]. Таково понятие незаинтересованности в «Критике способности суждения» у Канта, метафора «неутолимой жажды» в «Поэтическом принципе» у Эдгара По, принцип непереводимости у позднего Августа Шлегеля и др.[152]
Характерно, что индивид задается романтиками как идеальный, превосходящий любые частные определения и проявления (свои произведения в том числе), а стало быть, не исчерпываемый ими — неисчерпаемый в том же кантовском смысле формального принципа[153]. Точно так же условность, фикциональный и рефлексивный характер искусства в целом и каждого конкретного произведения вводит внутрь текста, в саму конструкцию эстетического идеальное начало бесконечности (оно может дополнительно репрезентироваться мотивами «чудесного», «феерического» и т. д.). Парадоксы подобия, целого и части в этой перспективе приводят романтиков, с одной стороны, к идее сверхкниги, книги книг, «букваря» вселенной[154], а с другой — к порождающему принципу фрагмента, бесконечно приближающегося к идеальному целому и вместе с тем уже подобного ему[155]. В этом смысле, добавлю, новая роль журнала как органа самовыражения группы обеспечена у романтиков не просто наличием в европейском обществе печати как технического средства, но их культурной идеей «цепи или венка фрагментов»[156], от которой, замечу, уже один шаг до серийности романов-фельетонов, до последующих библиотечек и серий популярной словесности.
В контексте подобных идей характерно предложенное Фридрихом Шлегелем понятие «бесконечного индивида»[157] (тот же смысл модального перехода, возведения в бесконечную степень, символизирующий автономность механизмов смыслопорождения, смыслотворчества в культуре, имеют у него ценностные тавтологии — удвоение понятий типа «поэзия поэзии» в значении «трансцендентальная поэзия»[158] и т. п.). Бесконечность тут именно и означает автономность, независимость строящего себя индивида при выборе смысловых источников и ориентиров. Однако в составную, но именно потому и замкнутую, «зеркальную» конструкцию обобщенного субъекта при этом входит не просто смысловое озарение извне, прозрение свыше и другие подобные синонимы отстраненного и пассивного, как бы парализующего созерцания. Напротив, под влиянием протестантизма и традиций немецкой мистики здесь предусматривается единение индивида с идеальным прообразом, активное «подражание» ему в его универсальности — устремленность к активному, практическому, систематическому действию.
Данный антропологический момент крайне важен; вероятно, он в описываемом контексте ключевой. Им задается сомасштабная личности конструкция биографического времени и времени истории: она выступает на правах своего рода светской (внутримирской) теодицеи. Вместе с тем подобная антропология предопределяет искупительную роль литературы (поэзии, слова), чем, собственно, и обосновывается программа самообразования как индивидуального формирования себя «по образу и подобию»[159]. Различия в акцентировке тех или иных черт антропологической модели «культурного» человека (современный вариант «совершенного человека» традиционных, сословно-статусных обществ) в разных странах Запада связаны с различиями в процессах формирования и в составе групп новой, письменно-образованной национальной элиты, то есть в конечном счете — с различиями в сроках, темпах и процессах модернизации. Эти несходства соответственно проявляются в относительно различных национальных концепциях образования, различающихся моделях репродуктивных подсистем общества (школы, университета, библиотеки) и дебатах вокруг этих социально значимых проблем в истории, например, Великобритании, Франции или Германии[160].