Обреченные сражаться. Лихолетье Ойкумены Вершинин Лев
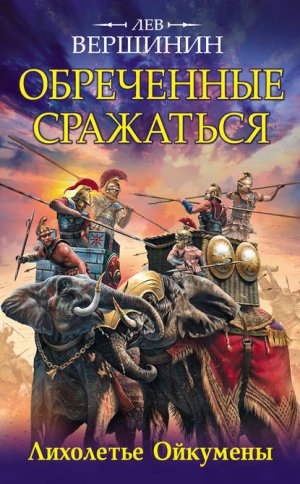
Светлой памяти моей мамочки, Эдит Львовны Вершининой, посвящаю
* * *
В авторской редакции
Художник Игорь Варавин
Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
© Вершинин Л. Р., 2016
© ООО «Издательство „Яуза“», 2016
© ООО «Издательство „Эксмо“», 2016
* * *
О событиях, происшедших после безвременной смерти в Вавилоне Царя Царей Александра, сына хромого Филиппа из Македонии, прозванного в Азии «Зулькарнайном», что означает «Двурогий», а в Европе признанного Божественным, но все равно не дожившего и до тридцати четырех.
О том, как непросто решить, что же такое, в сущности, справедливость.
О политике, которой лучше всего не заниматься вообще, а если уж занялся, то изволь не пенять на испачканные сандалии.
О том, как никто не хотел воевать, но куда же денешься, если Ойкумена одна на всех.
О друзьях, переставших находить общий язык.
О мальчике с вершин, которого пока еще никто не принимает всерьез, а зря.
И о многом другом, случившемся на просторах от Эпира до Месопотамии между годом 460-м и годом 466-м от начала Игр в Олимпии, за три века до рождения в Бейт-Лахме Галилейском Иешуа-плотника, сына Йосефа и Марьям, умевшего ходить по воде, и за девять с лишним веков до того, как в одну из полнолунных ночей Мухаммеду, второму мужу купчихи Хадиджи, открылась истина…
Прологий
Уходящие в закат
Вавилон-на-Тигре. Первые дни лета года 453-го от начала Игр в Олимпии (12–13 июня года 323-го от Рождества Христова)
Бог уходил, ничем не отличаясь от любого из смертных – в липком поту и сводящих иссохшее тело судорогах, в стонущих обрывках жутких снов, в пронзительной вони мочи и жиденького поноса, заглушить которую оказалось не под силу ни тягучему дыму индийских благовоний, ни свежему ветерку, вольно влетающему в обитель смерти сквозь распахнутое окно, уходил, ни на миг не приходя в сознание; слипшиеся поредевшие кудри разметались по мягчайшей подушке, покрывала, сменяемые одно за другим, вмиг становились мокрыми, словно после стирки, а слюна в воспаленном горле Бога кипела и клокотала, выступая на спекшихся, покрытых коркой губах зеленоватыми сгустками слизи…
Первые три дня никто в огромном городе не тревожился сверх меры; здоровье Бога, хоть и подорванное затянувшимся на полгода разгулом и не раз уже дававшее сбой, по-прежнему поражало врачей, заставляя их недоуменно разводить руками в попытках понять: как человеческому организму, пускай и молодому, удается справляться с чудовищным многолетним перенапряжением, щедро помноженным на попойки, бессонные ночи, курение одуряющей парфянской хаомы[1] и прочие радости, способные свести в могилу самого Геракла.
Глупые целители, в силу своего ремесла напрочь лишенные способности верить в чудо, хотя и соблюдали предписанные ритуалы, но все же не могли осознать, что имеют дело с Божеством, возможностям которого нет пределов.
Оказалось – есть.
На пятый день болезни, вопреки сводкам, трижды – утром, в три пополудни и вечером – сообщаемым глашатаями топчущимся у дворцовых ворот толпам, по городским улицам из уст в уста, проникая за полисадии воинских лагерей, объявленных накануне находящимися на чрезвычайном положении, поползли слухи. Говорили разное: кто – о гнилой лихорадке, приставшей к Богу после купания в камышовых зарослях, болезни мерзкой и трудноизлечимой, кто – об иной хворобе, индийской, подхваченной Богом уже давно, затаившейся до срока в глубинах нутра и ныне выползшей на поверхность во всеоружии; точное название этой хвори не было известно никому, но все – от рыночного метельщика до действительного купеческого союза Баб-Или, Врат Божьих, единодушно сходились во мнении, что спасения от нее нет; иные, вовсе уж с оглядкой, едва ли не впившись губами в настороженное ухо довереннейшего из друзей, позволяли себе кощунственно предположить, что там, во дворце, за семью кольцами охраны, медленно и жестоко приводится в исполнение приговор горных демонов Согдианы, проклявших Бога за безжалостное истребление ста тысяч непокорных горцев…
А на исходе седьмого дня, после обычнейшей проверки пульса и вечернего осмотра, выйдя в соседний зал, повесился на собственном поясе Архий из Митилены, знаменитейший целитель и диагност, ученик самого Филиппа Акарнанского, спасшего некогда Бога от верной смерти, но увы, покойного, и не способного теперь прийти на помощь; Архий висел, вывалив набрякший синий язык, глаза его были вытаращены, а на полу сиротливо валялся клочок папируса с наспех нацарапанными словами последнего, что мог он сказать остающимся жить: «Лучше уж самому!»; сразу после обнаружения тела, по приказу мрачного и озабоченного Пердикки, хранителя царской печати, за прочими лекарями был установлен неусыпный надзор с целью предотвратить подобные побеги от заслуженной кары в случае, если произойдет наихудшее.
Самоубийство Архия находящиеся во дворце попытались скрыть, зарубив на всякий случай и раба, обнаружившего тело, и служителей, тело снимавших, и даже нескольких стражников, не показавшихся Пердикке вполне благонадежными. Тщетно. Уже к полуночи весть о враче, наложившем на себя руки, достигла полисадиев, и в палатках третий день не спавших воинов родился нелепейший, неправдоподобный, но, видимо, именно потому и принимаемый на веру слух о том, что Царя Царей отравили. Кто? – с уверенностью назвать этого человека не мог ни один из сплетников; назывались имена разные и многие, даже слишком многие, и лишь это соображение пока что удерживало войско от бунта, ибо отомстить за смерть Бога и покарать его губителей ветераны готовы были немедленно, но перебить своих стратегов[2] до единого все же не желали, справедливо полагая, что погибнут здесь, в глубинах так и не ставшей для большинства родной Азии, оставшись без командиров…
А глубокой ночью, спустя всего лишь несколько часов после того, как тело несчастного Архия было брошено в ров царского зверинца на радость почти неделю голодающим хищникам, Бог очнулся.
Он открыл глаза, обвел опочивальню потусторонним взглядом и чуть слышно попросил пить.
И лекарь, чей черед был в эту ночь бодрствовать над постелью больного, обливаясь слезами счастья, поил его подслащенными целебными отварами, и рабы суетились, спешно перестилая перины, потому что очнувшийся слабым голосом пожаловался на неудобство, и архиграмматик[3] Эвмен, правая рука хранителя печати, торопливо наставлял своих неприметных людей, разъясняя им, как, когда и по какой цене организовывать с утра вспышки народного ликования, и где-то на женской половине гигантского дворца Навуходоносора, услышав от рабыни радостную весть, всплеснула руками и рухнула без чувств молоденькая чернокосая женщина с огромным, круто выпирающим животом, и почти неделю молчавший, словно усыпальница, полутемный и хмурый дворец вспыхнул сотнями свечей, факелов и лампад, уже самим сиянием своим извещая город, воинские лагеря и всю Ойкумену о свершившемся чуде.
Один за другим, беспощадно нахлестывая коней, влетали в похожий на сад дворцовый двор стратеги, не глядя швыряли конюхам поводья и торопливо, увязая в высоком ворсе персидских ковров окованными медью эндромидами[4], стекались к высоченным, в три человеческих роста, дверям покоя, где лежал, медленно возвращаясь в этот мир, Бог; они почти пробегали последние коридоры и все, без разбора – Птолемей Лаг, Лисимах, Селевк Мелеагр, Кратер, одноглазый Антигон, не говоря уж о десятках иных, помельче, – замирали, ткнувшись в грудь кряжисто-несокрушимого, закованного в пластинчатую бактрийскую броню Пердикки, стоящего, положив ладонь на рукоять махайры[5], у входа в опочивальню.
«Да, Царю Царей лучше. Да, пришел в себя. Да, может говорить. Нет, не пущу никого без повеления!»
И стратеги, узнав главное, послушно усаживались на обтянутые мягчайшей кожей нерожденных телят сиденья, готовясь к долгому ожиданию и провожая завистливыми взглядами мечущихся, снующих из двери и обратно врачей. Никто из них не требовал ничего и ни на чем не настаивал, ибо каждый знал, что Пердикки не меняет своих решений, но ни один и не собрался уходить.
Ни им, прославленным в битвах, ни всезнающему Эвмену, ни самому хранителю печати не было известно, сколько придется ждать, прежде чем Бог соизволит призвать их к себе. Как ведомо было и то, что Бог никого не желает видеть.
Потому что Бог думал.
Невысокий, крепкий, великолепно натренированный, он и помыслить не мог доселе, что тело, так хорошо служившее ему все эти тридцать три года, тело, легко переносившее болезни, сутками не устававшее ни в седле, ни на ложе любви, тело, способное перехитрить и повергнуть в прах любого врага, удивительное тело, на котором самые тяжкие раны заживали словно на собаке, – это тело откажется двигаться, сраженное невероятной, унизительной слабостью.
Это было не по правилам, и что с того, что правила эти он установил сам?!
Таково право Бога!
Но сейчас он не чувствовал себя Богом, и это было унизительнее всего.
Больной звал отца.
Нет, не хмурого и злого Филиппа, которого ненавидел с детства – за ограниченность, неумение мечтать, за то, что матушка плакала по ночам, слушая хмельные песни и визг плясуний, доносящиеся из опочивальни, расположенной на первом этаже мрачного и маленького дворца македонских царей; не Филиппа, гибель которого была долгожданным подарком, открывшим Богу путь к нестерпимо сияющим высотам… Да ведь Филипп и не был ему отцом, разве что по названию, не больше… сперва это было матушкиной тайной, потом – тайной, доверенной сыну… и лишь позже, достигнув всевластия, он раскрыл этот секрет во всеуслышание: его отцом был Зевс-громовержец! Единственный, кто воистину достоин был разделить с его матушкой ложе! Да, именно он, а не какой-то Филипп, грязный и потный варвар, убивающий и побеждающий всего лишь ради добычи.
Бог возвестил об этом всей Ойкумене радостно и гордо, а его поначалу подняли на смех. Ну что же, он сумел обуздать излишне смешливых. Быть может, задыхаясь в петлях, кладя головы на плаху, медленно умирая на зубчатых колесах, они и пожалели о своей недоверчивости… ему это было уже неинтересно. А потом, когда были разбиты персы, сперва – на Гранике, а потом и при Иссе, где, бросив колесницу и тиару[6], спасался бегством от его крохотного войска сам шахиншах Персиды – кто смел бы сомневаться в том, что он, царь Македонии Александр, совершивший невозможное, действительно сын Отца Олимпийцев?!
И мудрые жрецы Египта, покоренного им, сами, не дожидаясь указаний, провозгласили его сыном великого Аммона, повелителя богов, сияющего в синеве… Но ведь Аммон – всего лишь второе имя Зевса, и кому, как не египетским жрецам, постигшим самые сокровенные тайны, знать истину о его рождении?!
Если и были у него какие-либо сомнения, они рассеялись в Египте, как роса под дыханием горячего хамсина, и более он уже не сомневался ни в чем.
Никогда.
Он шел на восток, подчиняя никем никогда не покоренные города и сокрушая великие державы, не останавливаясь, не обращая внимания на ропот усталого войска, не щадя ни самого себя, ни других, жалких, шел туда, куда никто не добирался до него, даже великий Кир, называемый персами Курушем, шел через непроходимые пески и неодолимые горы и побеждал, побеждал, побеждал всех, осмелившихся встать у него на пути! Да, среди них встречались отважные и умелые и были упрямые – взять того же Спитамена, да будет проклята память о злобном согдийце! – и орды их бесстрашных воинов были раз от разу куда многочисленнее его истомленной армии. Но они стали прахом и тленом, а он надел на голову тройную тиару Царя Царей всего Востока и перешел Инд! Так разве не довольно было всего этого смертным, чтобы понять наконец и признать: да, он – сын Диоса-Зевса, призванный и благословленный небесным Отцом для того, чтобы стать владыкой всей Ойкумены, от Оловянных островов до шести шелковых царств?!
Оказалось, мало.
Смертные смели сомневаться.
Ворчали старики, побратимы покойного Филиппа, позволявшие себе утверждать, что это они, а не он, сын Зевса, создали непобедимую армию македонцев. Они бурчали и шипели, что негоже-де истощать силы Македонии в погоне за химерой – как будто ему, Богу и владыке Ойкумены, было дело до их грязной, пропахшей козьими шкурами Македонии! Они не верили в его божественность, эти выжившие из ума старцы, истлевшие заживо призраки прошлого, осмелившиеся поучать его – Бога! – на том ничего не стоящем основании, что забавляли его в колыбели…
Они мешали ему. Они оплевывали его мечту.
Им пришлось умереть.
Вместе с отродьем, всеми этими горластыми македонскими забияками, чтобы кто-то из чересчур преданных сыновей не вздумал прогневать Олимпийцев, решив мстить за отца бессмертному божеству.
Но и это не убедило маловеров.
Хотя македонцы, тупые, как их сапоги, и чересчур умные греки, обожающие подвергать все сомнению, прикусили на время гнусные языки, но лживость их и подлая суть вышли наружу, когда при дворе была введена проскинеза. Разве это так уж унизительно: кланяться, преклонив колени? Да, бесспорно, земно поклониться смертному – потерять свою честь.
Но – Богу?!
И потому отказавшиеся кланяться умерли злой смертью, чтобы никому неповадно было впредь навлекать на Ойкумену, на ни в чем не повинные племена, населяющие ее, гнев Олимпийцев. Он не пощадил никого, даже друзей детства, потому что проявлять слабость и помиловать одного, двух, десятерых – означало бы вопиющую несправедливость по отношению к тысячам осужденных на казнь.
А Бог обязан быть справедливым и не делать ни для кого исключений.
Он – не делал.
Странно: свои очень быстро стали чужими, зато чужие, кого полагалось считать варварами, неполноценными, поняли все правильно. Он возненавидел македонцев и эллинов, зато полюбил персов, не медлящих, склоняя колени перед божеством.
Азиаты не сомневались ни в чем.
Они доблестно сражались против него, но складывали оружие, уяснив, что имеют дело с сошедшим на бренную землю бессмертным; они, а не пресловутые единокровные, одобрительно кивали, выслушивая его речи об одной Ойкумене, одном народе, одном повелителе.
Да! Мир, в котором равны все, вне зависимости от языка, веры, рода, равны в подчинении властелину, мир, в котором нет войн, потому что нет границ, мир, которым правит бессмертный Бог, чуждый людских слабостей и пороков, – разве не это мечта, достойная Олимпийцев?
И он добился бы этого! И – как знать! – со временем, быть может, превзошел бы могуществом самого Диоса-Зевса, ибо отцам свойственно дряхлеть, уступая дорогу сыновьям?! Тогда, завершив покорение Ойкумены, он поднялся бы на вершину Олимпа и предложил бы престарелому родителю удалиться на покой, в любое из бесчисленных владений, принадлежащих наследнику, и старик согласился бы, потому что сила всегда убедительна… Он обязательно достиг бы этого… Если бы не эта проклятая слабость, вдруг сковавшая тело!
Врачи суетились вокруг, задавали вопросы, подносили к губам ароматные настои, но он не отвечал им вовсе или, если очень уж докучали, отвечал ругательствами, ибо они мешали ему. Они не знали, что из забытья он вышел лишь потому, что иначе никак невозможно было спастись от несчетной толпы бесплотных теней, жадно протягивавших к его – Бога! – беззащитному горлу когтистые ледяные лапы.
Он узнавал их лица, различал голоса, и ему было так страшно, что он очнулся, но сейчас, слабо и хрипло дыша, Бог понимал то, чего не могли, а быть может – просто боялись понять целители.
Это пробуждение – ненадолго.
Если не поможет отец.
Болезнь неторопливо шевелилась в нем, и он ясно ощущал, как цепки и беспощадны коготки на ее лапках, впивающиеся все глубже и глубже в почки, легкие, печень; он уходил в никуда, даже хуже, чем в никуда, – во мглу, населенную хищными, поджидающими его тенями, и ему было страшно, и самое время было отцу, Диосу-Зевсу, явиться сюда, ну, на худой конец, послать кого-то из детей – почему не Арея, бога войны, с которым он по-братски разделил так много пищи?! – чтобы помочь сыну справиться с недугом…
Ведь он – Бог!
Но если так, то что стоит ему сей же час, нисколько не медля, подняться с этого омерзительно влажного ложа?!
Он встанет, прочно уперев в пол ноги, расправит плечи, вздохнет полной грудью – и выйдет туда – к стратегам, к жене, вынашивающей его сына – да, сына, иначе и быть не может! – выйдет к тем, кто никогда не сомневался в его божественной сути, кому он доверяет полностью…
И ему показалось, что он встал, и встряхнулся, и вздохнул, но это было всего лишь обрывком бреда, и над ним склонилось озабоченное лицо врача…
Он не встал.
И, не сумев встать, понял, что Диос-Зевс обманул его, своего сына, взревновав к славе или испугавшись потерять золотой трон на вершине Олимпа.
А если обманул отец, можно ли верить стратегам?
Вот одноглазый Антигон. Отважен. Верен. Без спора преклонил колени, по первому слову Царя Царей совершая проскинезу. Но он же почти старик, служивший еще Филиппу, а можно ли доверять тому, кто был близок к несчастному, смевшему называть Бога гаденышем?..
Нет. Недостоин доверия Антигон.
Вот Птолемей. Друг детства. Грудью прикрыл Царя Царей от вражьего копья, за что и удостоен титула Сотер, Спаситель. Умница и балагур, один из немногих, бывших рядом, когда Бог был всего лишь нелюбимым сыном сурового, подозрительного к приятелям наследника царя Филиппа. Но – помнится, присутствуя на казни кого-то из сомневающихся, он прикрыл глаза ладонью, словно защищаясь от солнца, на самом же деле наверняка сочувствуя негодяям…
Нет. Нельзя верить Птолемею.
Остальные не лучше.
Даже жена, Роксана. Он ведь и правда полюбил ее, азиатку, варварское отродье, взял ее в законные жены и сделал Царицей Цариц, хотя мог бы просто бросить на ковер и получить необходимое мужчине просто так, без брачного пира. Он верил ей почти как самому себе. И что же? Она не пожелала понести сразу после свадьбы! Она знала, как нужен, как необходим ему, Богу, земной наследник всего, что он сумел создать, – и надсмеялась над ним и над его любовью, понеся только теперь, когда он уже не сможет увидеть наследника…
Не сможет?!
Неужели он – Бог! Бог!! Бог!!! – умрет?
Уйдет туда, во мглу, к шелестящим теням?!
Не-е-е-ет!
Он встанет. И воздаст всем им в полной мере: и подлым стратегам, так умело затаившим измену в своих черных сердцах, и этой гнусной предательнице-азиатке, и всем, всем, сколько есть их вокруг, а потом доберется и до Олимпа, доберется вопреки всему, как вопреки всему добрался от Македонии до Инда, и взыщет за неоказанную помощь с Диоса-Зевса, жалкого подобия, недостойного своего великого сына…
Он поднимется на ноги.
Ибо истина открылась ему, и эта истина – наилучшее из лекарств: он отравлен предательством окружающих, тех, кому доверял.
Теперь он будет верить только себе.
И немного, разве что совсем немного – Пердикке.
Потому что Пердикка не просто друг детства. Нет, этого мало! Ведь оказался же мерзким перевертышем Птолемей. Но Пердикка многократно доказал преданность, изыскивая измену и собственноручно пытая заговорщиков и маловеров; многие из них пытались запираться, кричали о своей невиновности, но раскаленная медь, высокая дыба и суровое правдолюбие Пердикки заставляли их, валяясь в лужах собственной крови и мочи, признаваться в задуманных изменах.
Да, Пердикке можно доверять…
А еще – Эвмену.
Почему? Ответ на этот вопрос известен ему, он крутится неподалеку, он почти уже на языке, но… никак не нащупать, не ухватить. И не надо. Главное, что Эвмен достоин доверия, Бог убежден в этом, а боги не ошибаются…
Но прежде всего – матери.
Умирающий Бог улыбнулся, и врач, засеменив к двери, тут же сообщил об этом Пердикке, все так же стоящему на страже, а тот, немного помедлив, – стратегам, в напряженном ожидании приподнявшимся с низких сидений, и радостная суета в переходах дворца всколыхнулась приливной волной, но лекарям, воспаленным надеждой, было невдомек, что улыбка на иссушенном лице вовсе не указывает на перелом…
Просто Бог разговаривал с матерью…
Ей, Царице Цариц Олимпиаде, он верил с первых дней земного существования, верил слепо и безоговорочно, все прощая и не возражая ни словом! Верил нежности ее рук и строгости голоса, верил, как никому другому, просто потому, что она – единственный человек на всей огромной земле, готовый броситься в пропасть во имя того, чтобы ему было хорошо; прежде они никогда не расставались, и даже уйдя в поход, он писал ей коротенькие письма каждую неделю, собственноручно, даже когда стал Царем Царей Востока, а она отвечала ему длинными, поучающими; он терпеть не мог поучений, но ее указания старался исполнять, если они не противоречили его божественности; когда он был еще мал, а потом – юн, они с мамой, запершись ото всех в ненавидящем их дворце, они вдвоем ненавидели Филиппа, загубившего матушкину молодость, и гордились истинным отцом Александра, и мечтали о грядущей мести всем завистникам… о, как сладка была эта месть, когда время пришло!.. А нынче именно мамочка пришла туда, в долину оскалившихся теней, взяла за руку, словно маленького, и увела из мрака в свет, в эту вот знакомую и незнакомую опочивальню, и злобные тени шарахнулись от немолодой зеленоглазой женщины в темном вдовьем покрывале, властно крикнувшей в их слепые морды: «Не троньте моего сына!»…
Здесь, на свету, не было теней.
Но не было и ее.
Она осталась там, в Македонии, и все двенадцать лет разлуки живет мыслью о встрече; ей плохо там, одной, без сына, ее обижают подлые друзья Филиппа, всегда ненавидящие Царицу Цариц за то, что она, возлюбленная Зевса, не скрывала своего презрения к ним. Недавно, из последнего письма, сын узнал, что подлец Антипатр, оставленный править жалкими македонскими землями, осмелился прогнать ее из страны, запретив ей – царице! – возвращаться, пока не прибудет сын! Он, ближайший друг и побратим Филиппа, главный ненавистник матери, посмел!.. Но ничего, родная, твой сын заставит его уплатить сполна, кровью и воем, за каждую твою слезинку!..
Только бы встать!
Вста-а-а-а-ааааааа…
Сиреневые тени сгустились, затмевая огни светильников.
Короткая мучительная судорога передернула тело, на миг отпустила, вновь пришла, выворачивая мышцы; глаза больного выкатились из орбит, быстро наливаясь кровью, мутная пена вскипела на искривившихся губах, дыхание сделалось лающим, и из-под только что перестеленных покрывал вновь потянуло нестерпимо-пронзительной вонью…
У врачей, бросившихся к ложу, дрожали руки, морозная бледность превратила их лица в трагические маски, но служба есть служба, и спустя несколько мгновений, когда все стало ясно, один из целителей, когда-то седовласый и осанисто-важный, а сейчас на глазах превратившийся в согбенного старца, нашел в себе силы добраться до двери и тихо вымолвить в ухо хранителю печати:
– Агония!
Это был приговор, не подлежащий пересмотру, приговор Царю Царей и всем им, эскулапам, не сумевшим спасти его; врач, произнеся страшное слово, был готов к немедленной смерти, но, к удивлению своему, не умер. Его всего-навсего отшвырнули от двери и едва не растоптали. Тихий шепот прозвучал в настороженной тишине громовым раскатом, и сидящие в ожидании вскочили одновременно. Они ринулись к двери, словно к воротам осажденного города, и даже Пердикка со своей махайрой не сумел бы их остановить; хранитель печати был бы просто раздавлен и смят, не сообрази он вовремя возглавить толпу, рвущуюся к царскому ложу…
Забившись в угол, врач еще жил, безмерно удивленный этим фактом; однако потрясение скоро пройдет, ему, конечно, отрубят голову – в саду, на рассвете, милосердно избавив от пыток, а вслед за ним обезглавят и остальных целителей-неудачников, не пощадив ни единого, разве что снизойдя к просьбам некоторых о замене топора удавкой. Но это будет спустя несколько часов, а пока что стратегам не до врачей; несчастные, пожалуй, могли бы даже уйти сейчас из дворца, сгинуть в лабиринте вавилонских улиц, но к чему? – завтра же их хватятся, станут искать, возьмут в заложники семьи… Не дворец, а вся Ойкумена стала ловушкой, и беднягам остается только радоваться нежданно продлившейся жизни и готовиться достойно встретить неизбежное…
Звеня бронзой доспехов, тяжко дыша и толкаясь локтями, стратеги нависли над ложем, исступленно вслушиваясь в тишину, иссекаемую хриплым криком Пердикки:
– Божественный, очнись! Очнись! Скажи, кому ты завещаешь все? Кому? Кому?!
Казалось, это продолжалось целые века.
Наконец ресницы, поредевшие за эти дни, а совсем еще недавно – длинные и пушистые, слегка дрогнули.
Слабое подобие шороха слетело с уст.
– Ма-ма… – пролепетал умирающий.
Она все-таки пришла! Она преодолела пространство, чтобы снова спасти его от этих жутких, колеблющихся, не дающих дышать теней, сумевших доползти из подземного мрака даже сюда, в мир живых, в его опочивальню…
Но почему у нее – борода?!
Эта мысль, последняя в жизни, мелькнула и сгинула, и напрасен был клекот Пердикки, монотонно повторяющего свое «Кому? Кому?! Кому?!!», потому что мертвым неинтересны дела временно живых, а вытянувшийся комок отхрипевшей, отмычавшей последний стон, отмучившейся плоти был уже окончательно и безнадежно мертв.
Он, пока жил, не считал себя человеком.
Теперь он им не был.
Он наконец-то стал Богом…
Дельта Нила. Пелузий. Весна года 455-го от начала Игр в Олимпии
Жемчужина. Немного ароматной, легко горящей смолы. Капля вина. Клочок драгоценной парчи. Щепотка заморских пряностей. Треть флакона благовонных притираний.
Пожалуй, довольно.
Теперь перемешать все это, скатать в липкий, не имеющий определенного цвета комок. Уложить на мрамор походного алтаря, строго посередине, меж двух тускло рдеющих лампад.
И поджечь.
Огонек охватил было бесформенное нечто, лежащее на пятнистой мраморной доске, встрепенулся, словно пребывая в сомнении, и умер, оставив по себе лишь тонкие струи удушливого, режущего глаза дыма.
Жертва не принята.
Мало?
Воровато прищурившись, Пердикка, Верховный Правитель невиданной державы, простершейся от лесистых македонских гор до спокойно текущего мутного Инда, вытащил из ножен короткий кинжал, не раздумывая, полоснул себя по руке и помазал губы царя собственной кровью.
Старый варварский обычай, почти забытый даже в Македонии, осмеянный и презираемый в последние десятилетия.
Но – действенный.
Ни одно божество не устоит перед запахом и вкусом человеческой крови, принесенной в жертву добровольно и безо всякого принуждения.
Это даже приятнее им, чем дым, восходящий в небо от бесчисленных бычьих, бараньих и лошадиных туш, сжигаемых на торжественных гекатомбах[7]. Тем более что ни сегодня, ни завтра, ни через неделю гекатомбу не устроить. Нет ни быков, ни овец, а те, что есть, необходимы для пропитания войска…
Войска, собиравшегося побеждать, а вместо этого на полтора месяца застрявшего в зыбучих песках у неприступных пелузийских стен, надежно защищенных разлившимся Нилом.
Быстро подсыхая, кровь становилась темной, почти коричневой, и в трепещущей пелене струящегося дыма Пердикке почудилось, что губы Царя Царей слегка дрогнули.
– Свершилось!
Пердикка, покряхтывая, опустился на колени перед алтарем.
– Царь Царей и Бог мой, Александр, – очень тихо зашептал он, громче не было нужды: божество услышит и так, а стражникам, усиленные посты которых вот уже третий день сомкнуты вокруг шатра, вовсе ни к чему слышать нечто, не предназначенное для их ушей.
Конечно, все они абсолютно надежны; верзила Селевк, начальник охраны верховного правителя, лично отобрал лучших из лучших, а Селевку, одному из немногих, можно доверять. Он не блещет умом, но не честолюбив, предан и не способен на предательство.
Все так! Но ни к чему воинам даже догадываться, что на сердце у Пердикки нелегко.
– Царь Царей и Бог мой, Александр! Тебе, пребывающему на высотах Олимпа, по правую руку великого Диоса-Зевса, родителя твоего, ведомо все сущее в мире смертных! Не укрыто от тебя и совершенное мною во славу твою…
Почудилось? Нет! Улыбка на мраморных устах сделалась шире, ласковее.
Бог слышал и одобрял!
А почему бы и нет?
Разве не совершил он, Пердикка, почти невозможное, усмирив беспорядки в полыхнувшем после ухода Царя Царей Вавилоне? Разве не сохранил для отпрыска божества, рожденного спустя полгода после смерти отца, великую державу, созданную Божественным?
И разве это было легко?!
Нелегко, да и не хочется вспоминать те окаянные дни.
Все висело на волоске, все рушилось и трепетало, словно крылья мотылька, летящего на пламя, и многим казалось, что разгневанное небо встало на дыбы, готовое расколоться пополам и погрести под собою сошедшую с ума землю.
Пьяная солдатня, без разрешения вышедшая за ворота полисадиев, толпами слонялась по вавилонским улицам, буйствовала в харчевнях, разбивала винные погреба, гудела и гомонила на площадях, подчеркнуто не замечая собственных таксиархов[8] и глумливо освистывая проезжающих гетайров[9], а если кто-то из командиров, возмущенный невиданным своеволием, требовал вернуться в палатки, угрожая военным судом и взывая к воинской чести, его тут же, на месте, не тратя времени на перебранку, забивали ногами до смерти, сбрасывая обезображенное тело в вонючие арыки. Обезумевшая пехота собиралась под стенами дворца Навуходоносора, свистела и улюлюкала, требуя членов Военного Совета осиротевшей державы, а когда те выходили, в них – стратегов Божественного! – летели арбузные корки, дохлые крысы и вонючие протухшие яйца.
Обезумевшая чернь не способна была даже связно сказать, чего, собственно, ей нужно.
Толпа требовала покарать погубителей Царя Царей, и требование ее было удовлетворено Военным Советом; головы врачей-убийц, воткнутые на копья, вознеслись над дворцовой стеной, но ликование вооруженного сброда оказалось недолгим; напротив, там и тут раздавались крики, что стратеги убили невинных, свалив на них собственное преступление…
Толпа возжелала денежных раздач, и половина необъятной казны, накопленной Божественным, ушла в бездонные мешки озверевших, едва ли не на ножах схватывающихся друг с дружкой за место в очереди скотов. За один день каждый из них обогатился, получив годовое жалованье, но даже после всего, когда полученное было уже распихано по кошелям, чернь и не подумала униматься, вопя на всех перекрестках, что стратеги утаили сокровища, завещанные Божественным своей верной армии, кинув честным воинам жалкую подачку.
Толпа угрожала штурмом дворца, настаивая на немедленной коронации наследника Божественного, и это было уже требование политическое. Нельзя было отдавать на откуп охлосу[10] решение подобных вопросов, тем паче что наследник Царя Царей еще пребывал в материнском чреве, а из всех родственников ушедшего, из всех, так или иначе причастных к дому македонских Аргеадов, в Вавилоне находился только припадочный Арридей, добродушный и слюнявый придурок, сводный брат Божественного, рожденный от хромого Филиппа случайной возлюбленной, фракийской танцовщицей.
Насмешкой было бы отдавать наследие Царя Царей в эти вялые, неспособные удержать поводья руки…
Стратеги, сидящие во дворце, словно в осаде, хмурились и помалкивали, стараясь не встречаться взглядами; все понимали, что уступки черни достигли уже предела, и самой ничтожной капельки довольно, чтобы уверовавший в свою непобедимость охлос кинулся на приступ.
Лохаги[11] этерии[12] требовали принять меры, головами ручаясь за то, что конница сумеет усмирить зарвавшуюся не по чину пехтуру. И это, как понимали все, было правдой. Но никто не смел взять на себя ответственность и скрепить личной печатью такой приказ, означающий открытую схватку между македонцами в самом сердце покоренной, но все еще огрызающейся, готовой в любой миг взбунтоваться Азии.
К тому же никто не мог ручаться наверняка, что этерия, пусть и десятикратно прославленная в битвах, одолеет в уличных боях закаленную в тех же сражениях пехоту. Возможно всякое. И если Олимпийцы позволят охлосу победить, простое колесование под одобрительные вопли ликующих охламонов будет наиболее легким и немучительным исходом для подписавшего и скрепившего личной печатью такой приказ – это понимали все.
Ни один из стратегов Божественного не заслуживал упрека в малодушии. Но в тот день все они были бледны от ужаса, не скрывая его и нисколько не стыдясь.
Боялся и Пердикка.
Ему, хранителю царской печати, было страшно, может быть, даже страшнее, чем прочим, но именно он в мертвой, густой, как сметана, тишине встал, приказал Эвмену немедля набросать текст, дважды перечитал и молча, явственно ощущая тяжесть скрестившихся на спине взглядов, приложил к серо-желтому папирусу перстень-печатку со змеей, обвившей рукоять кривого кинжала, древним знаком своего рода.
А затем, не советуясь ни с кем, поставил под приказом оттиск еще одной печати, той, которую, не снимая ни на миг, носил на шее.
Он знал, на что шел.
Но знал и другое: чернь смертельно опасна, пока перед ней лебезят, умиротворяя и заискивая. Увидев же против себя подлинную, не стесняющуюся в средствах силу, она, как правило, уползает в нору, трусливо поджав хвост.
И не ошибся.
До резни дело не дошло.
Выстояв несколько часов на гигантской дворцовой площади лицом к лицу с сияющей на солнце стеной этерии, пехота, чертыхаясь, вернулась в лагеря. Военный совет пополнился несколькими представителями охлоса, потными горлопанами, быстрехонько смекнувшими, впрочем, с кем выгоднее иметь дело. Зачинщики беспорядков были в течение трех дней вычислены поименно людьми Эвмена и один за другим сгинули – кто во тьме окраинных переулков, кто в зарослях камыша, заболотивших берега Тигра вниз по течению от Вавилона…
А он, Пердикка, сын Оронта, на следующем же заседании Совета был избран Верховным Правителем державы.
Единогласно.
– Если же я в чем-то нарушил волю твою, Царь Царей и Бог мой Александр, дай мне знамение ныне и наставь, как исправить оплошность…
В зыбком сиреневом мареве курений, колеблющих полумрак шатра, мраморный Царь Царей и Бог едва заметно кивнул головой.
Нет, ему не за что гневаться на своего верного Пердикку, напротив, он доволен…
Благодарно, но без всякого удивления – чему тут, в самом деле, удивляться? – Пердикка, с трудом согнув спину, коснулся лбом циновки перед алтарем.
Разве стало легче после усмирения черни?
Разогнав баранов, ему пришлось столкнуться с псами.
Он ясно видел, знал и понимал, что следует делать теперь, когда с ними нет Божественного. Он пытался объяснить это им всем, тем, кто еще вчера бок о бок с ним сражался под знаменем Царя Царей, но ответом его пылким, искренним речам было тупое, тягучее молчание.
Его слушали, но не слышали.
Он говорил о власти, воле которой подчинилась половина Ойкумены, о Царе Царей, наблюдающем за ними с вершин Олимпа, о величайшей державе, сохранить которую – их долг перед потомками и Историей.
А они молчали. И в прищуренных глазах большинства прочитывался только один вопрос: кому какая сатрапия достанется в управление, и желательно – с правом наследования?
Они хотели золота и земель, и еще раз золота, и опять земель, очень много земель и очень много золота, и почета, и коленопреклоненных толп. «За что мы боролись?» – было написано на их лицах, и подчас Пердикке хотелось блевать от омерзения прямо на хамаданские ковры, потому что сам он боролся совсем за другое. С того дня, когда узнал он от царевича Александра правду о его рождении и поверил ему раз и навсегда, ибо любого, посмевшего лгать о таком, Диос-Зевс немедленно испепеляет яростной молнией, а в миг признания Александра небо оставалось чистым и благостным, и лишь в отдалении что-то негромко рокотало, словно Отец Богов одобрял своего сына, открывшегося Пердикке.
Скорее всего, так оно и было…
…Что ж! Отказать им в дележе земель означало спровоцировать мятеж, много страшнейший, чем бессмысленный и беспощадный бунт черни. Он и не стал отказывать, тем паче что далеко еще не все покоренные сатрапии были замирены и нуждались в управлении и надзоре, а каждый из стратегов, при всей их алчности и приземленности, имел опыт военный и государственный, и не приходилось желать лучших наместников для азиатских стран.
После десятидневного крика, доходившего до драк, после позорных хватаний друг друга за грудки, перечисления заслуг, взывания ко всем богам, оговоров, интриг и угроз сатрапии были распределены более-менее справедливо, и никто не остался недовольным, во всяком случае, никто не заявил об этом во всеуслышание.
Но сам Пердикка отказался участвовать в дележе.
Почти никто не обратил на это внимания, разве что некоторые удивленно поохали, и лишь в мерцающем оке одноглазого Антигона мелькнуло нечто, похожее на понимание…
Псам бросили кость, и псы унялись.
К сожалению, кроме псов, были и волки.
Немного. Пятеро. Может быть, шестеро. Но именно они определяли, за кем пойдет войско; одно их слово способно было вновь вывести из лагерей пехоту, и даже среди этерии не каждый решился бы выступить против них.
Эти не рвали друг у дружки сатрапии, наоборот, с не меньшим презрением, чем Пердикка, наблюдали за творящимся на Совете. А затем кем-то из них было вновь названо имя дурачка Арридея…
Они откровенно ухмылялись, упоминая о нем, «законном Аргеаде, наследнике македонских базилевсов[13]», даже не скрывая, что убогий интересен им меньше всего. Но они каждым словом своим отрицали и оплевывали то, ради чего жил, боролся и побеждал Божественный.
Македония – превыше всего! – такова была их вера, и поколебать эту веру было невозможно, разве что убить вместе с проповедниками. Вся бескрайняя Ойкумена, пройденная и подчиненная Божественным, рассматривалась ими всего лишь как добыча, как гигантская кормушка, населенная нелюдями, достойными лишь презрения и подлежащими грабежу. Старые бредни эллинов: варвары нуждаются в плети, но греки – равны между собой. И царь македонский был для них царем древнего закона, первым среди равных, подчиненным совету вождей, и войсковому сходу, и народному собранию. Им не нужен был Бог на престоле, и на этом они стояли твердо.
И ему пришлось уступить.
На белесую голову сорокалетнего Арридея, названного, словно в насмешку, Филиппом, была напялена под ликующие крики охлоса и сдержанные приветствия гетайров серебряная корона царей Македонии, и улыбающийся, даже в этот великий миг хлюпающий носом царек, заикаясь и пуская ветры, произнес перед войском слова древней клятвы, подсказываемые ему стоящим чуть позади Эвменом: «Я, Арридей-Филипп, третий царь Македонии этого имени, принимая отцовский венец, перед лицом своих боевых товарищей торжественно обещаю…»
Однако тройную тиару Востока Пердикка сберег для сына Божественного, не позволив обокрасть того, кто еще даже не был рожден. Никаких прав не имел Арридей, пусть и трижды Аргеад, на диадему персидских царей, завоеванную Александром, сыном Зевса Олимпийского! Это наследство принадлежало тому, и только тому, кто ворочался пока что во чреве Роксаны, и, поглядев в глаза верховному правителю, волки, пару раз огрызнувшись напоследок, отступили…
И рожденный пять месяцев спустя мальчишка, на диво большой и крепкий, был коронован прямо в пеленках, по обычаям, принятым на Востоке, перед лицом Священного Огня, в порфировой палате дворца Навуходоносора, вдали от мутных глаз тупой солдатни, зато в присутствии дородных и бесстрашных персидских пахлаванов, земным поклоном встретивших вынесенного к ним Пердиккой трехнедельного шахиншаха.
Под сводами, отделанными бадахшанским нефритом, звенели чеканные строки тронного благословения, произносимого от имени Царя Царей Верховным Правителем державы Пердиккой: «Волей Светлого Ормузда, я, побеждающий тьму и дарящий благо тверди, Искандар, сын Искандара, сына Зевса-Аммона, дарую вам, подданные, счастье восхождения моего на престол…»
– И ты свидетель, что престол сына твоего прочен и священная жизнь его вне опасности, Царь Царей и Бог мой Александр…
Брови, искусно – волосок к волоску – выложенные на мраморе резцом ваятеля, слегка сдвинулись; Бог недоумевал, для чего призвал его вернейший из слуг.
Не для того же, чтобы перечислить заслуги свои, и без того ведомые Всеведущему?
Нет, конечно же, нет; лишь презрения достоин раб, хвалящийся заслугами перед господином, коему обязан вечной нехвастливой преданностью, и он, Пердикка, тень от тени Царя Царей и прах у ног его, не смеет и помыслить о подобном.
Хотя заслуги велики и неоспоримы!
Пусть у державы ныне – два царя, но оба они – в лагере Верховного Правителя, под неусыпной охраной «серебряных щитов», пешей этерии Божественного, до последней капли крови и последнего вздоха преданных памяти ушедшего Бога, его сыну-наследнику и благородному Пердикке, ревностному продолжателю его дел.
Пусть играет в куклы, забавляется мячиком и объедается бахарскими тянучками косноязычный и жалкий Арридей-Филипп, пусть жена его, бешеная Эвридика, мечтающая о власти и потому радостно вышедшая за дурачка, негодного ни в жизни, ни в постели, шипит и злобствует, хуля втихомолку Верховного, но им суждено оставаться в тени, а после – сгинуть, ибо наследник обеих диадем – младенец Александр, сын Александра, и никто, кроме него…
Пусть до времени тешат себя миражами македонские волки; есть управа и на них, а имя этой управе – всемогущее время. Мальчик растет, а ветераны стареют, и молодые персидские азаты[14], отважные и полные сил, уже теперь сотнями стекаются в Вавилон, мечтая записаться в войско благородного вази-авазира и спасалара[15] Фардаха, опекуна шахиншаха Искандара, второго властителя Арьян-Ваэджа этого имени…
Десять лет, всего только десять лет – и никто уже не посмеет скалить зубы на тройную тиару.






