Обреченные сражаться. Лихолетье Ойкумены Вершинин Лев
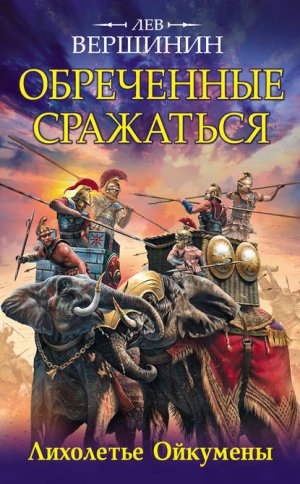
Да, это так. К сожалению, ни о каком коне не может идти речь сейчас, ранней весной…
Лицо Эакида, обмазанное, как и у прочих, поверх бороды прозрачным гусиным жиром, защищающим кожу от укусов студеного ветра ущелий, хмуро и сосредоточенно, и ближайшие из близких, удостоенные звания «тени царя», стараются сопеть и кашлять потише, дабы не мешать повелителю размышлять.
Они шагают почти вплотную и молчат: седоголовый гигант Аэроп, лучший меч молосской земли, редкобородый Андроклид в низко нахлобученной рогатой жреческой шапке и Клеоник, беглый раб из греческой Амбракии, нашедший в давние годы приют у царского очага, доказавший верность и принятый в род. Их присутствие незаметно, но спине спокойно, когда они рядом.
И царь, придерживая на поводке рвущегося вперед Снежка, размышляет…
Не вовремя, ох, как же не вовремя позвала сестра.
В Эпире неспокойно. Странные темные люди бродили минувшей осенью по ущельям. Они избегали прославленного молосского гостеприимства, находя для сего десятки благовидных предлогов, не особо задерживались и в поселках феспротов, родных братьев молоссов, зато подолгу гостили в прибрежных городках Хаонии, рассказывая новости, торгуя нехитрыми, но всякому нужными товарами из числа тех, что не умеют пока еще делать эпирские мастера…
Что за люди? Неведомо.
Да только после их ухода прибрежные поселки не стали спешить с отправкой в Додону установленной обычаем дани. Будучи призваны пред очи царя, старейшины хаонов клялись, что обозы вот-вот будут собраны и овцы отсчитаны и царю-отцу нет нужды гневаться. И была в этих клятвах и уверениях некая трудно уловимая ложь, но быстроглазых хаонских старцев нелегко уличить в неискренности: слишком давно общались они и торговали с приморскими греками и ловко выучились у них не только презренному искусству накопительства, но и трижды более противному для каждого свободного сына гор умению сплетать одно с другим фальшивые словеса…
Что уж там, всякому ведомо: хаоны – нехороший народ. Ничем не лучше паравеев. Не зря говорят бывалые люди: два языка в хаонской пасти – один медовый, второй смоляной!
На что же, однако, надеялись лукавые хаонские старики?
Уж не на войну ли?..
Эпиру не нужна война.
Старший брат, Александр, тот, в чью честь сестренка Мирто назвала сынка, которого эти глупые македонцы отчего-то прозвали Божественным, думал иначе. Он убедил старейшин не противиться, собрал молодых воинов и ушел искать счастье куда-то за море. И, говорят, прославил себя и напугал многих доблестью эпирского копья – но он так и не вернулся в Додону. И мало кто из юношей, ушедших с ним, возвратился, пожалуй, один из каждой тройки; стоит ли слава и даже невиданная добыча стольких пустых мест у родовых очагов и слез девушек, которым так и не досталось мужей?
Эакид не уверен в этом. Как не уверен и в том, что сестренкин сынишка действительно вышел в боги. Достойные доверия люди, правда, ответственно утверждают, что его племянник Александр, рожденный Митро от македонца Филиппа, покорил множество земель там, откуда приходит солнце. Ну и что? Он, Эакид Молосский, тоже прославил себя навеки, дважды разгромив паравеев, и даже обложил данью восемь селений за Перребскими перевалами, но от этого, судя по всему, ничуть не приблизился к чертогам Олимпа…
Трудные мысли. Назойливые. Докучливые.
И еще одно тревожит: скоро уже конец ущельям. Впереди долины Фессалии. Там, если верить письму, ждет соединения с молосской пехотой этот, как его?.. Полисперхонт (ну и имечко, однако), который вроде бы хочет вызволить сестру из беды. Хорошо, если так. А ежели что изменилось? Письмо-то уже не вчерашнее, может статься, никто и не ждет уже на выходе из предгорий. Что тогда? Пидна далека. И как еще встретят горцев обитатели равнинных земель, богатых конницей и закованной в металл пехотой? Конечно, их, изнеженных, никто не станет упрашивать: три тысячи настоящих бойцов, тем более молосских бойцов – это не пять, даже не восемь тысяч долинного сброда. Но все же – три тысячи, всего только три. А металл есть металл. Брат Александр некогда увел с собою в Италию почти десять тысяч отборных юношей. И непохоже, чтобы это ему помогло…
Беспокойно на душе у царя, ибо он, и никто иной, отвечает перед богами очага и материнскими глазами за доверенные ему жизни сородичей.
И все же. Сестре нужна помощь. Значит, должно идти, и нет разницы: ждет ли там, в предгорьях, этот самый вождь с непроизносимым именем или нет. Лучше гибель, чем вечный позор, ожидающий бросившего родную кровь в беде. Таков закон гор, и это правильный, благородный закон!
Все темнее вокруг. Теснятся, толпятся, виснут на всклокоченных космах накидок и бурок липкие смолистые тени, нагоняющие тоску на сердце.
– Зажечь факелы! – отрывисто приказал базилевс. – И подтянуться…
Спустя несколько мгновений мглистые сумерки расцвели красно-желтыми лепестками огня, и волглый снег под кожаными башмаками заскрипел веселее.
Какое-то время тропа плавно снижалась, затем рванула вверх, затем снова пошла вниз – и вдруг резко свернула, сделалась гораздо шире, и пред глазами рывком распахнулось свободное от скалистых нагромождений пространство, и неожиданно, как река в море, дорога влилась в неоглядный, густо затканный паутиной предвечерней тени простор бескрайних фессалийских равнин.
Ширь и пустота, куда ни кинь взгляд. Молоссы робко топчутся на месте, подавленные изобилием ровного и ничем не ограниченного пространства. Большинство из них, даже бывалые, добредавшие до самого побережья, никогда не видали ничего подобного. Удивительное зрелище: вечер необъятной равнины, осиянной совсем еще слабыми проблесками лунного света, истекающего с небес сквозь рваные прорехи в низко нависших тучах. Запад доцветает темным багрянцем. А на востоке, вроде не так уж и далеко отсюда, в совсем уже смоляной толще накатывающейся ночи, нечто шуршит и пристукивает, и ворочается, и сопит, словно огромный зверь просыпается в своей берлоге.
Псы негромко рычат, извещая хозяев о необходимости удвоить внимание.
– Стоять! – приказывает Эакид, вслушиваясь во тьму.
И не отшатывается, когда рядом вырастает, словно из-под земли, человек. И еще один. И еще. И кто-то урчащий, перекрученный, с головой укутанный в покрывало из тонкого войлока. Тихое змеиное шипение успокаивает зарычавших было погромче волкодавов. Приподнимаются склоненные было копья идущих в первом ряду.
Это – свои. Вернулись разведчики, уходившие вперед.
И, похоже, вернулись не пустыми.
– Государь! – слышен простуженный шепот. – Дальше пути нет…
В трех тысячах глоток замирает дыхание, и шесть тысяч глаз ожидающе прищуриваются.
– Почему? – спрашивает царь.
– Македонцы. Конные и пешие. Много. Остальное, мой господин, пусть скажет он…
С головы связанного срывают башлык. Он шумно втягивает чистый воздух и, кажется, собирается завопить, но холодное лезвие горского кинжала, нежно и плотно коснувшись шеи, не позволяет ему поступить столь неразумно. А спустя миг глаза пленника, свыкшись с полумраком, различают волчьи шапки с выпущенными хвостами, укрывающие головы пленителей, и становятся белыми и круглыми.
Он больше не хочет шуметь! Нет-нет! Он будет тих, как сытая мышка. Он понимает, в чьи руки попал. И, конечно же, готов говорить. Тихо. Подробно. Не скрывая ничего. Тогда его, возможно, и даже наверняка, убьют без всяких мучений. Или даже – в это, конечно, нелегко поверить, но хочется! – оставят в живых. Молоссы, спору нет, дикари, и у них свои обычаи. Но все же они – не фракийские дикари, считающие пощаду слабостью. И не татуированные иллирийские душегубы. Они полагают себя родней эллинам, даже более близкой, чем македонцы. Сами эллины, правда, думают иначе, но только те, что живут в безопасном отдалении от эпирских гор. Ближние же соседи предпочитают не спорить. Тем более что молосская речь и впрямь сродни греческой, пусть и не нынешней, а звучавшей много веков назад…
И пленник говорит, не дожидаясь вопросов.
Тихо, внятно, толково, со всеми необходимыми пояснениями.
Он знает не так уж много, но и совсем не мало, этот десятник из отряда легкой пехоты, специально для этого похода набранной Кассандром, наместником Македонии, из северных горных фракийцев, умеющих ходить по заснеженным тропам. Он излагает доходчиво и бойко, а затем краткими словами исчерпывающе отвечает на немногие вопросы, имеющиеся у царя. И поэтому Эакид, выслушав пленника, приходит к выводу, что македонец заработал жизнь. Да, вполне заслужил! – подтверждают близкие. А воины одобрительно кивают, и понятливые псы, тоже согласные с царским решением, виляют кудлатыми хвостами. Что делать с ним, живым? Решим позже. Пока что, во всяком случае, отпускать не стоит. Пускай побудет здесь, на глазах…
– Стеречь! – тихо говорит базилевс молоссов, спуская с поводка Снежка, и отворачивается, уже не тратя времени на думы о пленнике. Никуда не денется македонец. Пес проследит.
Эакид сбрасывает с плеч верхнюю накидку, расстилает ее на снегу и, поджав колено, опускается на овчину, кивком подзывая доверенных. Следует думать. Думать всем вместе. Четыре умные головы вчетверо лучше одной. Даже если эта одна – царская…
Итак: все кончено.
Никто не ждет молосскую пехоту в предгорьях. Полисперхонт не устоял. Он разбит и отступил неведомо куда.
Некуда больше спешить и некого спасать. Пидна пала.
Сестренка в руках Кассандра. Это плохо. Очень плохо. Хуже некуда. Кассандр, сын Антипатра, не любит ее. И Антипатр тоже не любил, даже прогнал ее из Пеллы, хоть и была она матерью Божественного царя. Теперь Мирто в руках ненавистников. И ее внучок, сын покойного племянника Александра, ставшего, как говорят македонцы, божеством, тоже в плену…
Эакид зло сплевывает, и потрескавшиеся на сквозном ветру губы болят.
Слабосильный, однако, божок, так и не сумевший уберечь родную кровь от несчастий!..
Горько на душе.
Не поспели. Проворонили. Прозевали. Вся родня в руках Кассандра. Сестра. Дочка ее, племяшка, жена покойного брата. Внучок. Закованы в цепи. Увезены незнамо куда. И его, Эакида, дочурка тоже в плену. Сестра забрала ее с собой прошлым летом, сулила подыскать завидного жениха, такого, что о выкупе за невесту сто лет будут слагать песни в молосских селениях. М-да. Вот тебе и выкуп. Зря польстился на посулы.
Зря отпустил девчонку с Митро. С Олимпиадой…
Лишь одному из родичей, если верить пленнику, оказал почет Кассандр, вступив в Пидну. Несчастному дурачку, сынишке племяшки Клеопатры и брата, сгинувшего за морем…
Смех, да и только!
Прикрыв глаза, видит перед собой Эакид подслеповатые поросячьи глазки юного Неоптолема, обрамленные реденькими рыжими ресничками, тупой, некрасиво вздернутый носик, вечно полураскрытый мокрый рот с капелькой слюны в уголке покрытых отвратительными болячками губ.
Правы были жрецы Великого Дуба, протестуя против брака племянницы с родным дядей. Но за кого же было выдавать Клеопатру, если нет в Ойкумене крови, равной достоинством крови Эакидов?
И на эту пустую голову торжественно напялил наместник Македонии Кассандр златокованый обруч! И послал восемь тысяч фракийцев, чтобы утвердить недоумка на додонском престоле, сбросив Эакида, чье право на диадему Эпира, по мнению Кассандра, не столь твердо, как право дурачка Неоптолема.
Восемь тысяч горных стрелков, не хуже молоссов умеющих избегать опасностей, таящихся в заснеженных ущельях…
Вот это уже совсем не смешно.
Кассандру мало Македонии.
Кассандру нужен Эпир.
И даже не сам Эпир. Ему нужна царская кровь. Кровь рода Эакидов. Поскольку с Аргеадами македонскими, можно считать, покончено навсегда.
Плохо.
Темно-синие глаза молосса гневно сужены.
Будь проклята вовеки веков ядовитая македонская кровь! Плевать на Аргеадов! Но что осталось от Эакидов, от великого рода, идущего от Олимпийцев? Этот дурачок, не имеющий собственной воли, лепечущий по-детски на восемнадцатом году жизни? Сын сестры от македонца, хоть и божественный, спился и сгинул от хвороб, не дожив и до сорока… а ведь редкий из молосских царей, взять хоть отца Аррибу, хоть деда Алкету, уходил к предкам, не отметив восьмидесятую весну!
В недобрый час решил покойный брат забрать Мирто из храма. Конечно, брак сестры с быстро набиравшим силу царем Македонии сулил немало выгод, но разве можно было забывать, как страшно способны мстить ревнивые боги?!
Дионис не простил.
И теперь единственный росток умирающего древа, последняя капелька чистой, не замутненной ничем божественной крови Ахилла – его, Эакида, сын. Хвала богам, Эакида не предназначали в цари; никто не мог предположить, что брату не суждена долгая жизнь, и царевичу Эакиду дозволили жениться по любви. Раннее вдовство Олимпийцы вознаградили замечательным наследником. Поздним и потому вдвойне любимым…
Царь невольно усмехнулся, припомнив пухлый, непоседливый и голосистый комок ярко-рыжей, заливисто хохочущей жизни, цепляющийся розовыми пальчиками за жесткие пряди нечесаной отцовской бороды.
Пирр, сынишка…
Но улыбка тотчас умирает на потрескавшихся устах.
Что ждет сына? Ведь восемь тысяч фракийских стрелков не просто так идут на Додону. И нелепый золотой обруч недаром венчает бестолковую голову Неоптолема, отныне и навсегда – послушной Кассандровой куклы, неспособной даже осмыслить свое унижение. И хаонские селения, несомненно, встретят наемников македонского правителя молоком и хлебом, потому что Кассандру ни к чему их нищенская дань, их овцы и вяленая рыба, ему нужны всего лишь башни на отрогах гор и ущелья, где можно поставить посты.
Хаоны – плохой народ. Недобрый. Не приходится ждать от них верности молосскому престолу…
А феспроты… Что феспроты? Их забота одна: была бы пашня тучной и пошел бы вовремя дождь. Они отучились защищать свободу и честь, уже два века отсиживаются за широкой спиной братской Молоссии. Феспротам безразлично, кому платить дань, лишь бы дань не увеличивали, а Кассандр не станет требовать лишнего…
Эакид вскидывает голову.
Обычай гласит: царь в ответе за все. Ему – главная слава в час удачи. С него и ответ в годину беды.
Решение очевидно.
Однако же надлежит узнать мнение ближних. Ведь нельзя исключить, что кто-то подаст дельный совет. И кроме того, царь, не желающий слушать советов, – скверный царь.
– Говорите, – приказывает Эакид.
Трое советников перекидываются взглядами.
Похоже, каждый из них думает так же, как и базилевс.
Всем известно: Кассандр злопамятен, цепок и упрям. Он не успокоится, пока живы те, в чьих жилах течет не кровь, а божественный ихор[24]. И Аргеады, и Эакиды – преграда на его пути. Впрочем, с аргеадами, можно считать, покончено. А за Эакидами Кассандр придет в Эпир, придет во что бы то ни стало. Сейчас удача улыбается ему, враги усмирены, казна полна, и воинов хватит для десятка походов. А в Эпире – государь полностью прав! – македонца поддержат неблагодарные хаоны, потому что у хаонов нет стыда и они не желают согласиться с тем, что опека Молоссии благодетельна. Бесспорно и то, что мало надежд на феспротов – те хоть и братья, а все же останутся в стороне, ибо малодушны и боязливы, не чета гордым и отважным молоссам.
Значит, война проиграна, еще не успев начаться.
Сейчас не устоять. После? Возможно, даже наверняка. Все переменится к лучшему. Равнодушная Ананке-судьба капризна, и самим Олимпийцам неведомы ее причуды, Кассандр быстро наскучит капризнице. Но теперь… Нет ничего страшнее зимней войны, которая пришла неожиданно. Ни подготовиться. Ни предупредить об опасности. Скоро, очень скоро по молосским поселкам пройдут, врываясь в дома, жадные до крови и добычи фракийцы-наемники, и, разделенные завалами мокрого снега, не чающие никакой беды сонные селения вынуждены будут подчиниться, спасаясь от испепеления, особенно если с побережья, через плоскогорья Хаонии, двинется по воле Кассандра второе войско, зажимая беззащитные земли молоссов в железные тиски блокады…
– И что же? – торопит ближних царь.
– Нам не устоять, – первым решается произнести неизбежное Аэроп, седой исполин, даже сидя на голову возвышающийся над остальными. Ему проще сделать это, чем кому-либо другому, ибо его никто не заподозрит в робости. – Нужно уходить. Что до меня, государь, то я – с тобой. Всегда и везде. До конца.
Ему можно верить. Он – не просто тень царя. Он – почти брат. Некогда родство его с царской семьей закрепила кровь, смешанная в деревянной чаше Александра, старшего брата, не вернувшегося из-за моря. Аэроп ходил с ним. Был рядом во всех сражениях. Кроме последнего, рокового. Кто знает, не валяйся он в тот день в малярийном бреду, быть может, Александр Молосский сумел бы покорить италийских варваров. Именно Аэропу выпало выкупить тело царя и предать его, владыку и побратима, огню. Аэроп повидал мир. Он мудр и честен, и царь Эакид слушает его, как слушал бы старшего брата…
– Нам не устоять ныне, – уточняет щуплый на вид, жилистый Андроклид, и узенькая, совсем козлиная бородка его забавно вздрагивает. – Но недолго молосская земля будет терпеть македонцев, поверь, господин, пусть даже Кассандр завалит Великий Дуб дарами по самую крону. Следует переждать. А я, по воле отцов и богов, не покину тебя…
Словам Андроклида – особая цена. По праву наследования Андроклид – томур, один из вековечных хранителей священной рощи. Он умеет провидеть грядущее и толковать тайный язык шелестящих ветвей Родителя Лесов. Придет день, и он возглавит сообщество томуров, каждое слово которых – закон не только для эпиротов, но и для любого, кто чтит Диоса-Зевса.
– Уходи, царь-отец! – хрипло взлаивает простуженной на ветру глоткой Клеоник, и на шее его – царь это знает, не глядя – от натуги наливается темной кровью сизая полоса, несмываемый след рабского ошейника. – Мы задержим их. А ты уходи!
Слова тонут в кашле. Так рвуще он кашлял, когда, давно уже, на горной тропе царь, вышедший поохотиться на снежного барса, подобрал полузамерзшего беглеца и не оставил, а взвалил на плечи, принес во дворец и долго отпаивал молоком и горячим медом, спасая от почти уже настигшей беднягу смерти. И смерть отступилась. А Клеоник так и остался с тех пор рядом с базилевсом и дважды уже спасал ему жизнь в набегах на непокорных долопов…
– Нет! – отвечает Эакид. – Царь в ответе за все. Уйдете вы! Уйдете сейчас же. Немедля. А я с войском останусь здесь. Клянусь листвой Дуба, мы покажем Кассандру, во что обойдется ему Молоссия!..
Глаза ближних тусклы и пасмурны. Но возражений нет. Царю в походе не перечат. Тем более что он прав. Плох вождь, не сумевший разглядеть ловушку. Но всякое бывает в жизни, и не попрекают неудачника несчастьем. Однако вождю, бросившему воинов в беде, недолго занимать молосский престол.
Не всегда смерть – наихудший из возможных исходов.
В отдалении жуют твердый сыр, режут мясо, шуршат ремнями и овчинами, перешептываются, щадя надорванные голоса, воины. Они даже и не думают прислушиваться к их разговору. К чему? Оружие наточено, псы натасканы, силы подкреплены пищей, а враг уже близко. Вот все, что следует знать бойцу перед битвой, а лишнее знание, как учат старики, не пойдет во благо.
Знать много подобает лишь базилевсу.
– Спешите в Додону. Ты, Андроклид, собери томуров. Скажи: пусть Отец Лесов не оставит Молоссию; пусть говорит людям, что беда не пришла надолго…
– Сделаю, царь-отец, – вскидывает бороденку Андроклид и вдруг хихикает. – Дуб не может отказать Неоптолему в благословении на престол. Он, увы, законный наследник твоего храброго брата. А вот благого оракула полоумный не дождется!
Вопреки всему, Эакид ухмыляется. Еще бы! Можно представить себе, как день за днем все беды Эпира станут приписывать неудачливости навязанного чужеземцами царя.
Ох, и нелегко же придется Неоптолему…
– Отличная мысль, дружище! – кивает царь. – Аэроп! Клеоник! Не мешкая, бросьте в небо дымы! Если придет достаточно людей, закройте перевалы… Впрочем…
Эакид досадливо щелкает языком. Глупо! Как мог он забыть о другом войске, вскользь помянутом пленником? О шести тысячах гоплитов-македонцев, что по воле Кассандра не нынче, так завтра высадятся с кораблей на побережье? И о тех сотнях хаонских юношей, которые, конечно же, пристанут к македонским воякам как по собственной глупой ретивости, так и по приказу своих хитроумных старейшин?..
– Нет. Не нужно дымов. Не стоит дразнить бешеных собак. Заберите семьи. Заберите казну. Короче, возьмите все, что успеете погрузить на мулов, – и уходите в Иллирию…
Аэроп исподлобья глядит на царя. Глядит с восторгом.
Мудрая, достойная базилевса мысль. Иллирийцы – отнюдь не друзья, напротив, они давние враги. Давние и честные. Они ведь тоже горцы, а законы гор запрещают отказать в убежище врагу, молящему о защите.
– Прощайте, друзья. Помните обо мне!
– Но господин!.. – взлаивает Клеоник, забыв обычай. Ему простительно. Он усыновлен молоссами, но по крови не молосс. Поэтому царь отвечает возразившему без гнева, словно несмышленышу в беседах взрослых:
– Довольно. Я сказал.
Все. Слово произнесено. Назад пути нет. Сняв с шеи витую цепь тусклого серебра с грубо отлитым золотым медальоном, изображающим орла, распростершего крылья, Эакид протягивает древнюю инсигнию[25] Аэропу.
– Отдашь моему сыну, когда подрастет. Верю: ты сумеешь воспитать его. Всем завещаю: пусть Пирр вырастет достойным молоссом. И пусть знает, к какому роду принадлежит. Я же не забуду вас, друзья, и в Эребе.
– Так будет, господин, – склоняет сивую голову гигант, и томур кивает, глотая непрошеную слезу, и шрам на шее Клеоника уже чернее сгустившейся тьмы.
Трое поднимаются со снега.
Они еще здесь, но уже и не здесь. Они уходят в жизнь и этим уже отделены от всех остальных, пока еще спящих, пока еще жующих, пока еще живых воинов, бестревожно ожидающих скорой битвы.
И от Эакида.
Вряд ли македонские наемники рискнут ввязаться в ночной бой. Значит, до утра продолжается жизнь. А на рассвете белизна ущелья покраснеет.
Три тысячи горцев, не боящихся умирать. Почти тысяча псов, уже дрожащих в предвкушении схватки. И узенький проход, открывающий кратчайший путь к сонным, заваленным мокрыми весенними сугробами поселениям горной Молоссии…
Рассвет будет жарким!
Наймиты Кассандра уплатят дорогую цену за открытый путь.
Но большего не сумеет сделать царь Эакид из рода Эакидов, потомок Ахилла-мирмидонянина.
Бывший царь.
А ныне – простой воин-молосс. Один из трех тысяч.
Трое все еще медлят, словно не решаясь уйти в спасительный мрак теснины. Трое переминаются на месте, глядя на сидящего преданными собачьими глазами.
И голос Эакида внезапно срывается в исступленный хрип, тихий, чтобы не беспокоить воинов, но полный отчаяния:
– Спешите же! Спасите моего сына! Вы слышите? Спасайте Пирра, царя молоссов!
Эписодий 2
Всего лишь мальчишка
Груда прелой, перемешанной с темным подтаявшим снегом прошлогодней листвы зашевелилась, и в приоткрывшейся щели мелькнула косматая борода. Один лишь быстрый взгляд вниз, в овражек – и опять никого. Тишь и безмолвие. Даже заяц, встрепенувшийся было на шорох, вновь замер столбиком, не углядев опасности. Пуст лес; ничего и никого кругом, лишь снег, кустарник и обмороженные за зиму до самой сердцевины деревья. Да еще еле уловимый, но с каждым мгновением крепнущий шорох, шумок, шелест. Судя по звукам, скоро в овражке появятся люди. Странно. В эту пору мало кому вздумается без крайней нужды бродить по лесу. Возможно, впрочем, людей ведет как раз такая нужда. Много ли их? Судя по шорохам, не очень: десятка три. Но все равно – больше, чем тех, кто поджидает их, укрывшись в завалах снега и размокшей листвы…
Топот, поскрипывание и неразборчивая речь все ближе.
И вот первые из идущих появляются у входа в лощину.
Это – фракийцы. Странно. Никогда не отправляются люди Фракии в набег ранней весной. Если же не набег, то что делать им в глуши порубежных лесов?..
Воины в высоких лисьих шапках, похожих на волчьи молосские, с пушистыми хвостами, лихо переброшенными через плечо, движутся по трое в ряд, равномерным, небыстрым на вид шагом, отчего-то именуемым равнинными людьми «кабаньим»; носатые лица их, иссеченные мелкими ритуальными шрамиками, сосредоточены, ноздри сторожко подрагивают, пытаясь уловить в весенней свежести воздуха людской дух. И ни македонцы-десятники, ни пожилой сотник, возглавляющий отряд, не обременяют наемников излишними вопросами и распоряжениями. Здесь, в горах, врожденное фракийское чутье много надежнее боевого опыта искушенных в сражениях вояк.
Чу!
Фракиец, шагающий впереди, замирает на месте, осторожно опуская выставленную было вперед ногу. Голова его медленно поворачивается налево, направо; ноздри напрягаются. И те, кто следует за ним, одновременно, слаженными движениями в единый миг изготавливают к броску короткие дротики.
Засада?
Нет… Не похоже…
Помедлив мгновение-другое, следопыт расслабляется. Все спокойно. Никого вокруг.
– Ну? – негромко спрашивает сотник, морщинистый и горбоносый, типичный уроженец равнинной Македонии, если судить по виду. – Чуешь?
Фракиец безмолвно мотает головой.
– Тогда – вперед! – приказывает сотник.
И, словно в ответ ему, лес кричит:
– Ст-о-ойте, люди!
Переваливаясь по-медвежьи, утопая почти по пояс в прели, из кустов выскакивает человек. Драная накидка свисает с его плеч, и расползающаяся на теле козья шкура не скрывает от взглядов посиневшую на морозце кожу.
– Остерегитесь! Засада-ааа!
Крик обрывается стоном. Вылетевшая невесть откуда короткая темная стрела вонзается в широкую спину, опрокидывая бегущего лицом в снег, и он падает, некрасиво растопырив руки, а со склона, прямо на замерзший внизу отрядец уже мчатся, безмолвно и страшно, пять серо-белых сгустков острозубой смерти…
Прыжок! – и один из фракийцев, не успев завопить, заваливается на спину; кровь тугой струей хлещет из разорванной пополам шеи. А из сугробов уже летят стрелы, высвистывая на лету песню погибели.
Но фракийцы – хорошие воины, плохих не нанимают щедрые и придирчивые вербовщики наместника Македонии. Быть может, не выскочи с предупреждающим криком этот незнакомец в лохмотьях, невидимые враги и сумели бы застать их врасплох. Но крик подарил наемникам два-три спасительных мгновения. Вмиг перекинув со спин на локти легкие щиты, сплетенные из ивовых прутьев, они разворачиваются в две шеренги, заслоняя от выстрелов уже готовых к стрельбе лучников, и в слаженном шуршании выдернутых мечей тонет визг убиваемых волкодавов.
Первый счет равен: пять псов за одного мертвеца и одного надолго покалеченного.
Хороший счет!
Снова стрелы. Вислоусый наемник, тихо бранясь, роняет щит, припадает на левое колено, и товарищи тотчас прикрывают его, сомкнув строй. Миг первого ошеломления миновал, фракийцы снова спокойны. За то им и платят, чтобы не бояться стрел. Тем более что там, в снегу на склонах, никак не более десятка лучников; пятеро слева, пятеро справа, примерно так. Опытный наемник без труда определит количество сидящих в засаде по плотности стрельбы. Ну что ж, и это не страшно. Враги попались в собственные силки и теперь обречены, если только не побегут сейчас же. Хотя, следует признать, расчет был точен: затаившись, поймать погоню врасплох, взять десятка полтора жизней внезапными стрелами и клыками боевых псов, прыгающих на спину, а затем – и только затем! – броситься врукопашную. Наверняка там, в засаде, нет тяжеловооруженных, способных вдесятером встать против тридцати. Гоплитам не пройти через размокший весенний лес.
Фракийцы обмениваются понимающими взглядами, безмолвно признавая: замысел тех, кто пока еще невидим, был удачен. Не появись, словно по воле богов, этот, в рванине, копошащийся сейчас на снегу в алой луже…
– Рассыпаться! – командует македонец-сотник.
Короткие плотные шеренги перестраиваются в редкие цепочки, каждый воин надежно укрыт плетеным щитом, каждый склонил копье, полностью изготовившись к бою, а десяток лучников со дна овражка следит за склонами, готовый в каждый миг градом стрел поразить любую появившуюся цель…
– Вперед!
И фракийцы медленно, не позволяя себе излишне отрываться от товарищей, идущих обочь, начинают карабкаться по косогору навстречу стрелам.
Спустя несколько мгновений их щиты расцветают оперениями. А еще через миг лес оглашается криками и звоном металла. Ненадолго. Восемь человек, как бы ни были они храбры и умелы, мало на что способны, сражаясь с двумя десятками врагов, каждый из которых кормится с копейного острия и искусен именно в такой, утерявшей строй схватке.
Последний счет: семь трупов на истоптанном алом снегу куплены жизнями четверых наемников.
Очень хороший счет.
Одному из сидевших в засаде, впрочем, повезло: он увернулся от смертельного укола копья и вот уже бежит, трудно переставляя ноги, предательски утопающие в заснеженных грудах скользкой и мокрой листвы.
Повезло ли?
Плечистый фракиец, усмехнувшись краем губ, прищуривается, вскинув лук. Длинный торжествующий свист рассекает стылую свежесть. Трехгранный наконечник вонзается бегущему точно в затылок; тот на миг замирает, вскидывает голову, всплескивает руками, словно в безмерном удивлении, и медленно опускается на колени, а затем, опять же неторопливо, укладывается на бок. Все. Можно не проверять. Выстрел был безупречен, словно на показательных стрельбах. Фракийцы не едят даром хлеб нанимателя.
Воины, обтирая мечи, спускаются в овражек. Споро, без лишних слов, пригибают к земле ветви, привязывают своих погибших, всех пятерых. Нет, шестерых: тот, кого порвали псы, тоже уже не дышит. Пусть висят. На обратном пути тела следует забрать, пока же они – обуза. А что до чужаков, напавших исподтишка, так их тела мало интересуют фракийцев. Лесному зверю по весне необходима пища, а заботиться о павших врагах ни к чему. Не по обычаю, да и много чести…
Безмолвно шевеля губами, фракийцы обнажают головы, вознося благодарность великому Залмоксису за дарованную победу, и просят достойно и приветливо встретить в заоблачных высях безвременно павших собратьев.
А затем окружают спасителя.
Тот стонет, неловко ворочаясь в кровавой луже. Смерть обошла его стороной, и рана в правом плече не так уж опасна, но крайне болезненна. Фракийцы озабоченно переглядываются. Этому человеку отряд обязан жизнью и победой. Залмоксис велит платить добром за добро, и неписаный воинский обычай говорит о том же.
Ободрительно балагуря, из его плеча быстро и не очень мучительно извлекают стрелу. С подлым крючковатым наконечником, правда, приходится повозиться, и на лбу раненого выступает крупная испарина. В одной из наплечных сумок находится остро пахнущая целебная мазь и чистая тряпица. Вскоре предупредивший о засаде перевязан и переодет в сухую одежду, извлеченную из сумки одного из павших. Душа убитого, если не отлетела еще далеко, несомненно, одобрит этот поступок оставшихся в живых. В руки раненому дают ломоть сала, и он, блаженно застонав, вонзает в пахнущую диким чесноком соленую мякоть крепкие желтоватые зубы.
– Кто ты? – присев на корточки, спрашивает сотник-македонец дружелюбно и ласково.
Человек отвечает не сразу. Он тщательно прожевывает пищу, сглатывает, словно и не расслышав. Он знает: сейчас ему позволено многое…
– Кто ты? – терпеливо повторяет македонец.
– Я – раб Эакида, – отвечает спаситель, и в глазах его вспыхивает ненависть. – Меня называли Кроликом.
Он не лжет. Никому не под силу подделать эту сизо-багровую полосу от жесткого ошейника на худой жилистой шее. Македонцу, правда, не приходилось слышать, чтобы здешние горцы сажали рабов на привязь, как цепных собак, но… всякое, что ни говори, возможно. В конце концов, если культурные эллины позволяют себе такое, да еще и много чего покруче, отчего бы дикарям не позволить себе столь невинное подражание?
– Ты – не раб, – мягко поправляет спасителя сотник и дружески, почти как равному, подмигивает. – Уже не раб. Ты купил свободу честно. Клянусь, мы доставим тебя в Додону, подлечим и снабдим деньгами на дорогу домой. Ты увидишь семью, дружище! Тапа этти краннахи, парни? – завершает он по-фракийски, обернувшись к наемникам.
И те, весело ухмыляясь, подтверждают наперебой:
– Эт-тапа краннах и-каттарпе, Залмоксу-т-ти!
Они и не думают возражать командиру. Этот оборванец отныне может считаться вторым отцом каждому из воинов, спасенных им от неизбежной гибели. По фракийскому обычаю, он, буде изъявит такое желание, может быть принят в род любого из спасенных. По македонскому же закону, спасенные обязаны исполнить самое заветное желание спасшего жизнь. А что может быть заветнее, нежели мечта о возвращении домой?
– У меня… нет семьи…
Пополам с неугасающей ненавистью в темных глазах несчастного – смертная тоска. Фракийцы, мало смыслящие в греческой речи, и те смущены искренностью его боли. Они хотели бы помочь, да не знают, как. А македонец, дослушав, сочувственно гладит спасителя по здоровому плечу.
Да уж. Здесь не поможешь. И как не понять? Шторм и разбившийся о прибрежные скалы корабль с переселенцами, хаонские пираты, ну и дальше все, как положено. Жена с дочерью сгинули неведомо куда, а самого кузнеца, прознав об умении, отослали в горы, к молосскому царю, велевшему не скрывать от него искусных мастеров.
– Я понимаю железо… – хрипит бедняга. – Умею искать руды, могу плавить бронзу. Знаком и с серебром. Эакид велел приковать меня к горну и назначил выкуп за свободу: тысячу мечей за себя и еще полтысячи за сына…
– Ух! – возмущенно взмахивает руками молодой фракиец, слегка разумеющий греческую речь, и переводит своим побратимам, оживленно размахивая руками.
– У-у-у! – гудят наемники, понимающе переглядываясь.
Что и говорить, нехороший человек этот молосс Эакид. Жадный. Бесчестный. Выкуп – другое дело, это справедливо. Но никак не назвать божеской цену свободы, назначенную кузнецу. Ведь один хороший меч равен семи дням труда, если не считать заточку и насадку на рукоять. А если считать, так и полным девяти. И это – если работать на себя, в охотку, не испытывая скудности в пище и должным образом отдыхая. Ну, а полторы тысячи, да еще из-под плети…
– Совсем дикий человек царь молоссов! – заключают, покачивая головами, фракийцы, и подергиваются ритуальные шрамики на впалых щеках. – Что там говорить, очень плохой человек, недобрый! Жаль, умер легко и красиво…
– Я сказал: это слишком много! Дайте мне посильный урок, и я выполню его! – Беглец говорил, никак не умея остановиться. Похоже, он давно уже мечтал выговориться перед доброжелательными слушателями. – Тогда они привели моего сына и… отсекли ему ухо. И спросили: стану ли я спорить дальше? Я не стал. Но боги не благословили мой труд…
Сотник кивнул. Еще бы! Оружие – не глиняный горшок! Кователь должен вкладывать в каждый клинок частицу души. Недаром у эллинов – мудрый все же народ, что там ни говори! – невольникам доверяют лишь раздувать горн в кузне, и даже вольноотпущенники допущены разве что к работе с кувалдой. Темная душа – скверное оружие…
– Из десяти мечей только на одном, и то – в лучшем случае, не стыдно мне было поставить свое клеймо…
Ого! Македонец удивленно приподнял бровь. Немногие умельцы имеют право клеймить мечи собственным знаком. Особая цена такому оружию, и если их спаситель не лжет, тогда понятно, отчего варварский царек назначил такой непомерный выкуп. Кто же захочет отпускать бесценного невольника?
– Каков же твой знак, умелец? – словно бы невзначай интересуется сотник.
– Три молнии в круге! – неожиданно звонко и гордо отвечает мастер.
О! Вот как?!
На глазах у изумленных фракийцев македонец уважительно склоняет голову, и пучок перьев на гребне шлема мелко вздрагивает, словно волнуясь.
Три молнии в круге!
Знак известный, знак почетный!
Немало стоят клинки, меченные этим клеймом. Увы, давно уже не появлялись они в оружейных лавках Эллады. Знатоки полагали, что мастера уже нет в живых.
Боги! Каким же дикарем был этот молосс Эакид!
– Господин! – Спаситель вскидывается вдруг, глотая слова, и в расширенных темных глазах его появляются радужные просверки безумия. – Господин! Не медли! Поспеши, не то они успеют уйти…
Ноздри македонца мгновенно напрягаются, словно у ищейки, почуявшей дичь. Он даже не спрашивает, о ком говорит раненый. Он понимает с полуслова.
– Ты был с ними?
– Да! Меня взяли с собой. Других рабов не взяли, а меня прихватили. Я ведь очень дорого стою, вот меня и хотели подарить иллирийцам. Но я бежал! Поспеши же, господин, иначе опоздаешь…
Лютая ненависть, переливаясь через край рассудка, клокочет в глотке оружейника.
Нельзя медлить! Ближние Эакида уже почти у иллирийских рубежей, им немного осталось шагать до реки, а там – хоть и половодье, а брод отыскать можно, если как следует постараться, хороший брод, такой, что и мулы сумеют преодолеть бурный поток…
«Спешите!» – гримасой и взглядом требует бывший раб. – Не дайте спастись отродью Эакида! Мой сын умер у них, как никому не нужный щенок! – кричит он вслух. – Сына за сына! Пойдем, господин, я укажу вам короткий путь!
Глаза вонзаются в глаза.
И сотник сознает: это – удача. Сказать по правде, он почти не надеялся уже нагнать уходящих, он готов был к неуспеху и к наказанию.
Но теперь…






