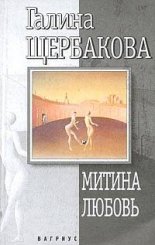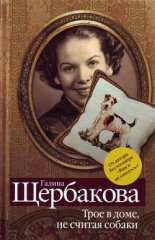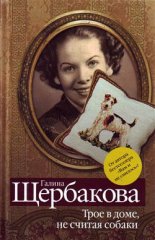Армия любовников Щербакова Галина
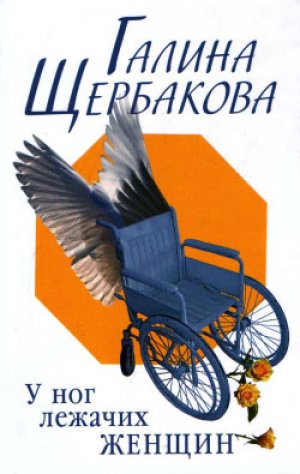
Лябовь…
Лябо…
Ля…
Слово было исковеркано самым стыдным образом. Слово было изнасиловано изувером, и Ольга вдруг поняла, что никогда больше она не сможет услышать так, как раньше, что это наглое, с раскрытой пастью «я» уже встало впереди всей азбуки и корячится, и крючится, находясь в Радости Первого Лица и насильника тоже…
Я тоже запомнила это слово навсегда. Потом даже решила, что ничего в нем страшного нет. В какой-нибудь русской губернии вполне могут так говорить. Вообразила себе деревню-брошенку. Легко, радостно побежало по ней слово. Ах, эта неприкосновенность, это целомудрие речи, уже порушенное, и иногда столь замечательно точно. Тут слышу: «Он такой цепур голдовый». Переспросила: «Это кто?» — «Ну, этот, что пальцы веером!» — «А! Как вы сказали?» — «Цепур голдовый. Да понятно же, понятно!.. Золотая цепь на шее там или еще где». — «На дубе том…» — добавила я. — «Ну, это уже грубость… Люди могут обидеться».
Я уже ляблю лябовь… Из далекой, придуманной мною деревеньки мне беззубо улыбаются бабки. «Ишо не то говорим, милка, ишо не то…»
Слово заслонило факты жизни. А они были таковы, что Ольга ехала с Сэмэном в Тарасовку.
Он сказал ей, что душой млеет в подмосковном лесе. Что он в нем как в материнской утробе.
Тепло, нежно, влажно.
— Поэт ты наш, — смеялась Ольга. — Я же про себя знаю другое. Я дитя бетона и асфальта. В лесу мне холодно, в степи мне жарко… Моря я боюсь… Горы меня подавляют… Мне нужна горячая вода с напором, теплый сортир, огонек газа в любую минуту. Телефон, телевизор…
Но Сэмэн ее не слушал, он смотрел в окно, а она только-только приготовилась сказать ему, что так же страстно, как лес, он любит грошики, но именно в лесу они как бы и без надобности. Ежики и елки — все бесплатные… Но смолчала. Как сказал этот щедрый на наследство Иван Дроздов? Мы не те, какие есть на самом деле. В нас во всех к чертовой матери перепутаны сущности…
«Ничего лично во мне не перепутано, — сказала себе Ольга. — Я проживаю свою собственную жизнь».
Тогда почему ей так тоскливо и хочется выпрыгнуть из электрички? А Сэмэн, наоборот, продолжает млеть, хотя чего млеть-то? Кругом грязь и спятивший с ума дачник, рубящий лес налево и направо…
Приближалась Тарасовка.
Когда они подходили к дому, сестра Ивана Дроздова вывозила со двора груженую коляску под конвоем милиционера.
Увидев Ольгу, она благим матом стала на нее орать, и никому бы мало не показалось. «Проститутка» и «спекулянтка» — это были самые деликатные слова ее речи. Слова Ольги о том, что она приехала, чтоб все вернуть, просто нельзя было услышать.
— Вы! Полицай! — закричал Сэмэн милиционеру. — Остановьте бабу!
Теперь пришлось отвечать за полицая. И не было другого способа, как бежать в дом, где сестра Кулибина прикладывала к лицу мокрое полотенце. Она с ненавистью посмотрела на Ольгу и сказала, что всю жизнь жила с соседями в ладу, а теперь вот такой скандал…
— Не надо брать чужого, — зло ответила Ольга.
— Это же ты! Ты! — кричала сестра. — Он тебе привез свою мазню, я для тебя ее держала.
— Я же и виновата, — возмутилась Ольга, уходя со двора.
— Як казала моя бабуня, — засмеялся Сэмэн, — и на нашей вулици собака насэрэ.
Но на станцию он идти отказался, сказал, что раз приехал — то приехал. Он сходит к этой тетке. «Глянуть надо…»
АЛЕКСЕЙ
Электрички в тот час отменялись одна за другой. Ольга замерзла, а когда поезд все-таки подошел, он был забит так, что она испугалась — не втиснется. Но ее хорошо примяли сзади, и она все-таки попала в тамбур, остропахнущий и горячий. Закружилась голова, и она подумала: «Не страшно. Тут я не упаду». Какое-то время ей даже казалось, что все-таки она теряла сознание, и в таком состоянии была протащена в вагон, там, прижатая к стенке, она сумела даже ухватить глоток ветра из окна. В Мытищах ей повезло сесть, и она, уже сев, снова как бы потеряла сознание, но тоже страшно не было. Там, в сумерках мысли, она даже поговорила с Иваном Дроздовым, сказала ему, что о нем думает: надо же сообразить привезти ей картины, кто он ей, кто она ему? Он ей что-то объяснял, но в гаме людей она плохо его понимала и стеснялась, что его дурь (а что умного он может сказать?) могут слышать посторонние и будут удивляться, что такая вполне приличная дама имеет отношение к идиоту. Поэтому Ольга смущенно улыбалась налево и направо, показывая этим, что она отдает полный отчет в том, кто такой Иван Дроздов и где ему место.
В медпункте ей сунули в нос нашатырный спирт, голова стала ясной и легкой, было некоторое недоумение, как она сюда попала, но сразу все выяснилось: ее привел мужчина — «вот он!» — и она не первая сегодня, большой сбой в расписании и все такое.
Мужчина спросил, куда ей ехать.
— Посадите меня в такси, — попросила она и стала искать сумочку, но ее не было.
— У вас с собой ничего не было, — сказал мужчина.
Но она-то знала, что с ней была кожаная сумка с деньгами и ключами и с другой разной дребеденью. Ее втолкнули в тамбур, и она держала сумку буквально на груди.
— Поверьте, — мужчина как бы оправдывался, — я внимательно посмотрел вокруг вас. Попутчики сказали, что вы сели ни с чем.
— Я вам верю. Тогда дайте мне телефонный жетон.
Кулибина не было. Значит, квартира все еще проветривается. Позвонила Маньке — занято.
— Поедемте ко мне, я тут рядом, — решительно сказал мужчина. — От меня дозвонитесь, и за вами приедут. Я зовусь Алексеем.
Они сели в трамвай и через десять минут были на Переяславке, а через двадцать она сидела в кресле довольно обшарпанной однокомнатки и ее поили чаем.
…Она вдруг четко вспомнила то свое состояние перед щелью между электричкой и платформой: ей ее не перешагнуть. Было не просто предчувствие падения, было само падение, иначе как бы она знала шершавость бетонной плиты, жар колес, разверстость земли, узость щели, которая по мере падения в нее пахла все время по-разному, и где-то глубоко-глубоко был сладко-пряный запах молозива, — Господи, она сто лет уже забыла это слово, а тут оно вернулось. Но в этот момент ее дернули за руку, и она переступила.
Она долго звонила. У дочери по-прежнему было занято. И дома никого. Была зла невероятно на всех. Хотя, как выяснилось потом, история была проста и забубенна. На телефонной линии, что к Маньке, произошла какая-то поруха.
Изгнавший всех из квартиры Кулибин забыл свои ключи дома. У Сэмэна ключей не было. Случилась эдакая забавная всеобщая потерянность.
То, что она осталась ночевать у первого попавшегося, то, что ее мозг оказался ленив и не придумал других вариантов, а даже как бы обрадовался возможности не думать, станет вопросом завтра. На тот же момент существования нигде было самое то.
— Знаешь, — скажет мне потом Ольга, — я поняла бомжей. Поняла неразборчивость их жизни. Тут как тут… Не тут, так там… Без разницы. Когда не надо выбирать, снимается почти вся тревога… Свобода выбора? Не морочь мне голову. Это изыск! Это рюшик! И головная боль… Счастье не в выборе. В его отсутствии.
Боже! Как я на нее кричала своим сохнущим от нервности горлом, как я ее уличала! А она хотела от меня сочувствия. Ничего больше.
Кулибин же, несколько раз выходивший к автомату, решил, что Ольга у кого-то из знакомых, а может, вообще осталась в Тарасовке. Он подумал, что, не дозвонившись до Маньки, она сообразит позвонить в службу ремонта и успокоится. Ольга же решила, что Кулибин трясется над беременной дочерью и ему неохота возвращаться в дух ремонта. Конечно, был Сэмэн, который вернется… Ну так пойдет куда-нибудь, жил же он где-то до них…
Лежа в чужом доме, на чужой простыне, Ольга думала, что двадцать лет тому назад такое было невозможно просто по определению. Десять лет тому назад она бы сто раз подумала. Последнее время с ней только так и случается. Даже если свои простыни, то мужчины на них совсем чужие.
«Я свободна от общественного мнения, — думала о себе Ольга. — Из меня вырезали орган, который отвечал за это». И она зависла над оставшейся в ней пустотой (сгинь, проклятая!), в которой когда-то кишмя кишел страх — страх зависимости от отношения к ней не просто чужих, а чуждых ей людей. Все детство, вся молодость были прошиты этими нитками. Ибо нет ничего более ядовитого и злобного, чем то, что «люди скажут». Ведь никогда не скажут хорошо, а плохое нанизают, как монисто, длинное такое монисто, которое много раз можно обмотать вокруг шеи, до состояния полного удушения. Сейчас она не то что разорвала его — сейчас она близко не допустит к себе эти дрожащие, скрюченные, злобные пальцы людей… Ольга повернулась на бок, скрипя чужим диваном. «Вот вам»… «Вот вам»…
Потом она провалилась в тяжелый сон, а когда проснулась, была чернющая ночь и все уже выглядело совсем иначе. Почему все время занято у дочери? Почему Кулибин не вернулся домой? Почему она как дура поплелась за этим громко спящим в кухне мужчиной, почему легла на этот обшарпанный диван, до какого маразма можно дойти, если потерять над собой волю…
Она тихо оделась и тихо вышла. На улице была ночь, машин не было. Она выскочила навстречу первой попавшейся, но та объехала ее, как объехала бы лежащую собаку или камень. А вторая даже набрала скорость, чтоб проскочить мимо и не увидеть лица человека с протянутой рукой. Третья, правда, проезжала тихо, и ее как раз рассмотрели внимательно и, уже рассмотрев, припустили дальше.
— Вас тут никто не возьмет. — Оказывается, он вышел за ней и наблюдал. Алексей.
— Им что, не нужны деньги? — возмутилась Ольга.
— Но у вас же их нет, — засмеялся Алексей.
— Но я ведь не сирота казанская, — кричала Ольга. — Я с ума схожу, не случилось ли чего у дочери.
— Сходите с ума в доме, — сказал Алексей.
— Нет, я уеду, — кричала она. — Если вы такой чуткий, дайте мне деньги. Я верну вам сегодня же.
Он протянул ей деньги. Она подошла к фонарю посмотреть, сколько. Он дал ей бумажку в пятьдесят тысяч.
«За такие деньги меня никакой дурак не повезет к Маньке! Он что? Этого не понимает?»
— Спасибо, — сказала она. Что он за человек, если не понимает: ночью машины ездят за другие деньги! Они нюхом чувствуют слабую платежность стоящей на дороге женщины, вот и проскакивают мимо.
Пришлось возвращаться в дом. Ольга видела раздражение мужчины и то, как он сунул деньги в карман, а потом ушел в кухню и, судя по звукам, рухнул на раскладушку одетый, она же присела на краешек дивана, как будто сейчас встанет и уйдет, а было всего ничего — половина четвертого.
Утром телефон был починен. Манька прежде всего спросила, сколько денег у нее было в украденной сумочке. Узнав, цокнула зубом.
Алексей довел ее до троллейбуса. Они шли, она пыталась разглядеть его внимательней, потому что не помнила его вчерашнего. В одной из подворотен возникло невероятное желание отдаться этому случаю и вернуться в обшарпанную (при белом свете особенно) квартирку.
«Подворотня» тут ключевое слово, скажет она потом. Просто место прохода, но не выхода. Но она-то уже знала, что это не так. Другой ряд. Подворотня… Вор. Ледяные капли за ворот. Воротило. Почему-то сюда же прибивалась ворона.
Она смотрела, как мужчина остался на улице. Плоховато одетый, из плохой квартиры, с пятьюдесятью рублями наличности. Она пробила талон, который ей дал Алексей, и ее тут же настигла контролерша. Посмотрела на дырочки, а потом — почему-то с ненавистью — на Ольгу. Почему так? Почему с ходу? Что ты обо мне знаешь, баба? Взгляд, которым ответила Ольга, был такой силы, что контролерша выпрыгнула из троллейбуса минуя ступеньки.
Ольга засмеялась ей вслед. Ну что ж, ну что ж… С ней все в порядке, в полном! Если она разит глазом.
Кулибин сидел на лестнице.
— Что? Не придумал, как открыть дверь? — спросила Ольга.
— А как? Как? Кроме как раскурочить? — развел руками Кулибин.
— Чего тогда сидишь? — возмутилась она. — Курочь!
— Подумать надо, — вяло ответил Кулибин. — Почему у Маньки нет наших ключей? На такой случай. Что за идиотия!
В конце концов дверь им открыл Сэмэн. Пришел с парнем, колдовали, колдовали — и открыли. В квартире стоял собачий холод. Все это время Ольга просидела у соседей в кухне, и хотя те были милы и сочувственны, Ольга понимала, что она их достала, что жалобная история, как ее обштопали в электричке, уже сходит на нет, что соседи сейчас вступают в опасный момент «энтузиазма доброты», которая уже совсем не доброта и ничего не имеет общего с сердечным порывом. Кто ж виноват, «энтузиазм» — слово, которое изначально опорочено нами же самими… Еще говорят «голый энтузиазм». Хотя у соседей был другой случай. Случай вполне и пристойно одетого энтузиазма… Но он уже напрягал.
Спасибо Сэмэну.
Потом Кулибин ей скажет, что все эти мастеровые дверей говнюки, если простой хохол может вскрыть замок. А посему, как только Сэмэн все закончит, надо будет его, замок, сменить… Мало ли… Тем более что и ее ключи украли… «У тебя в сумочке случайно не было адреса?»
— Успокойся, не было, — ответила она, хотя как раз думала, что на случай какого-нибудь несчастья (тьфу! тьфу! тьфу!) хорошо бы иметь при себе и адрес, и телефон, и имя-отчество. Мало ли…
«Но я не думаю эту мысль, не думаю, — шептала Ольга. — Просто надо быть предусмотрительной. Просто для страховки»…
Они так намаялись с этой дверью, что Ольга напрочь забыла спросить у Сэмэна: ну и что там за картины, стоило смотреть?
Он расставил их по стенке. Четыре картинки. Ольга сразу подошла к той, на которой черная земля отсвечивала серебром. На земле росла трава, и у нее был надорвавшийся вид. Как будто, истратив силы где-то в невидимом пространстве на пребывание на свету и виду, сил у горемыки травы уже не осталось. Она никла стебельком, с одной стороны, обреченно, а с другой — даже успокоенно, ибо прошла весь путь до конца, явилась миру, поколыхалась на ветру — и сейчас увянет. Земля же манила, ворожила колдовским серебряным светом, хотя уже было ясно, что это и не земля вовсе, одна кажимость, топь: шагни — и поймешь, каково было траве.
— Другие цикавше, — сказал Сэмэн.
— О Господи! — закричала Ольга. — Живешь в Москве, в русской семье, можешь говорить по-русски?
— Только ради тебя, — чистейше сказал Сэмэн, как будто и не умел, припадая на тонюсенькое «и», перекатываться на разлапистые, тягучие «э»: «Сэмэнэ-э! Дэ-э ты й-е-е?» — Я хотел сказать, — говорил он, глядя на Ольгу с насмешливой неприязнью, — что другие картинки получше. Поинтересней. Это «Болото» хуже всех. Тут просто колер хорош.
— Не болото. Топь, — поправила она. — Как тебе удалось их заполучить?
— Что значит «заполучить»? Я купил их по десять долларов за штуку. Я, конечно, их обобрал, но они такую стойку сделали на доллар. Оказывается, есть еще люди, которые в глаза его не видели…
— Можно подумать, что ты их много видел…
— Много не много, но я купил эти картинки и с них чего-то наварю.
— Продай мне эту, — показала Ольга на «Топь». — Между нами говоря, она мне и предназначалась. Так я думаю.
— Сто… — ответил Сэмэн.
— Ты спятил? — закричала Ольга. — Спятил?
— Нет, — засмеялся Сэмэн. — Это мое последнее слово.
Кулибин пришел из ванной, где проверял, не каплет ли вода. Посмотрел на картинки.
— Ванькины? — спросил. — Мода на сумасшедших. Ты знаешь, как он рисовал? Смотрел на красивейшие пейзажи и рисовал ужас. Никогда я не мог понять: ужас уже был в его голове или пейзаж превращался в ужас, когда он на него смотрел?
— Какая разница? — разозлилась Ольга.
— Никакой. Просто так, — ответил Кулибин.
— Я хочу купить вот эту…
— А кто продает?
— Я, — ответил Сэмэн.
— Ни хрена себе! — Кулибин стоял с раскрытым ртом. — Ты-то при чем?
Пришлось дать необходимые пояснения.
— У него не покупай, — твердо сказал Кулибин. — Я съезжу в Тарасовку. Поговорю с его сестрой — даром отдаст.
— Идиот, — пробормотала Ольга. — Просто круглый… И закроем тему! Все!
Однажды раздался звонок. Ольга взяла трубку. Женщина спрашивала Кулибина. Уже идя за ним, Ольга поняла: Вера Николаевна. Стало неприятно, а тут еще Кулибин отвечал как-то очень по-семейному: «Ты отодвинь коробку с антибиотиками, в углу будет пластмассовый стакан. Там термометр… А что, очень болит?.. Надо врача… Аллохол помнишь где?»
Кулибин был сердечен, внимателен. Каким он был с ней. Но такого Кулибина в доме уже давно не было. Он был раздражен, зол… Он мягчел, когда звонила Манька. И вот теперь, когда позвонила эта женщина. Если бы не работающий Сэмэн, она бы высказала свои наблюдения сразу же… Но при чужом человеке…
— Это Вера, — сказал Кулибин Ольге, положив трубку.
— Нетрудно было сообразить, — ответила Ольга.
— Не чужая ведь, — как-то растроганно, чуть не со слезой вздохнул Кулибин, и это уже был перебор. Двадцать два!
— Езжай к ней, раз не чужая, — тихо, но внятно до противности сказала Ольга. — Я тебе давно это рекомендую очень настоятельно.
Он как-то замер на этих словах, будто хотел их разглядеть со всех сторон, будто впервые увидел и задумался над нехитрым смыслом «езжай».
— Что ж, я как припадочный буду бегать туда-сюда? — растерянно сказал он. — Это не дело…
— А кому это интересно, кроме нас с тобой?..
Он смотрел на нее тускло, и она поняла и посочувствовала ему. Он не освободился от людского мнения, он нормально, как научила мама, стоит и ждет, что скажут люди. И так и будет стоять. Вкопанный конь.
Не то чтобы она боялась, что Кулибин уйдет. «И слава Богу, — кричала она себе, — и слава Богу. Жила без него — и прекрасно». В то же время, в то же время… Этот его тон в разговоре с крепкозадой и приземистой Верой Николаевной разворачивал события совсем другой стороной, являл мысли странные. Например, о конечности времени. Когда она лежала на хирургическом столе и ей готовили наркоз, она подумала: вдруг… Вдруг то, что она сейчас видит, — последнее? Последнее окно. Последние люди. Последний мужчина, он же хирург. Последние прикосновения. Но ей тогда было безразлично, потому что ей дали хорошее успокоительное, и она это знала, но, зная, была убеждена, что возникшее чувство у нее совсем не химической причины. Оно из нее самой, оно сущностное. А потому и нестрашное. И даже с намеком радости, что ли. Последнее тут — это надежда на первое там?
Сейчас же было другое: ощущение суженного и одинокого времени. Никто не стоял рядом и не трогал за руку. Последним был Кулибин, но и он уходил. Мог уйти.
— …Я не припадочный, — твердо повторил Кулибин, расставляя в своем мире все по местам.
Нашел же слово-мерку, прошелся с ним туда-сюда и отделился от припадочных. В нем в этот момент даже что-то обрелось, он как бы стал шире собой, но одновременно и ниже, хотя все это было Ольгино, умственное, а головенка, скажем прямо, была слабенькая и пульсировала, пульсировала.
После ремонта квартирка вся заиграла. Ольга сказала:
— Давай сделаем перестановку?
Кулибин посмотрел на нее осуждающе.
— Пусть сюда переезжают дети.
Ну да… Об этом они уже говорили…
— Сама позвони им и скажи…
— Но почему? Почему? — закричала она, чувствуя, как время и пространство сжимались вокруг нее, и получалось: Кулибин — человек и отец хороший, а она — сволочь.
Как раз ввалилась сама Манька, такая вся моднющая, неозабоченная, хорошо отвязанная беременная.
— Клево, — сказала она, оглядывая квартиру. — Но ума поломать стенки не хватило. Хоть бы посоветовались…
— Какие стенки тут можно ломать? — не понял Кулибин.
— Да ладно вам, — засмеялась Манька, — вы люди клеточные, суженные.
— Мы это для тебя, — вдруг в торжественной стойке сказал Кулибин.
— О Господи! — закричала Манька. — Спятили, что ли? Мы покупаем трехкомнатную. Недалеко от вас.
Ольга испытала огромное облегчение, она даже выдохнула так громко, что они уставились на нее — муж и дочь.
— На какую гору идешь? — спросила Манька.
— Ни на какую, — ответила Ольга. Не объяснишь же про суженное пространство-время и то, как оно сдавило, а сейчас — спасибо, доченька! — отпустило.
— На какие же это деньги? — ядовито-обиженно спросил Кулибин, задетый ненужностью своей щедрости. Так старался, так махал кисточкой — и зря.
— На свои, — ответила Манька. — Подвернулась хорошая сделка. Да и наша однокомнатная сейчас в хорошей цене.
— Ну и слава Богу, — сказала Ольга.
Нельзя человека лишать смысла жизни. Кулибин был раздавлен поворотом событий, которые шли своим ходом и не требовали его жертвы. И Ольга это поняла сразу и даже посочувствовала Кулибину. Она-то давно не должник и не жертва в этой жизни, но она ведь и начала свой путь освобождения от этого не вчера. Хотя все это лишний пафос, а Кулибина, дурачка, жалко. Сто лет она этого не делала, а тут подошла и обняла его.
— А я рада, — сказала она. — И за них, и за себя. Что не надо сниматься с места.
Он был сбит с толку лаской жены. Надо же! Подошла и обхватила руками, такое забытое им состояние. И он шмыгнул носом, а Ольга подумала, что если им доживать жизнь вместе, то надо приготовиться, что старик у нее будет слезливый.
СЭМЭН
С ним рассчитались, и он ушел, хотя явно надеялся на прощальное застолье, грубовато намекая Ольге, что надо бы для такого дела кой-чего прикупить. «Да пошел ты!» — подумала Ольга. С того дня, как он отказался отдать или продать задешево картину Ивана Дроздова, она сказала: «Все!»
Он объявился, когда Кулибин был на работе, поздно вечером. В хорошем костюме, с хорошей стрижкой, такой весь не работяга, а чиновник иностранных дел.
— Пришел попрощаться, — сказал он по-русски, без этих своих украинских фокусов.
— Какие нежности! — ответила Ольга.
Сэмэн оглядел квартиру, присвистнул, увидев морщинку на обоях, рукой провел по подоконнику, похвалил расстановку мебели и, слегка поддернув брюки, сел в кресло. Гость, черт его дери.
— Куда теперь? — спросила Ольга, чтоб что-нибудь спросить, спросила стоя у дверей комнаты, в полной готовности проводить и захлопнуть замок.
— Пока в Грецию. Отдохну. Потом вернусь сюда. Есть хороший заказ.
С тем и ушел. Быстрым шагом первопроходца и проходимца.
Квартира лучилась чистотой. Хрустальные вазончики отстреливались маленькими, но пронзительными гиперболоидами света, фыр-фук во все стороны. Тяжелые шторы висели истомо с высочайшим чувством самодовольства. Кухня чванилась белизной, в трубах тоненько всхлипывала вода, запертая кранами какой-то прямо-таки наглой красоты. Даже Манька сказала: «Сантехнику выбрали правильную».
Кто меня любит на этой Земле?
Вот так упрешься мордой лица (теперь, оказывается, говорят «кожей морды лица») — и думай мысль. Как оказывается, очень поперечно стоящую для думания, мысль:
Кто тебя любит на этой Земле?
«А никто! — сказала себе Ольга. — Никто!»
Размахивая во все стороны сумочкой, она торопилась в парикмахерскую, к толстой и оплывшей армянке Розе, к которой не шел новый клиент (Роза отталкивала неприятного вида животом, она время от времени подтягивала его вверх со словами: «Опять, сволочь, сполз на колени»), зато от клиентов старых отбоя у Розы не было. Розин живот столько слышал и столько знал, он переваривал столько слез и обид, что уже давно в гуманных целях выдавал вовне исключительно благотворную энергию.
— Роза! — сказала Ольга, плюхаясь в кресло. — Тебя кто-нибудь любит?
— Многа, — ответила Роза.
— Да ну тебя! — засмеялась Ольга. — Я ж не про твою родню, которую ты всю жизнь кормишь. Я про мужчину, для которого ты все на свете.
— Многа, — повторила Роза.
Ольга смотрела в зеркало и видела всклокоченную голову Розы. Крупный пористый нос не страдал комплексом неполноценности и был вполне самодостаточен, в голове такого носа не могли взбрыкнуть мысли об отделении или переустройстве. Булькатые, каурые Розины глаза смотрели с насмешливым равнодушием, которое стеночка в стеночку рядом с презрением, но еще не оно, просто живет рядом.
— Не понимаешь, — сказала Ольга. — Любили ли тебя так, чтоб за тебя, ради тебя…
— Ты сама кого так любишь? — перебила ее Роза.
— А кого?! — возмутилась Ольга. — Такие разве есть?
— Краситься будем? — спросила Роза, туго стягивая на шее Ольги простыню. — Как обычно или перьями?
— Я передумала, — вдруг резко встала Ольга и пошла к выходу. «Пусть она меня вернет, — молила она, — пусть вернет… О Господи!»
— Следующий, — сказала Роза, встряхивая простыню, на которой тихо умирал след Ольгиной шеи.
Я тоже стриглась у Розы. Я могу представить ход ее мыслей. Вот у нее большая разбросанная по миру семья и коротконогий муж Самвел, который строит дачу знаменитой артистке и каждый раз задает Розе глупый вопрос: разве человек может быть сразу и красивым и свиньей? «Вах!»
Им хочется, чтоб их любили, могла подумать Роза сразу о всех русских женщинах, а чего ж сама не любишь как человек? Как она любит своего наивного дурака, у которого растет аденома.
Она сама делает ему массаж, потому что кто ж, кроме нее, сделает как надо? Самвел, мой дорогой, единственный, я тебя так люблю, дурака бестолкового, что мне некогда думать, как ты меня любишь… А может, и не любишь совсем, но вряд ли… Ты же плачешь мне в грудь, как плачешь Богу… А эта женщина все время чего-то ждет, ни разу не расстаравшись сама… Люди — дураки… Они ничего не поняли… Бедный Бог… Он с ними бьется головой об стену… Люби, говорит он, и не спрашивай сдачу. Но это им, видите ли, не подходит… Им дай сдачу. Они все начинают с конца.
Роза иногда проговаривалась: «Такая большая страна — и такие бестолковые в ней люди».
Кулибин же в тот день домой не пришел. Он все-таки оказался припадочным и пошел к Вере Николаевне. Синяя и обезвоженная, та сидела над тазиком, который был вполне сух.
— Я его ставлю от страха, — сказала она.
— Врача вызывала? — спросил он.
— Тоже боюсь. — Вера Николаевна смотрела на Кулибина таким нежным глазом, что тот сразу стал звонить и кричать.
Смешно думать, будто крик у нас может быть каким-то там аргументом, но, видимо, подтекст существовал не только в литературных сочинениях, он может передаваться по проводам и производить какие-то нужные действия. Приехал участковый врач, который уже отъездил свое и собирался в баню, но вот приехал, гневный, но и слегка чуткий. Он сам вызвал «неотложку», Веру Николаевну отвезли в Боткинскую больницу, положили в коридоре острой хирургии. Вера Николаевна попросила Кулибина позвонить в школу и перечислила, что ей нужно привезти. В тусклом ее взгляде не было интереса ни к чему, и даже коридор был ею не воспринят никак, хотя рядом по его поводу визжала какая-то молодайка, с виду вполне здоровущая кобыла, но что мы знаем?
Кулибин звонил Ольге, хотел объяснить ситуацию — ее не было дома. Потом он варил курицу, истово веруя в силу бульона, — не будешь же этого делать в доме Ольги? Конечно, когда Ольги не было и вечером, он забеспокоился, но курица еще не уварилась, надо было ждать.
Он нашел Ольгу уже поздним вечером.
— Ты где? — спросила она.
— Понимаешь… — начал Кулибин.
— Понимаю, — ответила Ольга и положила трубку.
Он позвонил снова и закричал:
— Она в больнице! В больнице!
— Я не людоед, — ответила Ольга. — Не надо так орать. Что с ней?
Кулибин рассказывал, спотыкаясь и замирая на том, что было непонятно ему самому.
— Положили в коридоре, — закончил он.
— Ты дал?
— Что? — не понял Кулибин.
— Ты дал деньги, — уже кричала Ольга, — чтоб ее положили как человека?
— А кому? — не понимал Кулибин. — Там их столько…
— Дай старшей сестре. Она тебя уже ждет.
— Кто ждет? Она меня не знает…
— Знает. Она ждет тебя с той минуты, как ты там появился…
— Ты говоришь глупости.
— Спроси у дочери, если не веришь. Она тебе объяснит лучше.
— Черт знает что, — сказал Кулибин и добавил: — Варю бульон, а курица оказалась старухой.
Порядочный человек — существо кровожадное, но втайне. Ибо только он знает число открученных голов, которые он отбрасывает в сторону, топча в себе разнообразно пакостные мысли и чувства, дабы не проявились они вовне. Внутри у него могила поверженного им зла.
Непорядочный позволяет и мыслям, и чувствам гулять на воле. Он — Стенька Разин. Могилы не в нем. После него.
Есть и третьи. Живущие в состоянии хронической нерв-ности по поводу мыслей и чувств. «Эту рублю, эту оставляю… Эту полью водичкой, а эту подкормлю. Эта у меня на белых… Эта на черных… Эту выпущу вечером, а эта хороша к утреннему кофе».
Именно о порядочности или ее отсутствии мы говорили с Ольгой, то есть она говорила про бульон, который варит Кулибин, а я как бы про умное… Она меня раздражала тем, что, с одной стороны, задета таким вниманием Кулибина к той женщине, с другой — этой своей готовно-стью ей же чем-то помочь, как-то лучше устроить ее в больнице. И я сказала ей, что ее добро
— плохого корня.
Она посмотрела на меня «злыми глазауси». Я отчетливо поняла, почувствовала: она сейчас от меня уйдет и больше не придет никогда. Я как бы увидела истончавшуюся в ней силу преодоления, которую всегда знала как могучую. В ней не осталось духа борьбы даже на мои слабенькие, чуждые ей мысли, и ей легче уйти от них к чертовой матери, чтоб не вникать, не углубляться в эти «хорошие плохие корни».
И я думаю. Пусть уходит. Я ничем ей не могу помочь, даже помочь себе у меня не получается. Я только знаю, что не надо ей пристраиваться к этому бульону.
Ольга встала и подошла к зеркалу, чтоб подкрасить губы.
Было странное несовпадение двух Ольг. Эта, стоящая спиной, остро хотела уйти, она отторгала меня, не понимая, с какой стати она тут и о чем ей со мной говорить. Спина как бы уходила от меня навсегда. Тогда как отражение лица в зеркале… О! Оно было совсем другим… На нем были растерянность и печаль, которые надлежало скрыть при помощи всего имеющегося косметического вооружения.
И тут я поняла, что за все годы, что мы с ней дружа не дружили, наши отношения так срослись, а несовпадения так совпали, что не уйти и не оторваться.
— Знаешь, — сказала она мне, — я иссякла. Не те лица, не те слова. Все какое-то случайное… Могло быть, а могло и не быть… А Кулибин меня просто доконал.
— Он и с тобой носился. Вспомни!
— Ну да, ну да… Все познается в предсмертье? Но надо жить… Надо крутиться, а я замираю на ходу… Как будто во мне что-то щелкает и говорит: «Не туда и не за тем»… Хочется чего-то простого и устойчивого, как куб. Скажи, куда мне кинуться?
— Не вздумай, — сказала я. — Куб у тебя есть. Его зовут Кулибин.