К востоку от Эдема Стейнбек Джон
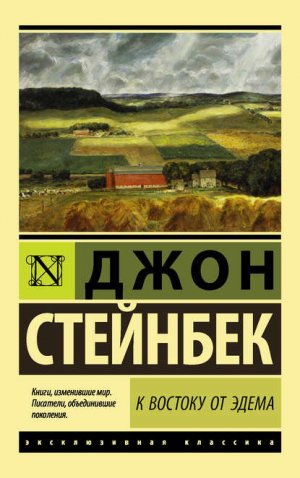
— Дочка моя Оливия пригласила нас с Лизой к себе в Салинас погостить, и мы едем — послезавтра.
— Но вы же вернетесь.
— Погостим у нее месяц-два, — продолжал Сэмюэл, — а там придет письмо от Джорджа. Он, мол, разобидится, если не приедем к нему в гости в Пасо-Роблес. А там Молли пригласит в Сан-Франциско, а потом Уилл, а после, может, даже Джо позовет на Восток, если доживем до той поры.
— А разве ты не рад? Ты это заслужил. Достаточно уже потрудился на своей пыльной и тощей земле.
— Я люблю эту тощую землю, — сказал Сэмюэл. Как сука любит чахлого кутенка. Люблю каждый корешок, каждую каменную голизну, на которой ломается лемех, бесплодный грунт люблю, безводное нутро ее люблю. Где-то в этой тощей земле кроется богатство.
— Ты заработал отдых.
— Да что твердить об этом? Надо смириться, и я смирился. Ты говоришь: «заработал отдых», а для меня это значит: «жизнь кончена».
— И ты веришь, что кончена?
— Я это приемлю.
— Не принимай! — сказал Адам, волнуясь. — Если примешь, то не сможешь жить!
— Знаю, — сказал Сэмюэл.
— Так не принимай же!
— Почему?
— Потому что мне это больно.
— Я старик любопытный, всюду нос сую. И печаль в том, Адам, что это мое любопытство уже гаснет. Наверно, потому и чувствую, что пора навестить детей. Мне теперь часто приходится изображать любопытство, которого нет.
— По мне, уж лучше бы ты продолжал надрываться на своем пыльном ранчо.
Сэмюэл улыбнулся.
— Приятно мне это слышать. Спасибо. Хорошо человеку, когда его полюбят, пусть даже под самый конец.
Адам вдруг круто повернулся, остановив Сэмюэла.
— Я знаю, чем я тебе обязан, — сказал Адам. — И отплатить не могу ничем. Но могу попросить еще об одном. Выполнишь мою просьбу — и, может, возродишь мою жизнь.
— Выполню, если смогу.
— Вот эта земля там. — Адам взмахнул рукой на запад, описал широкую дугу. — Помоги обратить ее в сад, о котором мы с тобой толковали. Чтобы колодцы были, и ветряки, и поля люцерны. Мы бы растили цветы на семена. Это дело денежное. Представляешь — целые акры душистого горошка, золотые клинья ноготков. Акров десять, скажем, роз для садов Калифорнии. Какой аромат понесет от них западный ветер!
— Ты меня так до слез можешь довести, — сказал Сэмюэл, — а старику не годится плакать. — Глаза его и в самом деле увлажнились. — Спасибо, Адам. Твоя просьба мне сладка, как запах роз, несомый западным ветром.
— Так исполнишь ее?
— Нет, не исполню. Но воображу твой райский сад, когда в Салинасе буду слушать Уильяма Дженнингса Брайана. И, может, даже начну верить, что он осуществился на земле.
— Но я же и хочу его осуществить.
— Съезди на ранчо, поговори с Томом, Он тебе поможет. Он рад бы усадить розами весь мир, мой бедный Том.
— Но ты обдумал, Сэмюэл, свое решение?
— Обдумал я крепко, так что на половину уже как бы выполнил.
— Упрямый же ты человек!
— Я спорщик, — сказал Сэмюэл. — Меня Лиза спорщиком зовет, а теперь я уловлен в сеть, что сплели мои дети, — и нравится мне быть уловленным.
На стол накрыли в доме.
— Мне бы приятней вас потчевать под деревом, как прежде, — сказал Ли.
— Но на дворе холодно.
— Холодно, Ли, — отозвался Сэмюэл.
Тихо вошли близнецы и стеснительно остановились, глядя на гостя.
— Давно не видал вас, мальчики. А назвали мы вас хорошо. Ты — Кейлеб. Верно?
— Я — Кейл.
— Ладно, пусть Кейл. — И обратясь к другому: — А ты тоже нашел способ окургузить свое имя?
— Что, сэр?..
— Тебя звать Аарон?
— Да, сэр.
— Он произносит: Арон, — сказал Ли со смехом. — Двойное «а» кажется его друзьям вычурным.
— У меня тридцать пять бельгийских кроликов, сэр, сказал Арон. — Хотите поглядеть, сэр? Клетка стоит у родника. Восьмеро совсем маленькие — вчера только родились.
— Поглядеть я не прочь, Арон. — Губы Сэмюэла тронула усмешка. — А ты, Кейл, больше огородничаешь? Угадал я?
Ли живо обернулся к Сэмюэлу, посмотрел на него с опаской, сказал:
— Пожалуйста, не надо.
— На будущий год отец даст мне целый акр в низине, — сообщил Кейл.
— А у меня есть кролик — пятнадцать фунтов весу. Я его подарю отцу в день рождения.
В глубине дома Адам стукнул дверью, выходя из спальни.
— Не говорите ему, — сказал торопливо Арон. — Это секрет.
— Вечно вы вносите непокой в мою голову, мистер Гамильтон, — сказал Ли, раскраивая мясо ножом. — Садитесь, мальчики.
Вошел Адам, опуская засученные рукава, и занял свое место во главе стола.
— Добрый вечер, мальчики, — сказал он, и они хором ответили:
— Добрый вечер, отец.
И тут же Арон прошептал:
— Не говорите.
— Не скажу, — заверил его Сэмюэл.
— О чем не говорить? — спросил Адам.
— Это наш секрет с Ароном, — сказал Сэмюэл. А секреты надо уважать.
— Я тоже скажу вам секрет, — вмешался Кейл. — Сразу после обеда.
— Рад буду выслушать, — сказал Сэмюэл. — И, кажется, заранее угадываю, в чем он.
Нож замер в руке Ли. Он поднял голову, укоризненно глянул на Сэмюэла. Стал раскладывать мясо по тарелкам. Мальчики ели молча и проворно.
— Нам уже можно, отец? — спросил Арон, опустошив тарелку.
Адам кивнул, оба близнеца встали и тут же ушли.
— Они кажутся старше своих одиннадцати лет, — сказал Сэмюэл, глядя вслед мальчикам. — Мне помнится, в их возрасте мои чада вопили, визжали, куролесили. А эти держатся как взрослые.
— Разве? — сказал Адам.
— Мне кажется, я могу это объяснить, — сказал Ли. В доме нет женщины, некому ценить младенчество. Мужчин, мне кажется, младенцы мало привлекают, и нашим мальчикам не было смысла сохранять в себе младенчество. Выгоды в том не было. Не знаю, хорошо это или худо.
Сэмюэл сказал, собрав кусочком хлеба подливку:
— Знаешь ли ты, Адам, кого ты приобрел в Ли? Мыслителя, умеющего стряпать, или же повара, умеющего мыслить? Он многому научил меня. Да и тебя, надо полагать.
— Жаль, я мало вслушивался в его речи, — сказал Адам. — Да и скуп он на поучения.
— Почему ты не захотел, Адам, чтобы мальцы учились китайскому?
Адам помолчал, подумал.
— Сейчас не время лукавить, — сказал он наконец. — Наверно, попросту из ревности не захотел. Я называл это по-другому, но, пожалуй, просто не хотел, чтобы дети так легко ушли от меня туда, где мне их не догнать.
— Резонно и очень по-человечески, — сказал Сэмюэл. А то, что ты это осознал, — большой скачок вперед. Мне самому такое осознанье вряд ли когда удавалось.
Вернулся Ли, принес серый эмалированный кофейник, разлил кофе по чашкам, сел за стол. Приложил ладонь к округлому боку чашки, грея руку. И произнес со смешком:
— Большой непокой внесли вы в мою голову, мистер Гамильтон, и притом возмутили безмятежность Китая.
— Чем же именно, Ли?
— Мне почти кажется, что я уже поведал вам эту историю, — сказал Ли. — Но, возможно, я только приготовил ее в уме, скомпоновал, чтобы рассказать вам. Как бы то ни было, история забавная.
— Послушаем, — сказал Сэмюэл и глянул на Адама. Послушаем, Адам? Или ты хочешь унырнуть в свои грезы?
— Да, загрезился немного, — сказал Адам. — Странно, как все это взбудоражило мысли.
— И хорошо, — сказал Сэмюэл. — Взбудораженность мысли — быть может, лучшее состояние человека. Начинай свою историю, Ли.
Китаец тронул рукой у себя за ухом, улыбнулся.
— Никак не привыкну без этой косицы, — сказал он. Видно, то и дело хватался за нее и сам того не замечал. Да, так слушайте мою историю. Я уже говорил вам, мистер Гамильтон, что с годами все больше становлюсь китайцем. А вы не становитесь все больше ирландцем?
— На меня ирландское находит полосами, — сказал Сэмюэл.
— Помните, вы прочли нам шестнадцать стихов из четвертой главы «Бытия», и мы обсуждали их вместе?
— Как же, помню. Давненько это было.
— Почти десять лет назад, — сказал Ли. — Повесть эта врезалась мне в душу, и я стал вдумываться в нее, слово за словом. И чем больше вдумывался, тем глубже делался ее смысл. Тогда я сравнил разные переводы — они оказались довольно близки. Только на одном месте я споткнулся — там, где Иегова спрашивает Каина, почему тот огорчился. Согласно английской Библии, изданной при короле Иакове, Бог говорит: «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты будешь господствовать над ним». Меня остановило «будешь господствовать», ибо это — обещание Каину, что он победит грех.
Сэмюэл кивнул.
— А его детям так и не удалось полностью его победить, — сказал он.
— Затем я раскрыл американскую Стандартную Библию, совсем недавно вышедшую, — продолжал Ли, отпив кофе из чашки. — И она переводит иначе: «Но ты господствуй над ним». Это ведь совсем иное дело. Тут не обещание, а приказ. И забрало меня за живое. Что ж, думаю, за слово стоит в оригинале, в подлиннике Библии, допускающее такие разные переводы?
Опершись ладонями о стол, Сэмюэл подался всем телом вперед; в глазах его зажегся прежний, молодой огонь.
— Ли, — промолвил он, — да неужели ты сел за древнееврейский?
— А вот послушайте, — ответил Ли. — Это довольно длинная история. Хотите чуточку моей уцзяпи?
— Это которая приятно отдает гнилыми яблоками?
— Да. Мне с ней лучше будет рассказывать.
— А мне — слушать, — сказал Сэмюэл.
Ли ушел на кухню. Сэмюэл спросил Адама:
— Он тебе это рассказывал?
— Нет, — сказал Адам. — Не рассказывал. А может, и рассказывал, да я не слушал.
Ли вернулся со своей глиняной бутылью и тремя фарфоровыми чашечками, просвечивающими насквозь — до того были тонки.
— Плосу пить китайски, — произнес Ли ломано, наливая в чашечки почти черный напиток. — Она полынью изрядно сдобрена. Если выпить достаточную порцию, действием не уступает абсенту.
Сэмюэл пригубил.
— Но почему же тебя так заинтересовало это место? — спросил он.
— Мне казалось, что человек, способный сложить ту великую повесть, в точности знал, что хочет сказать, и слова его не допускают разнотолков.
— Ты говоришь «человек». Значит, не думаешь, что это книга божественная, писанная перстами Бога?
— Я думаю, что ум, создавший эту повесть, был умом божественным. У нас в Китае было несколько таких умов.
— Любопытно, — сказал Сэмюэл. — Значит, ты все таки не пресвитерианин.
— Говорю же я вам, что становлюсь все больше и больше китайцем. Ну, так вот. Поехал я в Сан-Франциско, в штаб-квартиру, так сказать, нашего родового объединения. Слыхали о таких? У наших больших старинных родов есть центры, где каждый член рода может получить или оказать помощь. Род Ли очень многочислен. Он заботится о своих членах.
— Доводилось слыхать, — сказал Сэмюэл.
— О наших тонгах15? — Головолезы-китаезы воевать из-за лабынь?
— Вроде того.
— Это немножко другое, — сказал Ли. — Я поехал потому, что в нашем роду есть несколько почтенных, ученейших старцев-мыслителей, пытающихся добраться до самой сути. Подобный старец может много лет продумать над одной-единственной фразой мудреца, которого у вас зовут Конфуций. Я решил, что именно такие специалисты-толкователи могут мне помочь. Они славные старики. Выкурят под вечер свои две трубочки опиума для успокоения и обострения мысли — и сидят всю ночь, и разум работает чудесно. Мне кажется, никакой другой народ не умеет употреблять опиум во благо.
Ли чуточку отпил и продолжал:
— Я почтительно изложил свою проблему одному из мудрых старцев — прочел ему эту повесть, сказал, что понял, чего не понял. На следующую ночь сошлись уже четверо старцев и призвали меня. Мы всю ночь прообсуждали, — сказал Ли со смехом.
— Забавно ведь. Не каждому расскажешь об этом ученом разыскании. Вообразите себе четырех таких старцев, из которых младшему уже за девяносто, — и вот они углубляются в древнееврейский. Нанимают ученого раввина. Садятся за ученье, как школьники. Упражнения, грамматика, словарь, простые предложения. Представьте себе древнееврейские речения, писанные китайской тушью — кисточкой! Вас бы затруднило то, что писать нужно справа налево, но старцев ничуть — ведь мы, китайцы, пишем сверху вниз. О, наши старцы народ дотошный! Они углубились до самых корней.
— А ты? — спросил Сэмюэл.
— Я продвигался рядом, любуясь красотой их гордого и чистого ума. Я начал любить свою расу, мне впервые захотелось быть китайцем. Дважды в месяц я встречался с ними, а здесь, у себя в комнате, исписывал тетради письменами. Купил все древнееврейские словари, какие только есть. Но старцы неизменно меня опережали. А вскоре и раввина опередили; пришлось ему призвать на помощь коллегу. Вот бы вам, мистер Гамильтон, просидеть с нами одну из тех ночей за обсуждениями и спорами. Бесконечные вопросы, поиски ответа — о, какая красота, какая прелесть мысли!
Через два года мы почувствовали, что можем приступить к вашим шестнадцати стихам из четвертой главы «Бытия». Старцы также признали стих седьмой очень важным. «Будешь господствовать»? «Господствуй»? И вот какое золото намыли мы долгими трудами: «Можешь господствовать». «Ты можешь господствовать над грехом». И улыбнулись старцы, закивали головами, чувствуя, что недаром потрачены два года. И благодаря этому труду вышли они из своей китайской обособленности — и сейчас изучают древнегреческий.
— История фантастическая, — сказал Сэмюэл. Я слушал тебя пристально, однако, может, чего-то не уловил. Почему это место так важно?
Дрожащей от волнения рукой Ли вновь наполнил изящные чашечки. Выпил свою одним глотком.
— Разве не ясно? — воскликнул он. — Американская Стандартная приказывает людям господствовать над грехом, как господствуют над невежеством. Английская королевская сулит людям непременную победу над грехом, ибо «будешь господствовать» — это ведь обещание. Но древнееврейское слово «тимшел» — «можешь господствовать» — дает человеку выбор. Быть может, это самое важное слово на свете. Оно говорит человеку, что путь открыт — решать предоставляется ему самому. Ибо если «ты можешь господствовать», то верно и обратное: «а можешь и не господствовать». Разве не понятно?
— Нет, понятно. Понимаю. Но ты ведь не веришь, что это закон, установленный Богом. Почему же считаешь, что это так важно?
— А вот слушайте! — ответил Ли. — Я давно хотел это высказать. Предвидел даже ваши вопросы и как следует подготовился. Важен всякий завет, повлиявший на мышление, на жизнь бесчисленных людей. Многие миллионы ваших верующих слышат эти слова как приказ: «Господствуй» — и делают весь свой упор на повиновение. А другие миллионы слышат: «Будешь господствовать» — как предопределение свыше. Что бы они ни сделали, все равно будет то, что предопределено заранее. Но «можешь господствовать»! — ведь это облекает человека величием, ставит его вровень с богами, и в слабости своей, в грязи и в скверне братоубийства он все же сохраняет великую возможность выбора. — Голос Ли зазвучал торжествующей песнью. — Он может выбрать путь, пробиться и победить.
— Ты веришь в это, Ли? — спросил Адам.
— Да, верю. Верю. Ведь так легко — по своей лености и слабости отдаться на милость божества, твердя: «Я ничего не мог сделать: так было предопределено». Но подумайте, сколь возвеличивает нас выбор! Он делает людей людьми. У кошки нет выбора, пчеле предписано производить мед. У них нет богоравности… И знаете, эти почтенные старцы, прежде тихо подвигавшиеся к смерти, теперь не хотят умирать — им стало интересно жить.
— То есть эти старые китайцы поверили в Ветхий Завет? — спросил Адам.
— Эти старцы способны распознать повесть, в которой содержится истина, и они верят такой повести. Они знатоки правды. Они знают, что в этих шестнадцати стихах заключена человеческая история всех времен, культур и рас. И они не верят, что человек, написавший истину в шестнадцати без малого стихах, в последней этой малости, в одном глаголе, мог солгать. Конфуций учит людей жить успешливо и хорошо. Но эта повесть — лестница, возводящая нас к звездам. — Глаза у Ли блестели. — Это остается с тобой навсегда. Оно отсекает корни у слабости, трусливости и лени.
— Не понимаю, как ты смог во все это вникнуть, стряпая, растя мальчиков и заботясь обо мне, — сказал Адам.
— Я и сам не понимаю, — сказал Ли. — Но выкурю под вечер две трубочки по примеру старцев — только две — и чувствую себя человеком. И чувствую, что человек — это что-то очень значительное, быть может, даже более значительное, чем звезда. Это у меня не теология. Во мне нет тяги к богам. Но я воспылал любовью к блистающему чуду — человеческой душе. Она прекрасна, единственна во Вселенной. Она вечноранима, но неистребима, ибо «ты можешь господствовать».
Провожая гостя, Ли и Адам шли с Сэмюэлом к конюшне. Ли нес жестяной фонарь и освещал дорогу — была одна из тех ясных зимних ночей, когда в небе роятся звезды, а земля от этих звезд кажется еще темней. На холмах лежала тишь. Нигде ни шевеленья, не слыхать ни хищников, ни травоядных, и в полном безветрии темные сучья и листья виргинских дубов недвижно очерчены на фоне Млечного Пути. Все трое шли молча. Фонарь покачивался, поскрипывал дужкой.
— Когда думаешь вернуться из поездки? — спросил Адам. Сэмюэл не ответил.
Акафист понуро дожидался в стойле, опустив голову, уставя мутно-млечный взгляд в солому под копытами.
— У тебя этот коняга с незапамятных пор, — сказал Адам.
— Ему тридцать три года, — сказал Сэмюэл. — Зубы съедены. Приходится кормить его с рук теплой мешанкой. И кошмары ему снятся. Вздрагивает, всхлипывает иногда во сне.
— В жизни не видал клячи уродливей, — сказал Адам.
— Это так. Потому я, должно быть, и купил его жеребчиком. Два доллара отдал за него тридцать три года назад. Все у него не так — копыта оладьями, бабки такие толстые, короткие, прямые, будто и сустава вовсе нет. Голова скуластейшая, спина седловатая. Грудь щуплая, круп широченный. Донельзя тугоузд и по сей день отбрыкивается от подхвостника. А под седлом у него такой ход, точно едешь на санях по крупной гальке. Рысить не может, в шагу спотыклив, за все тридцать три года я в нем не нашел ни единого достоинства. И даже характер паршивый. Вредный, вздорный, нечестный, непослушный. До сих пор остерегаюсь идти позади него — непременно лягнет. Кормлю его — норовит укусить руку. И однако я люблю его.
— И назвали Акафистом, — сказал Ли.
— Именно так, — сказал Сэмюэл. — Я подумал: создание, настолько обделенное во всем, должно хоть имя носить благозвучное. Недолго уж ему его носить…
— Может, стоило бы избавить его от мучений? — сказал Адам.
— От каких таких мучений? — вопросил Сэмюэл. Он один из немногих счастливых и цельных существ, кого я встретил в жизни.
— Ему, должно быть, тошно от ломотья и колотья, от всяких болей.
— Ну нет. Акафисту не тошно. Он себя и по сей день считает конем первый сорт. А ты бы пристрелил его, Адам?
— Да, пожалуй. Пристрелил бы.
— Взял бы на душу ответственность?
— Думаю, взял бы. Ему тридцать три года. Лошадиный век давно прожит.
Ли поставил фонарь на землю. Сэмюэл присел рядом на корточки и бессознательно протянул руки к теплу, к желтой бабочке фонарного огня.
— Встревожил ты меня, Адам — сказал он.
— Чем?
— Ты и вправду пристрелил бы моего коня, потому что считаешь, что смерть может быть приютнее жизни?
— Ну, я в том смысле…
— Тебе-то самому жизнь приятна? — в упор спросил Сэмюэл.
— Конечно, нет.
— А если бы у меня было лекарство, что тебя либо вылечит, либо убьет, должен был бы я дать его тебе? Всмотрись в свою душу, человече.
— Какое лекарство?
— Нет уж, — сказал Сэмюэл. — Раз говорю, значит верь, что оно и убить может.
— Осторожно, мистер Гамильтон, — сказал Ли. — Осторожно.
— Вы о чем? — произнес Адам. — Что у вас на уме? Говорите.
— А что, если разок не осторожничать? — тихо сказал Сэмюэл. — Если я не прав — слышишь, Ли? — если делаю ошибку, то готов за нее ответить, беру всю вину на себя.
— Но вы уверены, что правы? — спросил Ли неуспокоенно.
— Конечно, нет. Адам, дать тебе мое лекарство?
— Дай. Не знаю, что это за лекарство, но все равно дай.
— Адам, Кэти в Салинасе. Она владелица борделя, самого развратного и грязного во всем крае. В продаже там зло, извращение, склизкая мерзость, худшее, что могут придумать люди. Туда идут насладиться уроды телесные и духовные. Но хуже всего вот что. Кэти — сейчас она зовется Кейт — растлевает молодежь, навек калечит душу свежим, красивым юнцам… Вот тебе лекарство. Посмотрим, как оно подействует.
— Ты лжешь, — сказал Адам.
— Нет, Адам. Изъянов у меня куча, но я не лжец.
Адам рывком повернулся к Ли.
— Это правда?
— У меня нет противоядия, — сказал Ли. — Да. Это правда.
Адам стоял, пошатываясь, в свете фонаря; потом крутнулся, бросился куда-то прочь. Слышен был его тяжкий бег. Спотыкается, упал, ломая ветви кустов; продирается дальше по склону. Вот уж он наверху, за гребнем холма — и только тогда шум утих.
— Ваше лекарство действует, как яд, — сказал Ли.
— Ответственность на мне, — сказал Сэмюэл. — Я давным-давно усвоил одну истину. Если твоего пса отравили стрихнином и он лежит подыхает, возьми топор и неси пса к чурбаку, на котором рубишь дрова. Дождись нового приступа судорог и тут-то отруби псу хвост. И, если стрихнин не слишком успел внедриться в кровь, пес может выздороветь. Потрясением боли возможно перебороть яд. А без этого подохнет непременно.
— Но откуда вы знаете, что это сходный случай?
— А я и не знаю. Но без этого он бы непременно умер.
— Вы смелый человек, — сказал Ли.
— Нет, я старый человек. И если вина ляжет мне камнем на сердце, то уж ненадолго.
— Как вы думаете, что он теперь сделает? — спросил Ли.
— Не знаю, — сказал Сэмюэл. — Но по крайней мере перестанет хохлиться, сидеть сычом. Посвети мне, пожалуйста.
При желтом свете фонаря Сэмюэл взнуздал Акафиста, вложил удила, чуть не напрочь стертые лошадиными зубами. Мартингалом16 Сэмюэл давно уже не пользовался, и старый коняга волен был ронять понуро голову в оглоблях или, остановясь, щипать придорожную траву. Сэмюэлу это не мешало. Он ласково надел коню подхвостник, и Кафи, избочась, попытался лягнуть хозяина. Когда тот кончил запрягать, Ли сказал:
— Не возражаете, если я сяду рядом, немного провожу вас? Назад вернусь пешком.
— Садись, — сказал Сэмюэл, как бы не замечая, что Ли поддерживает его под локоть, помогает подняться в тележку.
Ночь была темным-темна, и Кафи выражал свое неудовольствие ночной ездой — то и дело спотыкался.
— Давай же, Ли. Говори, что хотел сказать, — произнес Сэмюэл.
Ли не удивился его догадливости.
— Я, наверно, тоже люблю всюду совать нос, — сказал он. — И вот сейчас недоумеваю. Я вроде бы могу оценивать вероятность людских поступков, но вы меня просто ошарашили. Я бы поспорил на что угодно, что уж вы-то Адаму не скажете.
— А ты знал о ней?
— Разумеется, — сказал Ли.
— А мальчикам известно?
— Не думаю. Но рано или поздно все равно узнают. Сами знаете, как жестоки дети. Рано или поздно им крикнут на школьном дворе, кто такая их мать.
— Ему, пожалуй, следует увезти их отсюда, — сказал Сэмюэл. — Ты обмозгуй это, Ли.
— Вы не ответили на мой вопрос, мистер Гамильтон. Как вы решились ему сказать?
— А я, по-твоему, так уж был не прав, что сказал?
— Нет, я этого совсем не думаю. Но мне всегда казалось, что вам не свойственна твердая, упрямая решительность. Так я оценивал вас. Вам, может, неинтересно меня слушать?
— Укажи мне человека, которому неинтересно слушать, как его оценивают. Продолжай.
— Вы человек добрый, мистер Гамильтон. И мне всегда казалось, что эта доброта исходит из нелюбви к тревогам. Притом ваш разум легконог, словно ягненок, резвящийся на ромашковом лугу. Вам, насколько я знаю, не присуща бульдожья хватка. А сейчас этот ваш внезапный поступок разрушил все мое представление о вас.
Кафи неспешно вез тележку, спотыкаясь в колеях. Намотав вожжи на кнутовище, воткнутое сбоку, Сэмюэл погладил бороду, бело мерцающую в звездном свете. Снял свою черную шляпу, положил себе на колени.
— Этот поступок меня самого удивил не меньше, чем тебя, — сказал он. Но если хочешь знать его причину, обрати взор на себя.
— Не понял.
— Если бы ты рассказал мне о своих разысканиях раньше, то, возможно, многое бы у меня пошло иначе.
— Все еще не понял.
— Берегись, Ли, не буди во мне говорливого ирландца. Я тебе сказал, ирландское на меня находит полосами. И вот сейчас я чувствую — находит.






