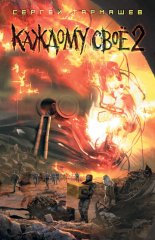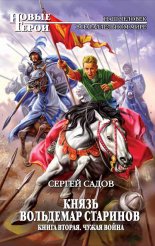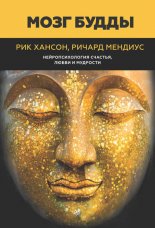И здрасте вам через окно! Роговая Елена

– Уважаемый сосед, позвольте полюбопытствовать, по какому случаю кипеж? Неужели Зяма хотел нам подсунуть дрянь? Хотя, с другой стороны, он мечтал сделать нам приятно, и мы душевно оценили, – пошутил Израил.
– Еще не знаю, но, возможно, через несколько минут я отвечу на ваш вопрос.
Таким взволнованным Александра Владимировича еще никто не видел, поэтому все как один решили больше не приставать с расспросами, а посмотреть, чем все закончится.
– Яша, детка, у тебя глазки острые. Поищи подпись внизу, пока Мендель домой ходит. Ты в школе какой язык учишь? Немецкий? Он тоже подойдет.
Яшка, ничего не понимающий в происходящих событиях, но чувствующий свою нужность, принялся старательно осматривать сантиметр за сантиметром нижнего поля картины.
– Дядь Саш, нет подписей.
– А здесь что?
– Трава и веточки темной краской нарисованы.
– И буквы никакой нет?
– Не-а, я бы увидел.
– Даже если ничего нет, я больше чем уверен, что это Моне.
– Нет, ви слышали «мане»! Что значит вам? Александр Владимирович, минуточку! Я только попросила вашего совета, а вы уже первый в очереди. При всем моем уважении к вашей персоне – только после меня, Савы и Измаила Гершевича, и то, если он захочет уступить. Вы последний пришли.
– Сара Моисеевна, вы не понимаете.
– Да что тут понимать! Интеллигентный человек, участник войны, но сейчас не тот случай, чтобы без очереди.
– Вот лампа и микроскоп, – прервал разговор Мендель.
Александр Владимирович поставил прибор на стол и с помощью фонаря тщательно осмотрел каждую часть холста.
– Даже если не найду подпись, это ничего не значит, – рассуждал он. – Наоборот, ее отсутствие говорит о незаконченной работе или этюде. Время. Нужно обязательно определить время.
– Почти девять, если вам так интересно, – подсказал опьяневший Сава.
– Рисунок, плетение, плотность ткани. Завтра же в музей, на экспертизу.
Он взял один из отрезанных кусков и положил изнанкой под микроскопом.
– Попрошу пардону, специалист, вы перепутали, с какой стороны смотреть, – не унимался Савелий. – На рисунки глядят там, где краской намазано. Я, простой человек, и то знаю. И вообще, что там смотреть! Все и так видно-о-о. Две красивые дамочки в длинных платьях нагло отвернулись и шепчутся, когда выпивка и закусь уже разложены на скатерти, мужчины повсюду лежат на траве и ждут, а им и дела нет. Они моды обсуждают, точно вам говорю.
– Т-так, посмотрим, посмотрим, – приговаривал сосед, рассматривая край среза под микроскопом. – До семнадцатого века писали на г-грубом небеленом пеньковом холсте, саржевого переплетения или же редком п-полотняном, напоминающем сетку, а тут п-плотная среднезернистая ткань и довольно-таки равномерная. Ага, перекрещивание нитей происходит после двух уточных прокидок. Восемнадцать, девятнадцать, двадцать… Двадцать нитей на сантиметр по утку и основе. Значит, машинная выработка. Женщины, есть у кого-нибудь булавка?
– Всегда пожалуйста, – проговорила тетя Сара, отстегивая от бюстгальтера носовой платок с деньгами. – Для науки ничего не жалко.
Александр Владимирович острым концом иглы ловко расщепил край нити.
– Это т-точно не хлопок, а вот на лен или пеньку похоже. П-получается восемнадцатый или девятнадцатый век. Б-боже мой, неужели я прав?
– Бога нет! И прекратите тут свои провокационные разговорчики.
– Тише, Сава. Может, я тебе домой отведу? – нерешительно спросила Мирав.
– Ну уж нет! Самое интересное начинается.
– Ну, тогда не мешай человеку устанавливать факт. Видишь, его сомневает.
– Уже почти нет. Б-больше чем уверен, что это этюд К-клода Моне. И если это завтра подтвердится, то вас, Зиновий, расстрелять мало за такой вандализм.
– Но-но! Вы тут поосторожней с расстрелами! За картинку-то! – вступился Сава.
– Вы д-даже не представляете, что наделали. Мало того, что холст п-п-после перевозки вытянут по центру и весь в сквозных кракелюрах, так вы его еще и разрезали. П-приятное он захотел сделать соседям!
– Александр Владимирович, если бы Зяма знал, что тут расстрельная статья, так он бы картиной вещи не накрывал, – дрожащим голосом произнесла Дебора.
– Д-дебора Казимировна, с расстрелом я погорячился, но то, что ваш муж уничтожил ценное полотно, – это факт. Завтра с утра со мной в музей, а сейчас разрешите откланяться.
– Да что же это за день такой! Лучше бы меня на фронте убили! Не успел переступить порог дома, и все не так.
– Зямочка, что ты такое говоришь! Мы так ждали твоего возвращения, – успокаивала мужа Доба. – Яшка от тебя не отходит, я не могу наглядеться, соседи за нас рады.
– Зиновий Аркадьевич, не переживай. Лучше выпей и забудь, – посоветовал пьяный Савелий, отталкивая от себя части картины. – Добка, убирай со стола живопись. Праздник продолжается! Маэстрочка, нажмите аккорд!
Казалось, Яшка только и ждал, когда его попросят поставить пластинку. Он с радостью подбежал к патефону, откинул крышку и начал накручивать ручку.
– Ой, ты что делаешь, фулюган эдакий! Ты же пружину лопнешь. Хана, ви рядом, отгоните его от аппарата. Столько лет себе слушали, пока не вынесли во двор!
– Тетя Сара, ведь ничего же не случилось, – заступилась Дебора за сына.
– Конечно, но могло бы, если бы я вовремя не сказала «ша». Дети имеют особенность немножечко вредить, поэтому за ними нужно следить, скажу я вам. Рэйзел, ты девочка аккуратная, поставь нам какую-нибудь пластиночку.
Рэйзел вытащила из чемоданчика первую попавшуюся и положила на круг.
– Ну, Яшенька, зачем ждем? Медленно опускай на кружок патефонную головку. Иголочка в ней сапфировая, но все имеет свойство когда-нибудь портиться.
Яшка хоть и обиделся на Сару Моисеевну, но все же с удовольствием выполнил просьбу. Игла мягко легла в канавку, немного пошипела, и из боковой стенки ящика послышалось:
- Умер бедняга в больнице военной.
- Долго родимый страдал…
Все молча слушали песню, пока Савелий не потребовал другую, заявив, что негоже в радостный день слушать грустные песни. Яшка порылся в чемоданчике и извлек следующую. Трубы проиграли вступление, и мужской голос жалостливо запел:
- Ах я чахоткою страдаю.
- Уж скоро-скоро я умру…
– Сара, где ви набрали таких пластинок? – поинтересовалась Хана.
– Еще пока не знаю, но начинаю догадываться, какой адиет их туда положил. Яшенька, шустрый мальчик, ставь следующую.
- Вот солнце закатилось, замолк шум городской,
- Маруся отравилась, вернувшися домой.
- Ее в больницу живо решили отвезти,
- Врачи там торопливо старалися спасти.
– А ну давай сюда весь чемодан, – заорала на мужа Сара Моисеевна. – Нет, ты посмотри, все как на подбор! Сема, имею сказать, сделай так, чтобы я твоего брата никогда больше не видела. Это же он у нас патефон на несколько дней брал, а потом вернулся с полными карманами мелочи и просил на крупные разменять. Как пить дать, на вокзале, аспид эдакий, жалостливые песни приезжим крутил, хромая на одну ногу. А я-то думала, зачем он твою медаль «За оборону Одессы» просил. Хорошо, не дала, как чувствовала его подлую сущность.
– Сарочка, ну почему сразу на вокзале?
– А где, на Привозе, что ли, с таким талантом? Я туда почти каждый день хожу. Всяко бы его увидела. Так и передай ему и его прохиндейке-жене, что с этого дня мое сердце при виде их делает перебой в работе, и поэтому наш дом закрыт на долгую профилактику. Вот, нашла наконец-то душевную и всеми любимую, – довольно произнесла она, доставая из бумажного конверта пластинку. Развернув надпись к свету, она торжественно прочитала: «Цветущий май».
Тихое шуршание иглы сменили звуки фокстрота. С первыми аккордами Израил пригласил жену на танец. Вслед за ним Семен Григорьевич галантно подошел к супруге, молодецки шаркнул ножкой, как когда-то делали гусары, и, поддерживая Сару под локоток, проводил ее до «танцплощадки».
– Зиновий, за вас не спрашиваю, ви грустите. Савелий, перестаньте теребонить руками клеенку и пригласите Мирав на танец. Уверена, она не танцевала добрый десяток лет.
– Сарочка, да я уже и забыла, как это делается, а муж так вообще никогда не умел.
– Семен, я не обижусь, если ты на следующий танец пригласишь не меня. Помоги женщчине радостно встрепенуться. Мирав, смотрите и освежайте опыт. Партнер берет даму за руку и отводит ее на уровень пышной груди. Другой он нежно лапает спину немного выше талии, если она имеется, а ви за это благодарны и кладете ему свою руку на его крепкое плечо. Считайте так: раз – правая нога пошла вперед четыре раза, и на два – пружиньте шаг, а потом столько же назад, и всех делов-то. Главное – не забывайте пружинить, ведь это фокстрот.
Оставшуюся часть вечера Зиновий пребывал в унынии. Казалось, за эти несколько часов он постарел больше, чем за все годы войны. Уголки его бровей приподнялись, образуя на лбу глубокую треугольную складку, лицо осунулось, а глаза потускнели, как у побитой собаки. Он молча смотрел на веселых соседей, от чего его сердце все больше наполнялось тоской. По пути к дому он представлял себе счастливую и спокойную жизнь, которая начнется с момента его возвращения, а приехав, наткнулся на зависть, непонимание и еще хуже – возможность быть расстрелянным. На фронте все предельно ясно и единственной заботой было выжить несмотря ни на что. Даже начал молиться, как научил его рядовой Клюев. Так ему и сказал, мол, в окопах, Зиновий, атеистов не бывает, потому запоминай и пользуйся во спасение. А он и пользовался незаметно. Укроется шинелью перед боем, словно спит, а сам шепчет, шепчет.
А здесь что? Набросились, а он и не сумел толком дать отпор. Вот и Дебора, вместо того чтобы сидеть рядом с ним, разговаривает о чем-то с Мирав. Не успел отойти, как ей уже портрет нарисовали. Один Яшка понимает его до последней клеточки своего детского организма. Прижался к плечу и уснул несмотря на музыку. И все ему нипочем, потому как отец рядом.
– Зямка, перестань грустить, – потрепал за плечо соседа подошедший Израил. – Утром будет все иначе. Вот увидишь.
Утро и впрямь выдалось особенное. Несмотря на затянувшийся накануне праздник, Зиновий проснулся рано. Через распахнутое окно были слышны гудки заходящих в порт кораблей, железный лязг длинноруких кранов и насмешливые крики прожорливых чаек. Как и до войны, в порту кипела работа. Вот и первый трамвай прогремел звонкой трещоткой, предупреждая сонных прохожих о своем приближении. Но не эти привычные шумы заставили Зиновия окончательно проснуться. Разбудила его птичка зарянка. Сначала она пела робко, словно распеваясь, но потом все увереннее и громче, пока к ней не присоединились пернатые собратья. Вскоре их свист заглушила прилетевшая стая черных скворцов. Они нагло оккупировали крону старого платана и раскричались так, что соседи один за другим поспешили закрыть окна. От стука оконных рам проснулась и Дебора.
– Ты куда в такую рань? – поинтересовался Зяма.
– На рынок, за курицей.
– Ради такого случая попрошу вас, мадам, не сбивать каблучки, а всегда пижалуйста присесть на мотоцикл, который простаивает без дела во дворе.
– А я таки воспользуюсь вашим предложением, – обрадовалась Доба.
– И я с вами, – послышался сонный голос Яшки.
– Решено: едем всей семьей.
Зиновий быстро умылся, надел брюки со свежей рубахой и вышел во двор. Не прошло и пары минут, как с улицы послышался отборный мат, каким ругались разве что грузчики в порту. Перепуганная Дебора подбежала к окну.
– Зяма, что случилось?
– Съездили на базар! Доба, неси ведро с водой и тряпку.
– Зямочка, ты можешь ответить, что произошло?
– Доба, мы в дерьме.
– Снова? – поинтересовался высунувшийся из окна Семен Григорьевич.
– Не то, что вы сейчас подумали, уважаемый сосед, но тоже очень неприятно. Посмотрите, что они сделали.
Семен перевел взгляд с соседа на мотоцикл и прыснул от смеха. Заботливо припаркованный под старым платаном BMW был сверху донизу облеплен пометом фиолетово-бордового цвета. Казалось, птицы вели прицельный «огонь» по немецкой технике, обильно орошая ее экскрементами.
– Ну, что я говорила вчера? Вишня в этом году уродилась замечательная! – успокоила всех тетя Сара. – Вам помочь или уже?
На шум вышел заспанный Сава в растянутой синей майке. Прикурив папироску, он оглядел со всех сторон мотоцикл и вынес свой вердикт:
– Нет, ви имеете себе такое представить! Вроде бы, птица – бестолковое животное, а четко понимает политический момент.
– Сава, при чем здесь политика? – подключился к разговору Израил. – Здесь вопрос простого еврейского счастья, и не более того. Друг, с твоей везучестью – и живым с фронта! Я тебя поздравляю.
– Доба, – снова заорал расстроенный Зиновий, – ты принесешь сегодня тряпку с водой или будем ждать, когда подсохнет и само отвалится?
– Зяма, это к счастью. Успокойся и перестань себе делать лицо страдания. В конце концов ничего страшного не произошло. Пара ведер воды, и все в ажуре.
Пока Зиновий занимался мотоциклом, Дебора решила отправиться на базар одна. Выходя из двора, она столкнулась с Александром Владимировичем. Немного пригнувшись, он наносил на лицо помазком густую пену, смотрясь в небольшое мутное зеркало, закрепленное полосками жести, срезанными с консервной банки.
– Д-дебора Казимировна, вы уже за мной?
– Я на Привоз, – торопливо ответила Доба, ускоряя шаг.
– Тогда я дождусь вашего возвращения и в м-музей, – прокричал вслед сосед.
Дебора остановилась, замерла на пару секунд и, обернувшись, произнесла:
– А незачем туда идти.
– К-как это незачем? Об-бязательно нужно, всенепременно. Я не мог ошибиться. Если это Моне, то вы не представляете, к-как нам повезло. К-картина должна висеть в музее. К-конечно, Зиновий испортил полотно, но все можно реставрировать. Ее продублируют подкладкой второго полотна и склеят осетровым клеем. Уверяю вас, будет незаметно. Все можно исправить.
– Александр Владимирович, нельзя исправить то, чего нет.
– К-как нет?
– Картины больше нет.
– А к-куда она делась? Вы сами ее отнесли?
– Я ее сожгла.
– К-к-к-когда? – изумленно произнес сосед, вытирая полотенцем пену с небритого лица.
– Ночью.
– Д-дебора К-казимировна, к-как вы могли? Неужели правда? Скажите, что вы пошутили.
– А что мне оставалось делать? Вы же обещали Зиновия расстрелять. Ему это надо?
– Вы д-ду… д-ду…
– Можете называть меня дурой, если вам так легче, но тогда я и Мирав передам.
– Вы д-думали головой, что творите?
– Я не хотела, а Мирав сказала, что если нет картины, то сомневать вас больше не будет и Зяму не за что расстреливать. Уважаемый, ну не было другого выхода. Извините, мне нужно на базар идти.
Соседу ничего не оставалось, как только покачать головой вслед уходящей Деборе. Он стоял в полной растерянности, не в силах сделать и шага. Ощущение непоправимой утраты и беспомощности накатило на него огромной волной, сжимая в груди и без того больное сердце.
«Как! Как может женщина своими руками уничтожить шедевр! – думал он. – Что руководило ею в ту минуту, когда она бросала холст в огонь? Чудовищная дремучесть или желание защитить семью? Скорее всего, второе. Дернуло же меня сказать про расстрел! Сам виноват, идиот эдакий. Взгляните на нее. Идет уверенной походкой, покачивая бедрами, и нет ей дела до искусства. Моне не вписался в ее мир. Конечно, в нем есть место мужу и ребенку, а все чужеродное и угрожающее без сожаления отсекается. Разве она не напоминает Юдифь, расправившуюся с Олоферном? Да о такой женщине можно только мечтать. Нужно будет обязательно написать ее портрет на холсте».
Возле подвод с дешевым самодельным вином задумчивую Дебору одернула старая цыганка.
– Зачем грустишь, красавица? Позолоти ручку, всю правду тебе скажу.
– Чего тебе? – спросила Дебора, вздрогнув от неожиданности.
Старуха вытащила изо рта дымящуюся трубку и выпустила изо рта струю едкого дыма:
– Забота на тебе большая, но не ведаешь того, что огонь уже приготовлен, желающий поглотить твое дорогое.
– Поздно. Если бы ты вчера мне встретилась, может, и не было бы сейчас печали, – произнесла Доба, направляясь в мясные ряды.
– Не то, дамочка, не то, – пробурчала ей вслед гадалка, поправляя на голове пестрый платок. – Торопись скупиться, а то главное пропустишь…
Обойдя прилавки с птицей, Дебора остановилась у приглянувшейся ей торговки. Куры были аккуратно разложены и манили покупателей жирными ляжками.
– Свеженькие, из Ширяевска. Не сомневайтесь. Еще ночью сидели на насесте. Видите, на головках глазки выпуклые, клювик глянцевый, а мяско бледно-розовое. Тыкните в нее пальцем. Не хочите своим – моим тыкните. Что я вам говорила? Ямка, раз – и снова нету. А кожица! Сухонькая, в пупырышечку.
– На мои взгляните, – позвала другая торговка. – Я своей куре зернышки только и подсыпала, пока она делала проходку по зеленой травке.
– Я вас умоляю! – возмутилась первая. – Скажите мине расписание прогулок той куры, шобы я могла так же похудеть. Покупайте, жиночка, не пожалеете. Уступлю так, что доставите себе удовольствие. Вам завернуть в газэтку или сами в сумочку спрячете? Без сдачи дэнежки нету? Тогда вам пупочек в придачу, и до новых волнующих встреч. А может, еще жопки куриные возьмете? Свежие. Железку сальную срежете, и пожалуйста вам – кошерное жаркое. С лучком да на сковородочке! А? Не хочите. Ну, тогда в следующий раз.
Не успела Дебора отойти, как торговка закричала:
– Ляжки куриные, битки, котлетное!
– Печень, сердце, копыта! – подхватил эстафету мужской голос.
Купив также свежей брынзы, душистой зелени и мясистых помидоров, Дебора отправилась домой. Обнаружив квартиру закрытой, она решила, что Зиновий катает сына на мотоцикле, поэтому спокойно занялась приготовлением фаршированной шейки.
– Добочка, по какому поводу ви шкрябаете ножом на весь двор? – поинтересовалась Сара Моисеевна, выглядывая из окна. – Ожидается шейка? Таки слушайте сюда, что вам скажет умная женщчина, и никогда не пожалеете. Забудьте этих тонких шеек, похожих на колбаску, и начинайте снимать кожу со всей куры. Не так! Я все вижу! Сначала обрежьте жопку вокруг и просуньте под кожу палец. Покрутите им под ней туда-сюда и по кругу. Вот, теперь начинайте маленьким ножичком отделять ее от спинки. Уже плавно переходите к грудке и выводите к ножкам. Делайте круговой подрез вокруг коленочки и чулочком медленно стягивайте. Не торопитесь, порвете – и придется зашивать… Теперь-таки заострите слух на фарше. Пока ви обрезаете грудку, начните обжаривать потроха. Режьте две крупные головки лука и раструсите над ним ложечку муки. Зачем тащите растительное масло! Только на курином сале – до золотистого цвета, а я подожду, что ви снова натворите в ближайшие полчаса. Печеночку не проглядите! По запаху чувствую, что она – уже. Ставьте все охладить и только потом рубите на мелкие кусочки. Соль, перец, яички – сами понимаете. И вот ещче что! Обжаренная манка – это всегда успех. Ну, дальше справитесь сами, а я пойду отдохну. Забыла! Не вздумайте витаскивать нитки, пока шейка горячая. Эх, молодежь, молодежь, не выгляни я вовремя, считай, кура зря прожила на этом свете, – проворчала тетя Сара, отходя от окна.
– Красота, теперь все на медленный огонь, – довольно произнесла Доба.
Летний день набирал обороты. Солнце уверенно продвигалось к зениту, лишая городских жителей спасительной прохлады. К полудню улицы заметно опустели. Даже назойливые мухи на оконных стеклах медленно переползали от одного конца рамы к другому. Казалось, только старый платан стойко переносил жару. Густая раскидистая крона, как фильтр, всасывала в себя раскаленный воздух и выпускала на свободу уже в виде тенистой прохлады.
«Чудно устроено, – думал Александр Владимирович, сидя на скамейке под деревом. – Растет без забот, а красоты и богатства в каждом листике столько, сколько Соломон не имел во славе своей. И что интересно, осенью расстанется оно без сожаления со своими сокровищами лишь для того, чтобы весной получить еще больше. А люди что? Суетятся напрасно, только и всего».
Его размышления прервала испуганная Рэйзел. Увидев соседа, она пулей подлетела к нему.
– Ч-что случилось? – остановил ее Александр Владимирович.
– Дядя Саша, Яшка мину нашел и хочет ее в костре взорвать.
– Г-г-где?
– В разбомбленном доме недалеко отсюда.
– Н-никому н-не говори и покажи где, – приказал Александр Владимирович, надевая на ходу туфли. – Мне покажешь, а сама к дому ни-ни. Поняла?
Яшку он полюбил с первых же дней. Шустрый озорной парнишка напоминал ему сына, погибшего с матерью при артобстреле во время эвакуации. Голубые глаза, волнистые волосы, и даже одно ухо было немного оттопырено, как у его Петьки. Всем сердцем привязался он к мальчонке, который хоть немного, но заполнял образовавшуюся пустоту души после гибели семьи.
– Только бы успеть, только бы успеть, – то и дело повторял он как заклинание. – Какое чудо должно произойти, чтобы она не взорвалась! Еврейский бог, прошу тебя, убереги дитя. Он же твой, иудей он, а свои друг другу всегда помогают. За моим не присмотрел, так хоть этого не забирай, – вымаливал Яшкину жизнь Александр Владимирович. – Не дай ей взорваться. Ну сделай хоть что-нибудь, чтобы не сработал взрыватель! – уже в голос прокричал сосед, подбегая к разваленному дому.
Преодолев груды камней и обломков мебели, он выбежал на задний двор. В метрах двадцати от разведенного костра сидел Яшка, зажав уши руками в ожидании взрыва.
– Беги! Беги, дурачок! – кричал сосед, но Яшка даже не шелохнулся, продолжая преспокойно смотреть на огонь.
Надеясь на то, что мины в костре прогреваются долго, Александр бросился к ребенку. Схватив его на руки, он устремился к ближайшей стене. В хвостовике мины раздался глухой хлопок.
– Ну, теперь держись, – прокричал сосед и бросился на землю, прикрывая собой ребенка от грядущего взрыва.
Стены соседних домов содрогнулись в страхе и моментально избавились от оконных стекол. Сотней мелких смертельных железяк разлетелись минные осколки в разные стороны.
– Снова саперы работают, – проговорила испуганная Дебора. – Город прям нафарширован снарядами. То в порту подрывали, а теперь совсем рядом.
Яшка молча лежал под телом Александра Владимировича.
– Дядь Саш, ты живой? – осторожно спросил он, придя в себя.
– Живой. А ты?
– И я живой.
– Мина одна была?
– Ага.
– Тогда встаем.
Александр Владимирович с трудом перевернулся на спину.
– Теперь ты понимаешь, что мог погибнуть? Зачем взрывал?
– Храбрость проверял. Может, я трус, а не знаю об этом.
– Проверил?
– Ага.
– И что?
– А ты никому не скажешь?
– Нет.
– Страшно было, особенно когда шибануло.
– Вот и хорошо, что испугался. На всю жизнь запомнишь. Видать, воля на то Божья, коль сохранил тебя.
– Дядька Сава сказал, что Бога нет.
– Я тоже так до сегодняшнего дня думал.
Домой они шли не торопясь. Александр Владимирович часто просил Яшку не шустрить, останавливался, глубоко вздыхал и снова шел. Придя во двор, он обессиленно рухнул на скамейку под старым платаном.
– Дядь Саш, спасибо тебе, – тихо шепнул ему на ухо Яшка. – Ты только маме ничего не говори. Ладно? Она сначала меня ругать будет, а потом обязательно заплачет. Я ее знаю.
– Договорились, но за это ты мне кружечку холодной воды принеси. Пить хочется. И не беги, а то мать неладное заподозрит.
Прислонившись спиной к дереву, он закрыл глаза и почувствовал, как давящая боль разлилась по груди, переместилась в левую руку и рикошетом стрельнула под лопатку. В голове потемнело, закружилось. Боль стала не такой сильной, а тело почему-то невесомым. «Как интересно, голову не поворачиваю, а вижу все, что происходит вокруг меня. Звуки красивые, завораживающие. Никогда раньше таких не слышал. Как будто на воздушных струнах играют. А летать-то как приятно и совсем не страшно. Ворота дивные. Вроде прозрачные, а через них не пройти. Светом теплым переливаются, и покой от них исходит. Двое мужчин в красивых костюмах на входе. Охрана, наверное».
– Вы куда?
– Мне к самому главному.
– По какому вопросу?
– Не знаю.
– Зачем тогда пришли? Подождите, сейчас спросим… Занят он. Сказал, что не время вам, Александр Владимирович…
– Александр Владимирович! Александр Владимирович, ви живопись на экспертизу в музэй носили? – поинтересовалась тетя Сара, выглядывая из окна. – Это то, что ви говорили, или мы можем спать спокойно?
– Я ошибся, Сара Моисеевна, – придя в себя, ответил сосед.
– Сема, ну что я говорила! Чувство прекрасного меня никогда не обманывало. Сразу поняла, что картинка пустяшная. Не могут хорошие художники так рисовать. Издалека на нее смотреть – еще куда ни шло, а вот вблизи – мазня. Александр Владимирович, ви что-то бледный. Устали?
– Есть немного.
– Вот, Яшенька, мальчик заботливый, уже водички вам принес. Детка, а ты не знаешь, что там сегодня подорвали?
– Доверие, Сара Моисеевна, – опередил Яшку сосед. – Я просил холодной воды, а он мне теплую принес. И что с ним делать?
– Любить. Вот увидите, он будет прекрасным человеком.
– Скажу больше, с сегодняшнего дня он просто обязан им быть.
– Александр Владимирович, а ну-ка скажите еще раз «доверие».
– Доверие.
– А «кружка»?
– Кружка.
– Сема, срочно сюда! Заставь его повторить что-нибудь.
– Я не знаю, что.
– Ты что, как адиет, книжку с полки возьми и читай.
Семен Григорьевич, не понимая, что происходит, взял самую маленькую и открыл на первой попавшейся странице.
– Сема, читай же.
- – Чему бы жизнь нас ни учила,
- Но сердце верит в чудеса:
- Есть нескудеющая сила,
- Есть и нетленная краса.
– Повторяйте, Александр Владимирович.
– А можно я сразу конец?
– Можно, миленький, можно! Давай громко и с выражением, как на уроке в школе.
- – Чужие врачевать недуги
- Своим страданием умел,
- Кто душу положил за други
- И до конца всё претерпел.
Это Тютчев, Сара Моисеевна. Замечательные стихи. Вам понравилось?
– Не то слово, дорогой ви наш! Дебора Казимировна, Мирав! Идите скорее сюда и радуйтесь! Александр Владимирович больше не заикается. Это же чудо! Добочка, наверняка ви хотели угостить меня фаршированной шейкой. Так вот, героически отказываюсь. Наградите соседа моей порцией. Он сегодня заслужил.
Александр Владимирович сидел под деревом и с улыбкой наблюдал за происходящими событиями. Женщины увлеченно обсуждали чудесное исцеление. Тетя Сара, подперев руками голову, внимательно слушала рассказ Мирав о подобном случае, произошедшем несколько лет назад в Беляевском районе, а Дебора молча стояла и смотрела то на соседок, то на Александра Владимировича.
«Какая же она красавица, – думал про себя художник, не в силах оторвать от нее взгляд. – Улыбка, блеск увлажненных от радости глаз, легкий наклон головы, изгиб шеи. Разве она была бы сейчас так прекрасна, случись беда с ее ребенком? И я, глупый человек, еще пару часов назад не знал, зачем живу на этом свете. Прости меня, Господи».
Несмотря на жаркий полдень, подул свежий ветер. Покой и благодать он принес жителям бескрайнего Черноморья, а вместе с тем и перемены в жизни, с которых начинается новая история.
Гала
Мирав, долго ты будешь в окно смотреть? Поздно уже, иди спать.
– Сейчас. Сава, посмотри, какая огромная луна на небе.
– Луна как луна. Ничего в ней особенного нет.
– Не скажи. Такую я видела только один раз в жизни, перед войной.
– Напридумывает себе разные «ах-ах», и спать не затащишь. Ну, где там твоя удивительная луна?
Сава ухмыльнулся и, шаркая босыми ногами по половицам, подошел к окну. На темно-синем бархате неба висел огромный серебристый шар, освещая землю неоновым светом. Свечение было настолько ярким, что занавески на окнах нисколько не мешали его проникновению в комнату. Луна с легкостью прошивала тюлевый узор и ажурной дорожкой ложилась на деревянный пол.
– Ты смотрикась, как разгорелась. Вроде твоей сковородки, когда ты на ней яйца жаришь.
– Сава, когда я жарю яичницу – это всегда к радости, а здесь, чует мое сердце, жди плохого. Смотри, какой поток света в нашу квартиру идет. Прям дорога, да и только! Это к новостям. Хорошего нам ждать неоткуда, а плохие сами придут.
– Мендель, у тебя в институте все хорошо? Точно? А ты маму не обманываешь? Умница. Завтра мама тебе даст две копейки, у Ивана Маха купишь себе новую тетрадку. Или, лучше три дам, купи восемнадцать листов и не обижайся, если я у тебя листочек-другой вырву закрыть банку.
– Мама, а вы не можете закрывать банки крышками или газеткой?
– Я тебя зачем рожала, чтобы ты родной маме поганые вопросы ставил?
– Попрошу прощения, если обидел, – извинился Мендель.
– И правильно. Когда ты в пеленки какал, а я тебя спрашивала, зачем ты это сделал, что ты мине отвечал?